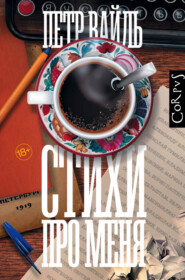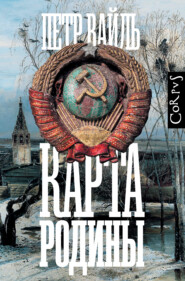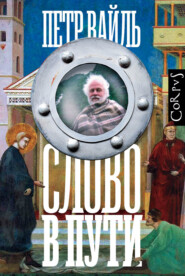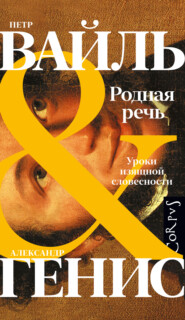По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Родная речь. Уроки изящной словесности
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все что-то видно впереди
Светло, синё, разнообразно.
И едешь час, и два, день целый; вот резво
Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,
Все та же гладь, и степь, и пусто, и мертво…
Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь.
Кто произнес эти страшные, безнадежные слова, эти сбивчивые строки – одни из самых трогательных и лиричных в русской поэзии? Все он же – Александр Андреич Чацкий, российский Гамлет.
Здесь гладкопись “Горя от ума” начисто исчезает, и ловкий четырехстопный ямб переходит в пяти-, а затем и в тяжеловесный шестистопный. Это нестройное мышление истинно трагического героя.
Это шекспировский тупик умного, несчастного, глубоко и тонко чувствующего человека. Просто время иное, да и жанр другой. Потому рядом не обреченная Офелия, а ветреная Софья (“не то блядь, не то московская кузина”, по Пушкину). И противник – не Лаэрт с отравленной шпагой, а Молчалин с бумагами. И после главных слов появляется не кающаяся мать, а балагур Репетилов.
Карнавально, по-меркуциевски начав, Чацкий избежал его смертельного исхода – хотя мог и не избежать: дуэли были в ходу, и был же ранен на дуэли с Якубовичем сам Грибоедов. Однако “Горе от ума” – комедия, стрельба тут неуместна. Но конец Чацкого так же трагичен, как конец Гамлета, до которого не успел вырасти Меркуцио. Чацкий, конечно, остается жив и куда-то благополучно уезжает в карете. Но это и есть гибель – исчезновение со сцены. В конце концов, куда унесли Гамлета четыре капитана? За кулисы.
Но в соответствии с гражданским подходом к литературе закулисное бытие грибоедовского героя тоже волновало общественность – и не меньше, чем бытие сценическое. Те, кто оценивал пьесу как прогрессивную, полагали, что Чацкий пойдет прямиком в революцию. Однако почвенник Достоевский по-иному анализировал реплику “Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету…”. Он писал: “Ведь у него только и свету, что в его окошке, у московских хорошего круга – не к народу же он пойдет. А так как московские его отвергли, то, значит, “свет” означает здесь Европу. За границу хочет бежать”.
Концовка соображения звучит прямым доносом, и это современно. Так современен и своевременен главный вопрос: глуп или умен Чацкий? Если, будучи носителем прогрессивных оппозиционных идей, – глуп, то тогда понятно, почему он суетится, болтает, мечет бисер и профанирует. Если же признать Чацкого умным, то надо признавать и то, что он умен по-иному. Осмелимся сказать: умен не по-русски. По-чужому. По-чуждому. Для него не разделены так бесповоротно слово и дело, идея обязательной серьезности не давит на его живой, темпераментный интеллект.
Он иной по стилю. Разве общество отвергает Чацкого за идеи? Прочтем отрывок:
А все Кузнецкий мост и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!
По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям,
Движенья связаны, и не краса лицу;
Смешные, бритые, седые подбородки!
Как платья, волосы, так и умы коротки!..
Пламенное проклятие иноземному засилью. Кто же это так возмущен? Да все: первые шесть строк в этом составном монологе принадлежат Фамусову, последние шесть – Чацкому.
Так кочуют по пьесе и по жизни основополагающие российские идеи. А кто высказывает их – не различить под гладким покровом русского ямба.
Чацкий враг Фамусову в ином. Обществу не нравится его стиль: ерничанье, шпильки, неуместный смех. Человек положительный и рассудительный так себя не ведет. Это – осознанно или нет – ощущается и персонажами пьесы, и ее читателями. Ведь и сумасшедшим Чацкого объявляют всего лишь за насмешки и несерьезность. Поводом становится реплика Софьи после очередной пикировки с Чацким: “Он не в своем уме”. Хотя в той конкретной перебранке Чацкий ничего из ряда вон выходящего не сказал:
Молчалин! – кто другой так мирно все уладит!
Там моську вовремя погладит,
Тут впору карточку вотрет…
Вялые нападки, но примечательные. Молчалин и все другие соблюдают правила игры (“вовремя погладит”). А Чацкий – нет. Он играет по своим правилам.
Стилистическое различие важнее идейного, потому что затрагивает неизмеримо более широкие аспекты жизни – от манеры сморкаться до манеры мыслить. Поэтому так странен окружающим Чацкий, поэтому так соблазнительно объявить его сумасшедшим, взбалмошным, глупым, поверхностным. А он, конечно, вменяем, умен, глубок. Но – по-другому. Он – чужой.
Эта чуждость обусловила не утихающие полвека споры – кто является прототипом Чацкого. Слишком непонятен грибоедовский герой, требуется поместить его в какую-нибудь шкалу: ретроградов или революционеров, дураков или мудрецов, или уж, по крайней мере, найти ему соответствие в истории.
И во всех концепциях сквозит недоумение: зачем с такой парламентской страстью выступать перед недоумками? В этом и вправду присутствует недостаток здравого смысла – но не ума! Это разные категории, и если здравым смыслом обладает как раз масса, то ум – удел одиночек. Если же эти одиночки еще и преступно веселы, то осуждение следует незамедлительно: за отказ от положительных идеалов, нигилизм, беспринципность, цинизм, пустоту, забвение святынь. Блестящие интеллектуальные вертопрахи вроде Чацкого во все российские времена портили правильную картину противостояния добра и зла.
Нерусская новизна грибоедовского героя вызывала сомнения и в самом качестве “Горя от ума”. “Ни плана, ни мысли главной, ни истины” не обнаружил в комедии Пушкин, тут же воздав должное автору: “Грибоедов очень умен”. Примерно то же писал Грибоедову Катенин: “Дарования больше, чем искусства”.
Подтверждая характеристику Пушкина, Грибоедов возражал Катенину: “Искусство только в том и состоит, чтоб подделываться под дарование”.
Это – блистательная отповедь гениального дилетанта крепкому профессионалу. Тогда, в самом начале русской литературы, такое торжество дара над ремеслом еще было возможно. Грибоедов и был одним из последних, кто занимал промежуточное место между любимцем муз и властителем дум.
У него была другая профессия, но в истории России Грибоедов остался не дипломатом, а писателем. Он, погибший в 34 года, занял место рядом с вечно молодыми поэтами России – Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, Маяковским. Но – редкий случай в нашей словесности – пал жертвой не поэтической деятельности: персы растерзали его как посла империи. Грибоедов не прошел в литературе предназначенный огромным талантом путь, уподобившись все-таки скорее Меркуцио, чем Гамлету. Весело и размашисто он произнес лишь свой первый монолог – комедию “Горе от ума”, – оставив потомкам непонятного и непонятого Чацкого. Да еще – одну из самых жутких сцен русской литературы в пушкинском “Путешествии в Арзрум”: “Откуда вы? – спросил я их. – Из Тегерана. – Что вы везете? – Грибоеда”.
Хартия вольностей
Пушкин
Благодаря Пушкину мы знаем массу вещей, имеющих к нему отношение самое косвенное. Пушкинская эпоха не ощущается отдаленной историей. Есть в ней некая тревожная актуальность, некая взволнованная занимательность, из-за которой нам интересно все, что окружало Пушкина, – кибитки, наряды, чины, рецепт брусничной воды (на четверик брусники три ведра воды).
Ученые так добросовестно изучили этот период, что он кажется самым ярким в нашем прошлом, что, может быть, и несправедливо – история ведь часто подчиняется читательским капризам. Мы, кажется, можем проследить каждый день в жизни Нерона, но путаемся в биографиях куда более достойных Траяна и Адриана.
Но куда лучше своей эпохи известен сам Пушкин. Наверное, нет другого русского человека, чью бы жизнь уже два столетия так прилежно изучали во всех мыслимых ракурсах. (Бесконечность этого занятия говорит не столько о Пушкине, сколько о загадке человеческой индивидуальности вообще.)
Образ Пушкина давно уже затмил самого Пушкина. Его творчество стало поводом, оправданием для самостоятельного существования этого гармонического шедевра. В небывалом в русской литературе органическом слиянии человека и поэта и заключается уникальность Пушкина. Но уникальность означает и противостояние потоку, направлению, даже самой концепции национальной литературы.
Пушкина выделяет его божественный эгоизм. Не зря он совершенно чужд жизнеучительству – Пушкин строил свою жизнь, а не чужую. Вот это исключительное, по крайней мере до Чехова, осознание ценности личности, индивидуальности, неповторимости, штучности человека – и есть черта, обрекшая Пушкина на долгое одиночество в нашей классике.
Ведь вот что, например, писал Достоевский, которого так мучила проблема свободного человека: “Последнее развитие личности именно и должно дойти до того, чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего Я, – это как бы уничтожить это Я, отдать себя целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Это-то и есть рай Христов”.
И идеал этот был бы странен Пушкину, и жертва, которой требовал Достоевский, была бы для него неприемлемой. Чужд был Пушкину и своеобразный русский “буддизм” с его страхом перед эгоизмом личного “я”, в котором западные исследователи, начиная с “открывателя” российской словесности француза Вогюэ, видели особенность нашей литературы.
Перед Пушкиным стоял другой идеал, который он и воплотил в стихах.
Пушкин – это прежде всего те две сотни главных стихотворений, которые и составляют корпус всех школьных изданий.
Не поэмы, не драмы, не повести, даже не “Онегин”. Пушкин – поэт, автор стихотворений. Все остальное – следствие разветвления, усложнения или упрощения главного дела его жизни.
Поэма или повесть пишутся, лирические стихи – сопутствуют, являясь не фактами творческой биографии, а самой биографией. Может быть, в этом разница между писателем и поэтом: первый – автор произведений, второй – автор особого восприятия мира. В стихах нет героя, кроме автора. Стихи, как письма, интимны. Между поэтом и читателем нет посредников в виде сюжета или образов. Все, что он хочет сказать, он говорит сам. Не Мазепа, не Дубровский, не капитанская дочка, а Пушкин.
Сборник хрестоматийных стихов Пушкина – это наибольшее приближение к тому, что называется “Пушкин”. И если читать эту книгу подряд, в хронологическом порядке, то мы обнаружим в ней один из самых сложных и увлекательных романов русской литературы.
Черты классического романа этой книге придает естественная последовательность – от рождения поэта до его смерти. Эволюция главного героя – тема книги. От страницы к странице меняется герой, а вместе с ним и форма, в которой запечатлены эти перемены.
Конечно, каждое стихотворение по отдельности – законченное произведение, но внутри сборника они – главы одной книги.
Начинается эта книга со свободы. Это ключевое понятие для Пушкина. Двадцать лет он исследует разные виды свободы, с приключениями которой связаны чуть ли не все его страницы.
Вначале свобода называлась вольность. Причем для Пушкина-дебютанта это понятие еще мало отличается от тавтологического сочетания – фривольность.
Светло, синё, разнообразно.
И едешь час, и два, день целый; вот резво
Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,
Все та же гладь, и степь, и пусто, и мертво…
Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь.
Кто произнес эти страшные, безнадежные слова, эти сбивчивые строки – одни из самых трогательных и лиричных в русской поэзии? Все он же – Александр Андреич Чацкий, российский Гамлет.
Здесь гладкопись “Горя от ума” начисто исчезает, и ловкий четырехстопный ямб переходит в пяти-, а затем и в тяжеловесный шестистопный. Это нестройное мышление истинно трагического героя.
Это шекспировский тупик умного, несчастного, глубоко и тонко чувствующего человека. Просто время иное, да и жанр другой. Потому рядом не обреченная Офелия, а ветреная Софья (“не то блядь, не то московская кузина”, по Пушкину). И противник – не Лаэрт с отравленной шпагой, а Молчалин с бумагами. И после главных слов появляется не кающаяся мать, а балагур Репетилов.
Карнавально, по-меркуциевски начав, Чацкий избежал его смертельного исхода – хотя мог и не избежать: дуэли были в ходу, и был же ранен на дуэли с Якубовичем сам Грибоедов. Однако “Горе от ума” – комедия, стрельба тут неуместна. Но конец Чацкого так же трагичен, как конец Гамлета, до которого не успел вырасти Меркуцио. Чацкий, конечно, остается жив и куда-то благополучно уезжает в карете. Но это и есть гибель – исчезновение со сцены. В конце концов, куда унесли Гамлета четыре капитана? За кулисы.
Но в соответствии с гражданским подходом к литературе закулисное бытие грибоедовского героя тоже волновало общественность – и не меньше, чем бытие сценическое. Те, кто оценивал пьесу как прогрессивную, полагали, что Чацкий пойдет прямиком в революцию. Однако почвенник Достоевский по-иному анализировал реплику “Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету…”. Он писал: “Ведь у него только и свету, что в его окошке, у московских хорошего круга – не к народу же он пойдет. А так как московские его отвергли, то, значит, “свет” означает здесь Европу. За границу хочет бежать”.
Концовка соображения звучит прямым доносом, и это современно. Так современен и своевременен главный вопрос: глуп или умен Чацкий? Если, будучи носителем прогрессивных оппозиционных идей, – глуп, то тогда понятно, почему он суетится, болтает, мечет бисер и профанирует. Если же признать Чацкого умным, то надо признавать и то, что он умен по-иному. Осмелимся сказать: умен не по-русски. По-чужому. По-чуждому. Для него не разделены так бесповоротно слово и дело, идея обязательной серьезности не давит на его живой, темпераментный интеллект.
Он иной по стилю. Разве общество отвергает Чацкого за идеи? Прочтем отрывок:
А все Кузнецкий мост и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!
По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям,
Движенья связаны, и не краса лицу;
Смешные, бритые, седые подбородки!
Как платья, волосы, так и умы коротки!..
Пламенное проклятие иноземному засилью. Кто же это так возмущен? Да все: первые шесть строк в этом составном монологе принадлежат Фамусову, последние шесть – Чацкому.
Так кочуют по пьесе и по жизни основополагающие российские идеи. А кто высказывает их – не различить под гладким покровом русского ямба.
Чацкий враг Фамусову в ином. Обществу не нравится его стиль: ерничанье, шпильки, неуместный смех. Человек положительный и рассудительный так себя не ведет. Это – осознанно или нет – ощущается и персонажами пьесы, и ее читателями. Ведь и сумасшедшим Чацкого объявляют всего лишь за насмешки и несерьезность. Поводом становится реплика Софьи после очередной пикировки с Чацким: “Он не в своем уме”. Хотя в той конкретной перебранке Чацкий ничего из ряда вон выходящего не сказал:
Молчалин! – кто другой так мирно все уладит!
Там моську вовремя погладит,
Тут впору карточку вотрет…
Вялые нападки, но примечательные. Молчалин и все другие соблюдают правила игры (“вовремя погладит”). А Чацкий – нет. Он играет по своим правилам.
Стилистическое различие важнее идейного, потому что затрагивает неизмеримо более широкие аспекты жизни – от манеры сморкаться до манеры мыслить. Поэтому так странен окружающим Чацкий, поэтому так соблазнительно объявить его сумасшедшим, взбалмошным, глупым, поверхностным. А он, конечно, вменяем, умен, глубок. Но – по-другому. Он – чужой.
Эта чуждость обусловила не утихающие полвека споры – кто является прототипом Чацкого. Слишком непонятен грибоедовский герой, требуется поместить его в какую-нибудь шкалу: ретроградов или революционеров, дураков или мудрецов, или уж, по крайней мере, найти ему соответствие в истории.
И во всех концепциях сквозит недоумение: зачем с такой парламентской страстью выступать перед недоумками? В этом и вправду присутствует недостаток здравого смысла – но не ума! Это разные категории, и если здравым смыслом обладает как раз масса, то ум – удел одиночек. Если же эти одиночки еще и преступно веселы, то осуждение следует незамедлительно: за отказ от положительных идеалов, нигилизм, беспринципность, цинизм, пустоту, забвение святынь. Блестящие интеллектуальные вертопрахи вроде Чацкого во все российские времена портили правильную картину противостояния добра и зла.
Нерусская новизна грибоедовского героя вызывала сомнения и в самом качестве “Горя от ума”. “Ни плана, ни мысли главной, ни истины” не обнаружил в комедии Пушкин, тут же воздав должное автору: “Грибоедов очень умен”. Примерно то же писал Грибоедову Катенин: “Дарования больше, чем искусства”.
Подтверждая характеристику Пушкина, Грибоедов возражал Катенину: “Искусство только в том и состоит, чтоб подделываться под дарование”.
Это – блистательная отповедь гениального дилетанта крепкому профессионалу. Тогда, в самом начале русской литературы, такое торжество дара над ремеслом еще было возможно. Грибоедов и был одним из последних, кто занимал промежуточное место между любимцем муз и властителем дум.
У него была другая профессия, но в истории России Грибоедов остался не дипломатом, а писателем. Он, погибший в 34 года, занял место рядом с вечно молодыми поэтами России – Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, Маяковским. Но – редкий случай в нашей словесности – пал жертвой не поэтической деятельности: персы растерзали его как посла империи. Грибоедов не прошел в литературе предназначенный огромным талантом путь, уподобившись все-таки скорее Меркуцио, чем Гамлету. Весело и размашисто он произнес лишь свой первый монолог – комедию “Горе от ума”, – оставив потомкам непонятного и непонятого Чацкого. Да еще – одну из самых жутких сцен русской литературы в пушкинском “Путешествии в Арзрум”: “Откуда вы? – спросил я их. – Из Тегерана. – Что вы везете? – Грибоеда”.
Хартия вольностей
Пушкин
Благодаря Пушкину мы знаем массу вещей, имеющих к нему отношение самое косвенное. Пушкинская эпоха не ощущается отдаленной историей. Есть в ней некая тревожная актуальность, некая взволнованная занимательность, из-за которой нам интересно все, что окружало Пушкина, – кибитки, наряды, чины, рецепт брусничной воды (на четверик брусники три ведра воды).
Ученые так добросовестно изучили этот период, что он кажется самым ярким в нашем прошлом, что, может быть, и несправедливо – история ведь часто подчиняется читательским капризам. Мы, кажется, можем проследить каждый день в жизни Нерона, но путаемся в биографиях куда более достойных Траяна и Адриана.
Но куда лучше своей эпохи известен сам Пушкин. Наверное, нет другого русского человека, чью бы жизнь уже два столетия так прилежно изучали во всех мыслимых ракурсах. (Бесконечность этого занятия говорит не столько о Пушкине, сколько о загадке человеческой индивидуальности вообще.)
Образ Пушкина давно уже затмил самого Пушкина. Его творчество стало поводом, оправданием для самостоятельного существования этого гармонического шедевра. В небывалом в русской литературе органическом слиянии человека и поэта и заключается уникальность Пушкина. Но уникальность означает и противостояние потоку, направлению, даже самой концепции национальной литературы.
Пушкина выделяет его божественный эгоизм. Не зря он совершенно чужд жизнеучительству – Пушкин строил свою жизнь, а не чужую. Вот это исключительное, по крайней мере до Чехова, осознание ценности личности, индивидуальности, неповторимости, штучности человека – и есть черта, обрекшая Пушкина на долгое одиночество в нашей классике.
Ведь вот что, например, писал Достоевский, которого так мучила проблема свободного человека: “Последнее развитие личности именно и должно дойти до того, чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего Я, – это как бы уничтожить это Я, отдать себя целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Это-то и есть рай Христов”.
И идеал этот был бы странен Пушкину, и жертва, которой требовал Достоевский, была бы для него неприемлемой. Чужд был Пушкину и своеобразный русский “буддизм” с его страхом перед эгоизмом личного “я”, в котором западные исследователи, начиная с “открывателя” российской словесности француза Вогюэ, видели особенность нашей литературы.
Перед Пушкиным стоял другой идеал, который он и воплотил в стихах.
Пушкин – это прежде всего те две сотни главных стихотворений, которые и составляют корпус всех школьных изданий.
Не поэмы, не драмы, не повести, даже не “Онегин”. Пушкин – поэт, автор стихотворений. Все остальное – следствие разветвления, усложнения или упрощения главного дела его жизни.
Поэма или повесть пишутся, лирические стихи – сопутствуют, являясь не фактами творческой биографии, а самой биографией. Может быть, в этом разница между писателем и поэтом: первый – автор произведений, второй – автор особого восприятия мира. В стихах нет героя, кроме автора. Стихи, как письма, интимны. Между поэтом и читателем нет посредников в виде сюжета или образов. Все, что он хочет сказать, он говорит сам. Не Мазепа, не Дубровский, не капитанская дочка, а Пушкин.
Сборник хрестоматийных стихов Пушкина – это наибольшее приближение к тому, что называется “Пушкин”. И если читать эту книгу подряд, в хронологическом порядке, то мы обнаружим в ней один из самых сложных и увлекательных романов русской литературы.
Черты классического романа этой книге придает естественная последовательность – от рождения поэта до его смерти. Эволюция главного героя – тема книги. От страницы к странице меняется герой, а вместе с ним и форма, в которой запечатлены эти перемены.
Конечно, каждое стихотворение по отдельности – законченное произведение, но внутри сборника они – главы одной книги.
Начинается эта книга со свободы. Это ключевое понятие для Пушкина. Двадцать лет он исследует разные виды свободы, с приключениями которой связаны чуть ли не все его страницы.
Вначале свобода называлась вольность. Причем для Пушкина-дебютанта это понятие еще мало отличается от тавтологического сочетания – фривольность.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: