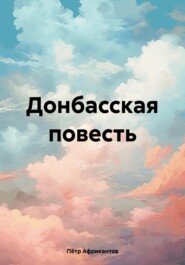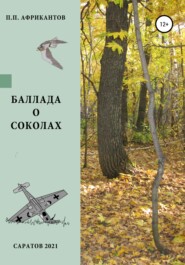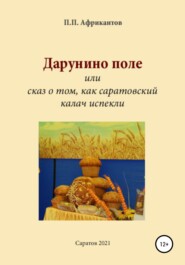По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Странные истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кресло же у Ивана-дурака особенное, с подлокотниками и спинкой из крокодиловой кожи и даже с вращением и не только туда-сюда, но и оттуда – туда и даже туда – отсюда и даже с замедлителем хода, чтоб кайфа больше.. Поворачивается Иван Ефимович, а кресло его любое желание исполняет, будто ум имеет. Вот такое кресло у Ивана Ефимовича. И стол у Ивана Ефимовича необычный, только о столе мы немного попозже расскажем, потому, как на следующей должности у него стол был куда лучше, зачем же о более худшем рассказывать.
5.
Из депутатов Иван Ефимович с подачи Гаврилы Тихоновича в отраслевые министры махнул. И самое главное, какую бы он бумагу как депутат, а затем и как отраслевой министр области, не читал – ему было всё очень понятно. Придет, например, бумага, в которой очередной закон прописан, а Ивану, как депутату надо отмашку дать, или утвердить. Тут всё просто: если бумаги с конвертом – то утвердить, а если без…– то на Гаврюшино усмотрение.
С Гаврюшей никто не спорил, разве, что его бывший сокурсник – Громкогласов Илья, которого он приютил под своим крылом, и то, только потому, что во время учёбы в институте они были с ним дружны, и ещё Громкогласов был студент недюжинных способностей. Так вот этот Громкогласов до чего докатился, взял, зашёл в кабинет к Ивану Ефимовичу, да так раз, и всю ему правду-матку в глаза и выложил:
– «Это чему тебя учил прфессор Умнов!?..,– говорит.– Ты чего это творишь? Что ты за договора с бельгийцами подписал? Что, совсем крыша поехала? Закон через думу протащил, людям в нищету, а курам на смех. Ты же читал статьи академика Пивоварова, тебе ли мне рассказывать, чем всё это кончится?..
Иван Ефимович его и слушать не хочет, своё гнёт. А Гаврюша рядом невидимо стоит и на ухо Ивану Ефимовичу словно лапшу, опровержения вешает, и чтоб не слетали, прискрепочками миниатюрными пришпиливает, а в лапше той, опять же про свободное развитие рынка, про максимальный либерализм, демакратию и права человека. Громкогласов спорил с ним, спорил, плюнул, понял, что доказывать что- либо, бесполезно, и стал думать, а думать Громкогласову было о чём. Во-первых, он понимал, что если Ваньку не остановить, то он такого наворочает, что вся страна в трубу вылетит и с его законами, и с распоряжениями, потому как он видит, что Ванька не в себе, а никто, кроме Громкогласова этого не замечает.
Хотел он было его жене объяснить, что к чему, да не пробьёшься. В коттедже элитном живёт, по заграницам разъезжает, дети в Гарварде учатся, счета в банках… Наконец, застал её раз дома, так эта Лилечка, с бывшей параллельной группы на его доводы и внимания не обратила:
– Тебе просто завидно, Илья, что мой Иван достиг, а ты нет. Тебе бы пользоваться нашей благосклонностью, а ты нос дерёшь: то тебе не эдак, а это не так… Хочешь, я тебя свожу в Швейцарию, посмотришь как люди живут?
– Сдались мне эти швейцарцы,– буркнул Илья.
– Да не швейцарцы, полоумный,– сказала она немного надменно,– а наши, русские в Швейцарии.
– Представляю,.. спасибо,.. не надо.
– Плохо представляешь… Представлял бы лучше – не брыкался.– и ушла…
– «Вот стервоза,– подумал Илья.– Иван гибнет, а она рада-радёшенька. Видно, кроме шмоток, бабам ничего не надо. Однако решать этот вопрос требуется незамедлительно».
Всё идёт у лешачонка хорошо, всё гладко: Ивана-дурака пристроил, законы для претворения в жизнь навыдумывал. А если не удавалось полностью свой закон протащить, так хоть запятую, а не там поставит и всё выходит по-лешаковски. И всё бы ничего, только этот Громкогласов невесть откуда свалился. Про любовь к Родине и народу толкует, про многовековую культуру Полуденной и прочее. Вреднейший человек оказался. Критику на Гаврюшины закидоны наводит. Сколько Гаврюша втолковывал Ивану о том, что страна Рыжего заката – это благо, что у них нетрадиционная половая ориентация не в загоне, как у нас. Даже уже склонил Ивана к тому, чтобы её и в Полуденной стране узаконить, но не тут-то было. Объявился этот Громкогласов, да и говорит Ивану-дураку: «Креста на тебе, Иван, нет».
Креста на Иване действительно не было, обронил его где-то Ванюша, когда мальцом был, а новый приобрести – не удосужились родители, так с тех пор без креста и ходит. В церкви ни разу не был, а попов считал, как и было написано в книжке, по которой экзамен сдавали в институте, никак иначе, как анахронизмом – пережитком прошлого, значит. И до того он в эту – рыжую демократию поверил, аж жуть. Над своей кроватью вместо ковра с тройкой и бубенцами, ковёр с этой самой статуей надменной повесил, а тройку в чулан за ненадобностью бросил. Самым умным из экономистов – считал Фороса и так далее.
Только вот Громкогласов так не считал и всегда против Рыжей страны и Фороса что-нибудь противное да скажет. И это Ивану-дураку не очень нравилось, а Гаврюше особенно.
Так вот, хотел Гаврюша убрать этого товарища институтского, да Иван-дурак запротивился – старая дружба, дескать. Вот тут-то и почувствовал Гаврюша, как не хватает ему знаний, что в бесовской академии проходят. Например, что такое дружба? – ему было совсем непонятно и любовь к Родине заодно, к ближнему, в частности. Он на это раньше и внимания не обращал, потому как считал всё это пустым звучанием. И вот на тебе, это самое пустое звучание втыкает ему палки в колёса. Да тут ещё эти крестоносцы, иереи объявились, ходят, кадилами машут, приличному лешаку работать мешают, потому, как этой вони ни один уважающий себя лешак не выносит. А тут прямо поветрие пошло – стали на себя люди крестики вешать, мода такая объявилась, как копытная мозоль.
Вот и Иван-дурак повесил крестик, здоровенный такой на золотой цепочке, говорит, что не хочет от других отличаться…
Раз мода, так мода… Это даже хорошо, что из-за моды повесил, а не по мозговым соображениям. Только одно неудобство для лешачонка всё же было в этой затее. Раньше Ивану лешак что угодно мог на ухо нашептать, а теперь близко не подступишься, только можно издали говорить, крест мешает. Он хоть для Ивана и атрибутный, только не для лешака. Нового-то теперь Ивану в мозги не внедришь, одно старое, что раньше внедрил, осталось… Беспокойство, да и только.. А тут когортный отчёт требует, запросами замучил. Ему результаты подавай, а какие результаты?.. Про Громкогласова что ли рассказывать, вот и приходится выворачиваться. Потом Иван-дурак возьмёт да нет-нет что-нибудь и выкинет. Вот на прошлой неделе выпил коньячку малость и в микрофон начал о судах на равной и свободной состязательности говорить. Хорошо Гаврюша вовремя микрофонный провод перекусил.
Ах! Да, про этих злосчастных попов, которых иереями зовут, никак нельзя не рассказать, потому, как от них главная беда исходит, особенно от монашествующих. Оденут чёрные одежды и ходят выпендриваются, добрым лешакам на хвосты наступают. Как тут профессоров из академии не вспомнить. Всё верно говорили… И откуда повылазили? Как тараканы! Раньше, как он помнит, никого не было – одна церквушка захудалая стоит, на двести километров вокруг больше ни одной и всё. Народ вообще и лбы то не крестил, а уж там требы подать или причаститься, об этом и речи не было.
Лешаческое воинство то же относительно спокойно жило, знай себе по болотам ухает. Чего к народу-то приступать, когда он, за малым исключением, их поля ягода. Если там по злому умыслу колдун порчу и наведёт, так люди ни в церковь бегут, ни в монастырь, а к «бабке» или «дедке», которые под их же лешаческим контролем и работают, только многие из людей этого не понимали.
Обставятся эти «бабки» иконами, да зажгут вязанку свечей и волхвуют. Чего они над людьми читают, того последние не понимают, думают, что это молитвы святых угодников, а на-ка, выкуси. Есть, конечно, молитовки и из молитвослова, но это так, для прикрытия. Главной среди них является та, которую древний Смрадный лешак вручил. Жаль, что его Гаврюша никогда не видел, потому, что не по чину, о нём даже тысяченачальники шёпотом говорят.
И если самого главного беса Гаврюша не видел, то одного из главных чародеев, а точнее, чародейку повидать пришлось. Хотя, что там смотреть,– тьфу, прости ты меня, нечистая сила, идёт древняя бабулька, вся высохла, в руке клюка, сгорбилась, аж до земли, а по бокам её воинство бесовское разных сословий и рангов сопровождает, потому как все ей служат, споткнуться не дадут. Люди, разумеется, этого не видят, но боятся, потому как, что захочет старуха, так воинство лешаческое всё исполнит. По сравнению с ней, даже те, что по телевидению выступают, руками там машут, мази и кремы заговаривают – можно сказать – мелочь пузатая. Если эта старушенция захочет в кого из людей одного из своих слуг вселить – считай, пропал человек, никакой другой колдун его из этого человека не выгонит и к бабке этой, чтоб её мучить, не отошлёт. Это даже звучит как-то смешно.
А вообще, бес беса не выгоняет, по большому счёту; человек, обратившийся к колдуну за помощью, сам становится, через свою в них веру, причастником их дел, а своих они стараются не обижать. Так, устроят маленький междоусобчик, «стрелкой» по-современному называется, вопросы свои порешат, и все дела. Друг с дружкой ещё в разные защиты, да наветы поиграют, это у них такие приколы, и разойдутся. А тот бедолага, что к ним за помощью обратился, он им по большому счёту и не нужен. Есть у того «крыша» – оставят в покое; нет «крыши» – не обессудь, так всю жизнь и будет маяться.
И потом: в тёмном воинстве свои чиновники, свои министерства, ведомства, так что не всё так просто. Одним словом, идут людишки к этим «бабкам» и «дедкам» вереницей. А того им невдомёк, что вполне могут обойтись без них, потому как давно забыли – кто они такие есть? Об этом среди лешаков говорить не принято, зачем противному воину напоминать о кольчуге перед битвой, забыл, так и хорошо. Тут не до рыцарства, лишь бы шерсть сохранить. Люди забыли, что их главная защита – церковь и храмы, которые они в стойла по своему неразумению и по наущению лешаческому превратили. В последнее время немного понимать стали, храмы появились, монастыри, а в них эти монахи – тараканы чёрные.
Ох, и не любил Гаврюша этих, монахов, страсть как. Иереев не из монахов ещё терпел, а их нет. К ним не подступиться. Своего ничего не имеют, кроме креста, золота им не надо и заморскими курортами их не соблазнишь. Знай себе днями и ночами молятся. Им и старуха-колдунья не указ. Но это ещё не самое страшное.– Есть среди этой братии такие зловредные, что своими молитвами попаляют бесовское воинство и бегут лешаки от их креста – мощевика куда глаза глядят, тут никакие хитрости бесовские помочь не могут. Если сами люди себе же и не навредят.
А этот зловредный монах знай себе кадилом машет – вонь противную распространяет, чтоб уж совсем лешаку было дышать нечем; святой водой, над которой специальные молитвы прочитаны, брызгает; святую книгу, чтоб ей ни дна, ни покрышки, на голову страждущим кладёт, свечи зажигает, молитвы читает, от которых невмоготу становится, да ещё крестом всех осеняет. Нет, такого не только видеть, но и чувствовать, не приведи, Сатана.
И ещё не меньшая напасть – святые источники из-под спуда вышли. Вода в них холодная-холодная, а люди всё равно в неё как оглашенные прыгают. Вот ещё наказание. Внушаешь этим людям, внушаешь: «Вода-то холодная, аки лёд, куда ты, сердешный, лезешь без всякого жирового запасу. Прыгнешь – и душа из тебя бедолаги вон, если не разрыв сердца,– то простуда, как минимум, обеспечена, а того гляди и больше». Нет же – прыгают, редкий послушается его лешаческого вразумлению и отойдёт от источника.
В общем, находятся те, кто к монахам не идёт, и эта единственная отдушина в жизни лешаческой. И боится Гаврюша только одного, чтобы не затащил ненароком этот Громкогласов, бесам воли не видать, его Ивана-дурака в церковь. Вот о чём у лешачка вся душа изболелась, гори ты тогда бесовским огнём и чин, и звания, загонят чиноначальники туда, где Макар телят не пас и будешь только по пустынным болотам ухать да кикимор дразнить. И это почитать будешь за милость.
Подумал так Гаврюша – и вздрогнул. Такая перспектива была-а-а. И на тебе – всё против его шерсти. «Вот если бы как-нибудь этого Громкогласова извести, дружков подговорить что ли? – подумал он». Такая идея лешачку понравилась, он даже похвалил сам себя за такую идею.
– Молодец, Гаврюша,– сказал он сам себе,– не зря ты хвост носишь,– и полетел к дружкам. А те и рады стараться, Гаврюша у них в почёте, да и потом, когда-то в детстве вместе вблизи кладбища людей пугали и всякие козни людям чинили, один прохожий на могилке с мослом в руке и с гнилушкой в другой только чего стоит. Шелудивый, Хвостатый, Пятачок, Вислоухий, Копытошкин… в общем, все старые друзья горой за Гаврюшу; за друга детства кого угодно в распыл пустят. Только указал им Гаврюша недруга своего, этого самого Громкогласова, и начали лешачки к нему подступаться, да не тут-то было.
Громкогласов утренние и вечерние молитвы читает, крестится, в храм Непостижимого ходит, исповедуется. И так исповедуется, что у лешачков шерсть дыбом становится от страха. Всю подноготную о себе говорит и ничего не скрывает: посмотрел на соседку с интересом плотским и сразу к попу, полежал во время работы с часок на диванчике и об этом докладывает, так, мол, и так, повинен в воровстве отведённого на работу времени. Скользкий он для лешачков , ухватиться не за что, страсти от себя гонит, а это для лешачков лучшая зацепка, и ещё святых тайн Непостижимого причащается. То есть дружбу с самим Всемирным водит, где ж здесь подступишься.
Одно остаётся, чтоб Иван-дурак из-под влияния не выходил – надо супротивные мысли внедрять, а так как Иван-дурак человек в бесовских прилогах безграмотный и своих мыслей от его – Гаврюшиных- отличить не может, то этим и надо пользоваться. Здесь главное – человеческий ум не по той дороге направить.
Страшное дело – этот человеческий ум. Если он в помрачённом бесами состоянии – хорошо, а если нет, то просто беда. Сладу с ним никакого нет. Или вот: глядишь, человек профессорского звания, а ум тёмный. Вроде бы многие земные науки изучил, а главного не знает и даже не догадывается о нём. А писателей, журналистов и нравоучителей сколько с помрачённым умом ходят? просто чудненько, не говоря о министрах и экономистах. Помрачение здесь главное дело делает. Лешаки в этом деле своего не упустили – вложили в головы, что страсть к приобретательству – это хорошо, а довольствование малым, чему учат чёрные тараканы, – это плохо, это и есть помрачение ума.
6.
Иван-дурак, тем временем, за ум стал браться. А это означало, стал задумываться о смысле жизни и прочих тонкостях человеческого бытия. Сидит за столом и всякие ему мысли в голову лезут. Лежит себе ночью, а заснуть не может. Поедет за границу на отдых, катается с заснеженных гор в стране Рыжего заката, только и там его противные мысли достают. Вроде бы по его помрачённому уму – всё правильно делает, хочет как лучше сделать, а дело не идёт и получается как всегда. Бьётся он, старается, а ему всё лыко в строку. И чем больше он правильных вещей делает, тем больше его критикуют.
Совсем Иван в тупик вошёл: не делает ничего, всё на самотёк пустит – хвалят, аж слюной брызгают, газеты в руки взять нельзя, вся в слюне. Начнёт делать то, что сообразно со здравым смыслом – бранят, на чём свет стоит. Не может Иван ума приложить – как ему дело вести. Правда, он и о демократии и всех её атрибутах по-прежнему говорит, но уже как-то без вдохновения, без пафоса. И всё больше и больше желает с Громкогласовым разговаривать.
Жена о Громкогласове слышать не желает. Ивану-дураку, дети противятся, соратники его уже терпеть не могут, смуту даже против него, Ивана Ефимовича, затевают, хотят поста лишить, куда его, Ивана-дурака, несколько лет назад под бурные аплодисменты сами и водрузили. А тут ещё Иван засомневался в либеральных ценностях и при всех сказал, что наше могущественное телевидение есть цитадель порока. Что тут началось…, что началось: умопомрачённые с экрана не слезают, слюной брызгают, а из-за рубежа, ноту протеста против него – Ивана-дурака, прислали. И это-то при хвалёной свободе слова и совести.
Совсем уж было закручинился Иван-дурак, что делать – ума не приложит. Вроде бы ум его стал с одной стороны чуть-чуть светлеть, и он уже стал смекать, что к чему, а тут о нём говорят, что он и есть как раз настоящий дурак. И что это не прозвище и не фамилия такая, а его состояние, и что его нужно освидетельствовать, а эксперты должны быть независимые и из самых свободных стран мира, чтоб уж там никакого чёрного пиара, как- будто этот пиар не в самых свободных странах придумали?
Отчаялся, было, Иван: жить по-старому – совесть не велит, а по-новому – грехи не дают, грозят и про старые делишки напоминают, дескать, пойдёшь своей дорогой – опять в истопники отправишься и даже в школьных завхозах не задержишься. А быть снова истопником Ивану ой как не хочется. Там ведь не только стола с секретом нет, но даже дров приличных, чтоб без загогулин, свивов и наростов, от которых одни кровавые мозоли на руках. Вспомнил Иван про эти дрова и подумал: «А ведь отправят опять в истопники, а он, будучи на высоком посту, даже о дровах не позаботился, не то чтобы там… Да и стол было жалко, хороший стол, дубовый. А главное, в этом столе секрет есть – принесёт человек конвертик, Иван бумажками прошелестит и в стол.
Сколько его раз с этими конвертиками хотели застукать и ничего, стол спасал, его хоть рентгеном просвечивай и то ничего не обнаружишь.
В общем, заклинило Ивана: с одной стороны – совесть жить спокойно не даёт, а с другой – со столом расставаться жалко. А тут ещё этот референт Гаврюша…, знай свою песню выводит, про европейские ценности толкует, либерализм, да про Канары. Об этих Канарах Иван совсем слышать не может. Гаврюша говорит «Канары», а Иван первый слог почему-то не воспринимает и у него в голове звучит: «…нары, …нары, …нары.»
Случилось в этот момент прийти к Ивану-дураку Громкогласову Илье.
– Ты чего, Илюша, пришёл?– спрашивает Иван.
– Знаю, помощь тебе нужна, вот и пришёл.
– Это о какой ты помощи говоришь?
– О нашей помощи говорю, о христианской, православной.
– А в чём же она заключается?
– А вот поехали со мной – по дороге скажу.
– Куда ж мы с тобою поедем? Когда у меня дел невпроворот: встреча с экспертами, встреча с журналистами, нумизматами и прочей хренью. –