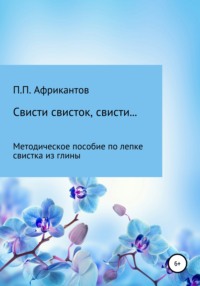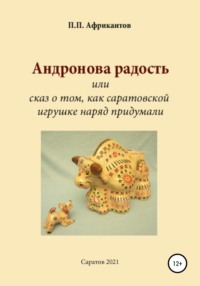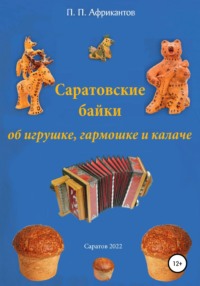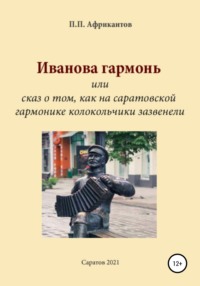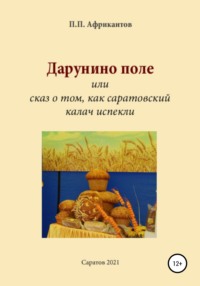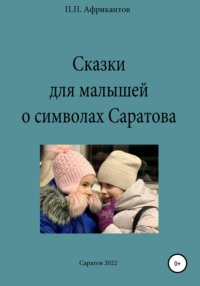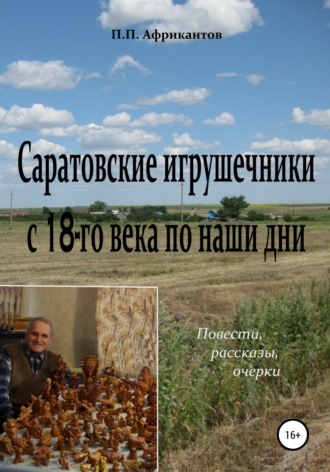
Саратовские игрушечники с 18 века по наши дни
– Взаимодополнение? – выговорил я, догадавшись, к чему меня выводил мастер.
– Вот именно, – обрадовался Пётр Петрович. – Ты зайди в цветочный ряд, где стоят одни гладиолусы… понравится? Вот тебе и ответ, цветоводы-дизайнеры это хорошо понимают. Понимали и наши предки, выставляя на прилавок игрушки разного плана…
– А с чего вы начинали – со «жженки» или с «сушки»? Когда уже всерьез-то за дело взялись…
Африкантов даже просиял – так ему нравилась наша беседа.
– С самого трудного, со «жжёнки»! Оглядываясь назад, скажу: сейчас бы, наверное, не взялся за это дело, делал бы одну «сушку»…
Он взял паузу, как бы собираясь с мыслями.
– Когда укоренилась во мне эта мысль – о воссоздании саратовской глиняной игрушки, посоветовался я с сестрой. Оказалось, она тоже отлично помнит ту игрушку, даже в деталях. У неё даже и сама игрушка такая была, с тех самых времен осталась, только куда-то задевала она её. Я поначалу долго примеривался: дело-то не простое, историческое. Новодел, конечно, лепить сподручнее, тут история за шиворот не держит. Но я так не хотел… Подготовительный этап длился года два. В основном, он был технологический: надо было найти глину в окрестностях города, ведь местные игрушечники за тридевять земель за глиной не ездили. Пришлось закинуть рюкзак на спину, в руки лопату взять – и
пойти по оврагам и овражкам. Много расспрашивал местных жителей. Те старались помочь, делились воспоминаниями. Эти разговоры многое дали. Саратовские старожилы мне даже показывали некоторые старые игрушки, но они были как-то не к душе. В памяти моей стояла игрушка, в которую я в детстве играл, и эта память оказалась ревнивой. Я играл вот в какую: в золотисто-коричневую, с подпалинами, терракотовую игрушку с вмятинками и штришками. Но к тому времени, как уже опытный гончар, я знал, что такой цвет получить довольно сложно. Нужно было найти глину, дающую после обжига точно такой цвет… Был и другой путь, более сложный: можно было добиться такого цвета, смешивая разные глины, одна из которых обязательно должна быть светложгущаяся, то есть принимающая после обжига белый или беловатый оттенок. Такой глины я тоже не находил. Товарищи мне говорили: делай «крашенку», она тоже в Саратове прежде в ходу была… Крашенка – это когда игрушку полностью красителем покрывали и расписывали… А я – нет, и всё. Кроме той, которая в глазах стоит, никакую другую делать не буду! Буду делать ту, которую хорошо помню, на которой вырос, которая в душе сидит!
Я слушал Петра Петровича, затаив дыхание.
– От меня тогда отмахнулись: дескать, ежели охота по буеракам с лопатой таскаться – таскайся. Перед семьёй было уже совестно – с копейки на копейку перебивались тогда. А я, взрослый мужик, отец семейства, всё в поле ветер ищу. И вдруг – удача. Помог шофёр поломавшегося грузовика, которому я немного помог, как бывший автомеханик. Он-то и сказал мне, что встретил однажды очень жирную глину около пересечения кольцевой дороги с Вольским трактом, около старой птицефабрики. Там, когда объездную дорогу делали, целый карьер отрыли, правда, он не знал, беложгущаяся эта глина, или нет. Сказал мне только, что она по цвету чёрная. Это дало мне надежду: главное, что не коричневая и не жёлтая. Эти после обжига обязательно красный или коричневый цвет дадут. А тут – чёрная… Когда я эту глину нашёл, она действительно оказалась в сыром виде чёрной. И глина была не только в карьере. В этом месте берег речки был сплошь из этой глины! Значит, доступность её для предков была абсолютная. Но вот какой она будет в обжиге – это было мне неизвестно. Смущало то, что по цвету и жирности такая же глина была гораздо ближе – в карьере керамзитового завода, и в карьере кирпичного, в Елшанке, ну – просто один в один. На деле же именно глина из карьера оказалась светложгущейся, а те – нет. Откуда этот пласт вынырнул, вообще неизвестно. Немного пришлось мне повозиться с подбором к этой глине пары. Глину для смешивания я нашёл на Алтынной горе, в овраге, где начинается дачный массив, она была желтоватая. Такие глины не дефицит, их можно найти повсюду, главной была та – светложгущаяся. Потом нужно было выявить процентное соотношение глин и определить режим обжига. С этим тоже пришлось повозиться. Пробы выявили приоритетную смесь. Оказалось, что если в смеси 40 процентов красножгущейся глины, то цвет на выходе самый благоприятный. Температура обжига – 700-800 градусов Цельсия…
Мастер умолк, отпил из чашки – и покачал головой: напиток давно уже остыл. Можно было поставить чайник заново, но Африкантову, судя по всему, не хотелось обрывать нить рассказа.
– И этот этап, Евгений, тоже был пройден. Наступил второй, самый в художественном плане щепетильный, но и интересный – этап душевного полёта. Я в это время прямо-таки не жил на земле, а летал по воздуху. Вспоминались старые игрушки, нарождались в душе свои, все они перемешивались, разговаривали друг с другом, прошлое и современное жило одной жизнью. И когда началась непосредственно лепка, я уже никому больше никаких вопросов не задавал, я просто лепил. И, как всякий мастер, старался сделать игрушку как можно более выразительной: подбирал штампики, разрабатывал и разделывал ямчатые рисунки, выискивал в душе новые образы. Ведь скопировать старую игрушку – для мастера какая польза? Да никакой! Никакой уважающий своё дело мастер этого делать не будет, он будет делать своё! Ещё важно было в изделиях проявить особенности игрушки, можно сказать, её строй. Именно музыкальный термин здесь более всего уместен, потому как одно это слово вмещает в себя многое. Так и вообще в игрушечном деле: у «дымковки» свой строй, у «ярославской» свой. Есть свой строй и у саратовской. И этот строй просто изумительный, ни на какой другой не похожий. И вот над этим-то строем и надо было мне работать. И вот, Евгений, какое странное дело: у Никитичны я старосаратовскую игрушку видел позже, а мыслями всё равно уходил в детство. Тогда всё было гораздо ярче, экспрессивнее. Думаю, меня выручила цепкая художественная память. Обычная-то память у меня не ахти какая. Спроси, кого как зовут, да ещё с какого года рождения – ни за что не отвечу. А вот лица, закаты, росписи – тут мне и напрягаться не надо, они так в глазах и стоят. Но не просто лица. Просто лицо я и не запомню, и узор тоже, если только, по выражению Шукшина, «по душе не шаркнуло», по моей образной памяти. И еще – фантазия. С детства у меня всё было с фантазией в порядке, малокрюковские ребятишки так «фантазёром» и называли. Никто не мог так чего-то напридумывать, как я. И всё эти задатки сохранились и в пожилом возрасте.
– Чудно как-то… – заметил я, – непостижимо…
– Да тут всё просто. Тебе вот дети встретились, пятиклашки. Казалось бы, чего в этом возрасте запомнишь? Ан нет… помнят, да ещё и как! Те девочки, с которыми я занимался пятнадцать лет назад, сами уже стали мамами, своих детей ко мне приводят. Приходят такие мамы, берут глину и сами садятся рядом с детками лепить. Я гляну: навыки и приёмы просматриваются невооружённым глазом. А сами ведь с пятого класса и глину в руки не брали. Так-то…
Старый игрушечник улыбнулся уголками губ.
– Сейчас вот хочу о саратовской глиняной игрушке детям книжонку написать, – продолжил он, – чтоб знали, что и как делать. А то, не ровен час, сгинет всё опять. Я уже и главки придумал…
– Петр Петрович, а о технологии лепки что-то можете сказать?
Мастер как будто ждал этого моего вопроса.
– Особенности лепки саратовской игрушки просты. Фигурки лепились в основном правильной формы, по крайней мере, козёл от барана отличался, а гуделки и свистки изготавливались отдельно, по другой лепной технологии, свистушечной. Их оттискивали в керамических формочках, гипса ведь не было. Слепит мастер барашка, высушит, а затем оттиснет в мягкой глине с двух сторон – вот тебе и формочка. Я и сейчас по старой технологии свистки делаю. Свистки, Евгений, делались без всяких излишеств. Как правило, слепленная фигурка «расточивалась». То есть, на её чуть подвяленное тело наносился древний ямчатый декор. Раньше мастера использовали для этой цели палочки с разными примитивными вырезками на концах. Эти палочки служили штампиками. По телу слепленного животного ими делали вмятинки. Потом в эти углубления, – не во все, а выборочно, исходя из художественного решения мастера, – закапывалась тонкотёртая коричневая глина, смешанная с молоком. Там она высыхала, и выскрести её оттуда не было никакой возможности. Использовалась в подкрашивании копыт, глаз, рожек, хвостиков чёрная глина, смешанная с молоком, или густо-коричневая. Чёрная глина – эта та самая беложгущаяся глина, – только в сыром виде, как я тебе уже говорил, она имеет чёрный или слегка голубоватый вид. Как видишь, наши предки на Саратовщине совсем не использовали ни анилиновых красителей, ни темперы, ни гуаши, а тем более масляных красок. Набор для изготовления был самый простой…
«Простой… А об игрушках этого не скажешь. Выглядят они не так уж и просто, – подумал я, – взять хотя бы того, купленного мною у Никитичны, конька».
– Я когда начинал торговать, один старичок подошёл и говорит: «Наконец, в Саратове опять ямчатая появилась. Думал, что сгинула, а она живая». На горшках сделать ямчатый декор – дело нехитрое, круглая форма принимает любое сочетание, а вот в игрушечном деле такая разделка поверхности представляет определённую сложность. Ладно еще, если надо подчеркнуть штришками вьющуюся гриву у коня или обозначить ресницы или глаз – это и в других местах делали. Но заслуга саратовских мастеров в том, что они стали геометрические штампиковые рисунки наносить на тело игрушки, а это – особое искусство. Вот, посмотри-ка…
Петр Петрович показал мне только что слепленное изделие, по телу которого шли выдавленные геометрические рисунки, ещё без подкраски ямок.
– Видишь, и подкрашивать не надо, рисунок сам за себя говорит. Раньше некоторые игрушечники и совсем не подкрашивали, продавят, и хорошо. Главная особенность рельефа состоит ведь в том, что свет, когда попадает в ямочки, отражается по-разному. Каждая вмятинка по-своему лучи отражает, потому и глаз привораживает. А гладкие изделия, те всей бочиной отражают, глаза слепят.
Наша игрушка искромётная. А искромётность зависит от частости ямок. Если на игрушке ямок чуть-чуть, то и искристости нет. Откуда же ей взяться…
Я разглядывал будущую игрушку: неподкрашенный рельеф выглядел весьма эффектно. Крестики, точки, звёздочки веером расходились на груди коня.
– Неотмирность какая-то, – сказал я, пытаясь проникнуть в идею рисунка.
– Именно так… – удовлетворённо сказал игрушечник. – Это ты правильно уловил и слово хорошее подобрал. Вот видишь, сам и определил главную особенность саратовской глиняной игрушки – «неотмирность». А по-нашему – просто сказочность. Обрати внимание: вроде те же лошадки, свинки, птички, а убери геометрический рельефный декор – и всё пропадает.
Как бы в подтверждение своей мысли, он поставил на стол другого конька, точно такого же по форме, но не декорированного ямчатым декором. И пристально посмотрел на меня, желая узнать реакцию.
Отличие было разительное. Гладенькая лошадка проигрывала в главном – это была просто лошадка, каких тысячи. А вот лошадку с рельефным декором и лошадкой как-то неудобно было назвать: в ней была некая фантастичность при абсолютной реальности: настоящая лошадиная голова, туловище, ножки-глиняные палочки. Всё, вроде бы, такое же, но совсем не такое.
– Дух другой, – выразил я своё ощущение.
– Верно, Евгений, – тем же удовлетворенным тоном сказал Африкантов, – вот в этом духе и вся изюминка. И выражается сей дух вот таким нехитрым способом: точками, крестиками, то есть ямками, а в целом иносказательно.
Пётр Петрович довольно потёр руки и повел речь о технологии дальше:
– Рисунок штампиками наносится не абы как. Это – очередная сложность. Каждая ямочка – это готовый неплоскостной рисунок. Он может быть мельче, глубже, но это все равно рисунок. Из таких оттисков составляется композиционный рисунок, который формирует характер изделия. Больше применил колечек – получился один характер изделия; заменил колечки на квадратики или крестики – стал характер совершенно другой…
Я засмотрелся на игрушки. Что-то обволокло мою душу, нереальное стало реальным, и лихой конь с косящим зраком, с множеством звёздочек на спине, предстал предо мной в совершенно ином плане: звёздочки – это Млечный путь в необъятном космосе, и по этому Млечному пути скачет конь, унося на своей спине вцепившегося в гриву малыша…
– Похоже на то, что ваша игрушка помогает человеку подняться над действительностью, осознать свою значимость, подсказывает ему, что человек – это создание божественное… Что земля – это его временное пристанище…
– Каждый человек, глядя на такую игрушку и размышляя, достигает до своего уровня понимания, – тихо и серьезно сказал мастер. – Это я хорошо осознал, стоя за прилавком. Вопрос с ухмылкой: «Почём, дядя, лошадь?» – это одно состояние души. И совсем другое дело, когда человек присаживается рядом с моим ящиком на корточки и долго смотрит, как вы тогда, помните?.. Я раньше думал: «Чего это они там разглядывают?». И только потом осознал – когда у одной покупательницы на глаза навернулись слёзы…
В коридоре раздались ребячьи голоса. Я понял, что идёт на занятия другая группа. Но прежде в комнату вошла статная девушка, старшеклассница. Немного смущаясь, она протянула Петру Петровичу на ладошке красивую глиняную птицу, изукрашенную ямчатым декором.
Лицо Африкантова просветлело:
– А ты говорила, не получится!..
– Форма получилась, Петр Петрович, а свисток всё равно шипит. Чего я ему сделала, чего он сердится? Как в детстве гуси шипели, так и сейчас шипят…. Я вам оставлю, посмотрите, пожалуйста, а я после уроков зайду… ладно?
– Заходи, Ириша, заходи.
Девушка, окинув меня взглядом, вышла.
– Узнал? Нет? – спросил мастер.
Я нерешительно пожал плечами.
– Да Иришка же это, правнучка Никитичны с Сенного!
– А, это у нее всё свистки не свистели, а шипели! Помню-помню, только разве её сейчас узнаешь…. Вон какая стала! К вам, значит, ходит лепке учиться?
– Не только учиться, – довольно сказал Африкантов, – она и сама уже дипломант областного конкурса. Видно, в прадедушку пошла. А свистки у нее свистят, да ещё как, только она желает достигнуть в этом искусстве особого полёта.
Что-то дрогнуло в моей душе. И я тут же решил вернуть Иришке купленный когда-то у Никитичны свисток. Как-никак, а родовая память, семейная реликвия.
Через некоторое время я исполнил задуманное. Описывать, какое это действие произвело на девушку, не буду: не всё можно рассказать словами…
В коридоре гудела толпа ребятишек. Я заторопился и, чтобы не мешать педагогическому процессу, вышел, наскоро попрощавшись. Мимо меня спешили улыбающиеся дети, и мне на миг захотелось самому стать таким же шумливым и беззаботным. Они спешили в сказочный мир Петра Петровича…
За дверью раздавался голос педагога, и я поневоле остановился, вслушиваясь.
– Сегодня мы будем лепить с вами саратовскую глиняную игрушку – «сушку». Для этого подходит любая глина, которую вы найдёте. Белая глина – лепите из белой; жёлтая тоже годится; на красную набрели – делайте из красной. Только совсем тёмные не берите. У нас в Саратове делали игрушки из разного цвета глин. Основной цвет глины не закрашивали, а наносили на него штампиками рельефный геометрический рисунок. В качестве штампиков можно использовать колпачки от фломастеров, ручек, пуговицы и так далее. После этого вмятинки от штампиков заполняются гуашевой краской. Для начала используйте один простейший штампик-шарик и вмятинки от него заполните краской одного цвета, коричневой. Увидите сами, что получится. Привыкните сначала к одному штампику, не рвитесь использовать множество, бойтесь штампиковой мазни. Рисунок должен быть говорящим. Даже одним штампиком можно создавать очень интересные, насыщенные композиции. Простейшим штампиком может послужить обыкновенная шариковая ручка. Чем больше вы найдёте штампиков, чем удачнее составите рисунок, тем интереснее получится ваша игрушка… Вот посмотрите на эти две игрушки: в лепке они совершенно одинаковые, а расточка разная, потому и характеры получаются разные…
_____________
Лето 2010 года выдалось жаркое, 37 градусов в тени. Но в кабинете у Африкантова было прохладно и уютно, как и прежде. Хозяин встретил меня приветливо, я видел по глазам, что ему не терпится мне что-то рассказать.
– Что новенького, Петр Петрович? – осведомился я. – Как житье-бытье?
– Всё преотличнейше, Евгений, – воскликнул старый игрушечник. – Вроде как такого и быть не могло, а вот на тебе – раз, и есть!
Справившись с волнением, он начал рассказывать:
– Вот тогда, после наших бесед, ты очерк написал. Хороший очерк, мне понравился – и про деревеньку нашу и про устои, всё верно. Только мы оба врунами оказались! Вернее, это я врун, а не ты, потому как с моих слов всё тобой писалось. Только и я на тот момент всего не знал. А тут случай подвернулся… Помнишь, я тебе говорил про родственницу свою по отцовской линии, – она игрушкой занималась.
– Конечно, помню. Я же это и в очерке отметил, что была такая, в Саратове жила. Как вы сказали – так и написал.
– Так вот, что продавала – это точно, только в Саратове она тогда не жила. В общем, не суди строго, что люди говорили, то и я повторял. А теперь кое-что прояснилось и, в общем-то, подтвердилось.
– Что, нашёлся человек, кто её хорошо знал? – удивился я.
– Бери выше, – улыбнулся Пётр Петрович, – нашлась она сама…
– Неужели! Сколько же ей лет? Вы тогда о ней говорили в давно прошедшем времени.
– Говорил… говорил, но тогда было одно, а теперь другое. На сегодняшний день она самая старая жительница нашей исчезнувшей деревни. Можешь записать – Пахомова Пелагея Андрияновна, вот так вот. Пелагея Андрияновна была подростком и помогала своему отцу и моему деду, Андрияну Илларионовичу, продавать игрушку.
– Так, что же, ваш собственный дед лепил, а вы и не знали? Так получается?
– Стыдно признаться, Евгений, но именно так. Только добавлю – не просто лепить, а профессионально лепить. Я ведь раньше и не знал, что происхожу из рода игрушечников. А тут как-то стал стариков расспрашивать, которые в Малой Крюковке родились и жили, приехал в город Энгельс, к Смысловой Антонине Николаевне. Бабушке уже восемьдесят один годок стукнул, а всем интересуется и многое помнит. Я её спрашиваю, мол, так и так, желательно игрушку старую найти. А она мне на это и отвечает: «Это она у вас в дому должна была сохраниться в первую очередь». Ну, у меня от недоумения глаза на лоб, а она добавляет: «Это, Петруша, твой родной дедушка лепил. На моей памяти он уже много не делал, только лепил игрушки младшему сынишке Васе и внучатам. Но о том, что игрушкой он, как сейчас говорят, профессионально занимался, я от своей мамы и от бабушки Маши слышала. Да ты у тётки своей, у Дуни спроси – она постарше меня, поточнее об этом скажет».
Вот тебе и раз! Такого сюрприза я, конечно, не ожидал. Бросился к тёте Дуне, благо, та рядом живёт. Она с двадцать третьего года, восемьдесят семь лет исполнилось. Просвети, говорю, дурака, знать не знал, что мой дед Андриян из глины лепил. А тётя Дуня в ответ: «Лепил, как не лепил. Я маленькая была, но помню. По вечерам лепил. Мама, помню, шьёт чего-нибудь, а он лепит. Семья большая, каждому всё надо. У мамы швейная машинка «Зингер» была, это было её приданное. Она шьёт, а тятя за столом сидит, лепит. Я, малая, то на машинку смотрю, как у ней детальки двигаются, то к тяте подсяду. Возьму глину, тоже лепить пробую. Тятя свисток слепит, свистнет, аж уши заложит – и даст мне. Вот только это в памяти и осталось, больше ничего не помню с того времени».
Рассказывая, мастер буквально весь светился от удовольствия. Это настроение передалось и мне.
– «Так он, – говорю я ей, – что же, игрушки эти продавал?» А она: «А просто так кто ж делать будет? Праздно у нас в деревне никто время не проводил. Сестра моя старшая, Мария, говорила мне, правда, что лепил он игрушки на продажу только по единоличеству, до образования колхоза, тогда ему примерно сорок пять лет было. А еще и так просто, для забавы внуков, лепил. Помню, младшенькому сыну Васе, он у нас с тридцать восьмого года, слепил большую лошадку, красивую такую, грива завитая, хвост колечками. Вася на неё верхом садился и так-то радовался, так ему весело было! Лошадка высокая, примерно до колен, без чужой помощи он на неё даже и забраться не мог. Вот, и такое в памяти всплыло. Больше, кажись, ничего не вспомню. Но ты к Пелагее поезжай, к тётке и крёсне своей, она постарше меня будет, она с тятей в Саратов на базар ездила, она и расскажет». Я ей наводящий вопрос даю: «А из детей Андрияна никто больше этим делом не занимался?» Она ответствует: «Из нас только Пелагея да Василий были даровитые. Васе это дело сильно передалось – что хошь слепит. У него в подвале целая маленькая мастерская была. Уйдёт туда и не показывается. Его все племянницы и племянники очень любили, так к нему и липли. А он налепит им всяких игрушек и с ними же играет, только понарошку. Тятя его куда-нибудь пошлёт, а он с детьми заиграется и забудет про всё на свете… ну, за это тятя его ругает…».
Вот, послушал я тетю Дуню, и думаю: ну, дальше в лес – больше дров. Я-то считал, что это я один такой в роду молодец, а оказывается, и не молодец вовсе. Обидно, что всё это узнаёшь только к шестидесяти, а кого винить? Сам виноват – не спрашивал, не интересовался. Думал, что если сейчас не лепят, то и никогда не лепили… Излишняя самонадеянность к добру не приводит! Ну, думаю, надо теперь ехать к крёсне. Крёсна же мне родной тёткой по отцу доводится, как и тётя Дуня, а я ей, стало быть, родной племянник. Я был у неё года три назад в Полчаниновке, только мы о моём занятии игрушкой и не говорили совсем. Она знала, что я работаю в школе учителем. Почему же я ей не сказал, что учу детей лепить из глины? Глядишь, и она бы разговорилась, вспомнила, тогда бы не пришлось технологию по крупицам собирать. Эх, умён мужик задним умом! В общем, поехал. Крёсна в это время временно в Саратове жила, её туда внучка Лена из деревни взяла. Еду, значит, я тётку навещать, а самому стыдно, что столько времени у неё не был. Встретились. Ей хоть и девяносто четыре, один глаз только видит, но ума не потеряла, шутки шутит. А памяти моей крёсны позавидовать можно, особенно хорошо она помнит давние события. Это, говорят, старикам присуще. Много я ей в тот день вопросов задал, долго разговаривали. От тогдашнего её рассказа и сейчас еще голова у меня кругом. Уехал от неё, а вопросов ещё больше появилось, чем было раньше. Браню себя, что не спросил про то, про это…
– А вы съездите, да и доспросите, – решился я прервать монолог мастера.
Тот помолчал, поразмышлял. Потом взглянул на меня:
– А может быть, вместе махнем к ней? Ты свои вопросы задашь, а я свои… Боюсь я, что опять чего-нибудь не спрошу, забуду…
– А разве можно?
– Так дверь не закрыта! Созвонимся с внучкой, и всё. Из первых рук оно лучше будет, чем в пересказах…
Нечего и говорить, что я с радостью согласился.
____________
На следующий день мы уже были в Елшанке. Пелагея Андрияновна встретила нас радушно. Бабулька оказалась бодренькая, с живинкой в глазах, красивые черты лица просматривались даже в ее девяносто четыре года. И она, действительно, всё отлично помнила, даже все имена.
– Тятя игрушки красивые делал, ладные, – начала бабушка Поля, – по единоличеству на лошади в Саратов ездил, продавал. Да не то, чтобы одни игрушки, а масла, яиц, сметаны, творогу накопит, запряжёт Махорку, так лошадь звали, и на базар, вот как это было. А игрушечное дело он от своего отца перенял, от дедушки Иллариона. Лепил по вечерам, чаще поздней осенью, зимой и ранней весной, когда в поле ещё работы нет. В деревне у нас почти в каждом доме чем-нибудь, да занимались: кто шорничал по вечерам, кто сани делал, кто дуги гнул, люди без дела не сидели. Например, Захар сани и телеги делал, у него отапливаемая мастерская во дворе была, Степанкины кожами занимались. А игрушки в деревне только наш тятя делал, боле никто. Дедушку Иллариона я не помню, только говорили, что тятя в него пошёл. Мы откупщики были. Дед Илларион сперва в Большой Крюковке жил, потом от барина откупился и в Малую Крюковку переехал с семьёй. Лентяем, понятно, не был, и голова была на плечах. У нас в семье всегда три лошади было. Тех лошадей не помню, как звали, а на Махорке мы в город ездили. Помню, мне хочется в Саратов, а тятя говорит вечером за столом: «Возьму того, кто не проспит». А как не проспать, ведь уезжал затемно. Так я верёвочку одним концом к ноге привяжу, а другим – к дверной петле. Тятя на двор идёт лошадь запрягать, дверь открывает, а меня верёвочка – дёрг за ногу. Пока тятя сбрую выносит да лошадь выводит, я уже в телеге на сене сижу. И до Саратова ни за что не усну. Дорогой, пока едем, всё мне интересно: по Петровскому тракту столько тогда людей шло и повозок ехало, просто тьма-тьмущая: артели на заработки шли. Кто пилу на плече несёт, кто топор; обозы с товаром шли, на одного кучера – две, три упряжки. Обозники – люди крепкие, сплочённые; на них ведь нередко шайки грабительские нападали; тятя говорил, что у обозников и ружья имеются. А Саратов начинался там, где сейчас Сенной базар. Я тяте продавать помогала, он масло да творог продаёт, а я игрушки: сижу да нахваливаю, в свистки посвистываю. Тяте это нравилось, а мне хотелось вперёд тяти всё продать, да еще по базару походить, на игрушки да на всякую всячину поглазеть, а если удастся, то и выспросить, что и как делается… Я бедовая была. Тятя говорил: «Какой толк Ефимку на базар брать, будет только сидеть и покуривать, пусть уж лучше дома, хозяйством занимается», – это он о старшем сыне так говорил, тот меня на два года постарше был. Ефим у нас всегда дома хозяйством занимался. Если отец лепит, то он со скотиной управляется…