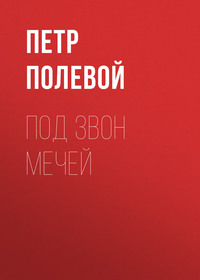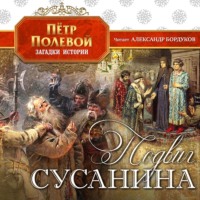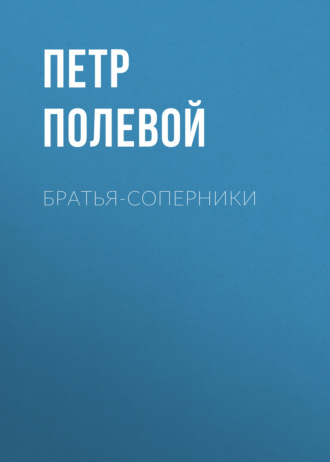
Братья-соперники
Через минуту Троекуров вышел снова и объявил боярам, что царь Петр сейчас вернется и допустит их к руке, а затем просит их к столу своему государскому, а дьяков повелевает угостить дьяку Никите Зотову.
И точно: царь явился вскоре принаряженный, в богатом бархатном полукафтане, в сафьянных сапогах, расшитых золотом и жемчугами. Кудри его были гладко расчесаны и руки тщательно вымыты. Он допустил бояр к руке и затем пошел с ними в столовую палату.
За обедом Петр засыпал бояр расспросами о Крыме, о турках и татарах, о предстоящей войне. Мало-помалу князь Василий овладел беседой и сумел выказать перед юношей-царем с самой выгодной стороны свои обширные сведения и в политике, и в военном деле. Он набросал перед Петром яркую картину того томления и тех страданий, среди которых живут под властью турского салтана народы православной греческой веры – и только того и ждут, только тем и утешаются, что когда-нибудь получат отраду и облегчение от русских государей. Затем он намекнул и на то, что Российскому государству война необходима, так как многие люди, а в особенности казаки, ищут и желают службы и без войны даже прокормить себя не умеют. В заключение он сказал, что трудная война, предпринимаемая во славу Божию в союзе с государями европейскими, против общего врага всего христианства, должна будет принести великую честь и хвалу Российской державе.
Петр так внимательно и жадно слушал умную и красивую речь Оберегателя, что на время позабыл даже о своих судах на Яузе. Когда бояре после стола откланялись и простились с царем, Петр, оставшись наедине с Зотовым, сказал ему:
– Мосеич! А ведь князь-то Василий всем взял: и умен, и учен, и говорить горазд…
– Еще бы! Заговорит – заслушаешься! Что твои гусли-самогуды!
– За что же его так матушка не любит и все меня от него остерегает?
– А за то, что он лукавит да руку твоей сестрицы гнет; а кабы не это…
– Так что бы было?
– Кабы не это, так был бы он у тебя изо всего царства первым человеком!
– Все ты врешь, Мосеич. Первый должен быть царь – и никто другой! Ну пойдем на Яузу карбус домазывать.
X
Минуло лето. В конце августа, следовательно, в конце 194 (1686) года князь Василий поспешил отпраздновать свадьбу Алексея, готовясь в наступающем году к тяжелым воинским трудам и заботам. 1 сентября великие государи и государыня София Алексеевна принимали вместе со всем двором, патриархом и высшим духовенством обычное участие в торжественном праздновании новолетия, и вся Москва не без тревоги встретила наступавший новый, 1687 год.
3 сентября на постельном крыльце Теремного дворца сказан был стольникам, стряпчим, дворянам московским и жильцам и «иных всяких чинов ратным людям» указ великих государей и государыни Софии Алексеевны о том, «что хан Крымский имеет намерение приходить войною к их государским Украйным и Малорусским городам», – и по тем вестям указывалось всем быть готовыми к государской службе.
Точно такие же указы были посланы с нарочными гонцами в уезды Замосковные, Заоцкие и на Украину. Городовые воеводы читали там указы по приказным избам, перед всеми местными начальными людьми, с подобающим внушением, а для большего распространения сведений о сборах в поход в среде народа приказали тот указ биричам выкликать в торговые дни на базарах и на площадях. Из городов рассылались указы по уездам, во все волости и станы, ближние и дальние через воеводских стрельцов, которым поручено было всюду объявлять, чтобы ратные люди к государевой службе готовились, запас полный припасали, коней откармливали, никуда не разъезжались и не отлучались, в ожидании последующего царского указа, по которому, «ничем не отговариваясь и без всякого перевода», все должны были явиться в определенные сборные пункты на коне, с полным доспехом и вооружением. И потянулась та бесконечная канитель, которая называлась в старину сбором войск в поход и при необъятных пространствах Русской земли, при отсутствии путей сообщения и укоренившихся привычках самоуправства всяких властей и начальных людей была великим народным бедствием.
В то же самое время на Верху в Теремном дворце ежедневно собиралась царская Дума в полном своем составе и постепенно вырабатывала общий план предстоящей войны, обсуждала, сколько полков нужно набрать, где им собраться, к какому сроку выступать, а главное – откуда взять деньги на жалованье ратным людям и военные расходы. Наконец, в виде особенной милости к Оберегателю, великие государи в одном из наиболее торжественных заседаний Думы лично объявили князю Василию Васильевичу Голицыну о назначении его Воеводою Большого полка, иначе сказать – главнокомандующим над тою стотысячной армией, которую предполагалось собрать и двинуть против татар.
Дня два спустя после этого назначения, по установившемуся обычаю времени, князь Василий отправился ранним утром к патриарху Иоакиму за благословением, которое всегда и всеми испрашивалось у отца-патриарха перед началом каждого нового или важного дела.
Палаты патриарха были расположены в Кремле, позади Соборов, и настолько близко от Теремного дворца, что многие здания и службы, лежавшие в черте обширного патриаршего владения, сходились стена об стену со зданиями и службами Теремного дворца. Каждый переступавший порог патриарших палат вступал в особое государство, которое ведалось своими законами и вполне самостоятельно существовало среди окружавшего его мирского государства. В черте патриарших владений были свои Приказы, своя казна, свои громадные доходы и расходы, свой суд, даже своя тюрьма для тех, которые требовали наказания; в этом государстве был и свой «государь святейший патриарх», окруженный своим двором, в котором были и так называемые патриаршие бояре и стольники, как и при великих государях в Теремном дворце.
Но все богатства и вся пышность, окружавшие патриарха, все те почести, которые ему воздавались, нимало не отдаляли его от народа, не делали его недоступным. Богатства, широкою рекою стекавшиеся в его казну, широкою волною изливались на дела благотворения и милосердия, а двери его палат круглый год стояли настежь отворенными для каждого, кто приходил к отцу-патриарху поделиться своею радостью или поискать утешения в своем горе. Член царской семьи и бедный крестьянин, боярин и нищий, богатейший купец и простой рабочий шли к патриарху беспрепятственно, находили к нему открытый доступ, и каждый получал по заслугам и потребностям: приветливое слово, радушное угощение и пастырское благословение.
Когда Оберегатель переступил порог патриарших палат, он был встречен в сенях патриаршим боярином, который поклонился ему в пояс и после обычных приветствий и вопросов о здравии сказал ему:
– Батюшка-князь Василий Васильевич! Государь святейший кир-Иоаким патриарх в Крестовой палате обретается, и народу у него там многое множество – каждый со своим делом, – так не пожалуешь ли прямо в Столовую палату ко святейшему, а мы ему о твоем приходе особо доложим?
– Нет, боярин, не тревожь святейшего; я к нему за тем же делом, что и другие, так я в Крестовую к нему и пойду.
– Твоя воля, князь. Кстати сказать, святейший сегодня поход в Симонов монастырь объявил, так, должно быть, в Крестовой долго и не останется.
Когда князь Василий вошел в Крестовую палату патриарха – обширное, светлое, благолепно украшенное зало, – у дверей и около стен стояло по крайней мере человек шестьдесят всякого звания людей, выжидавших своей очереди, чтобы подойти под благословение патриарха. Тут были бояре, стольники, купцы и крестьяне. В толпе видно было несколько именинников с именинными пирогами и калачами; тут же стоял придворный ключник с привозным из Астрахани виноградом; был и простой рыбак с огромным лещом в лоханке, и какой-то мужичок с чудовищной редькой на деревянном блюде, и греки с Афона, и монахини из какого-то дальнего монастыря. В переднем углу, под образами, на особом возвышении, или амвоне, из трех ступеней, обитых красным сукном, сидел в кресле патриарх Иоаким, старец лет под семьдесят, убеленный сединами, но еще бодрый и благообразный на вид. Около патриарха стоял его ризничий Акинфий, высокий и плечистый мужчина лет под пятьдесят, с умным и энергичным лицом, а немного далее – любимый ключарь его Иаков, суетливый и подвижной старичок, рябой и подслеповатый. Позади патриарха и по бокам амвона теснилось несколько лиц из клира. На ступенях амвона стояли перед Иоакимом стольник Поливанов и окольничий Лопухин – оба с молодыми женами. Недавно повенчанные парочки пришли к отцу-патриарху за благословением и принесли ему свадебные овощи в красиво раззолоченных корзинах, прикрытых искусно расшитыми ширинками.
В то время, когда князь Василий вступал в палату, патриарх благословлял молодых супругов иконами и по поводу одной из икон вспоминал приснопамятное ему обретение правой руки апостола Андрея Первозванного, несколько лет тому назад отысканной в серебряном ковчеге между многими другими мощами патриаршей ризницы при церкви Апостола Филиппа. Все с напряженным вниманием слушали то, что говорил патриарх, и князь Василий смиренно стал в сторонке, выжидая окончания речи святейшего, который продолжал:
– Обретенная нами святая рука богопроповедника вселенского, особно же Всероссийского, имеет сложение перстов по обычаю Матери нашей православной Церкви, якоже и все христиане крест изображают: три перста совокупные, два же пригнутые зело явно; видимо, что святой апостол Андрей, мучимый безбожным Анфинатом Егеатом, при смерти свой крест святой на себе знаменал, и тако сложены и замерли, и окрепли персты его…
И затем, обращаясь ко всем находившимся в палате, возвысил голос и произнес громко:
– Помните вы все, православные, что сие троеперстное сложение обретенной десницы богопроповедника обличает явно раскольников Святой церкви безумство и непокорство!
Когда патриарх окончил свою речь, князь Василий подошел к нему под благословение, и в то время как целовал его руку, святейший сказал ему вполголоса:
– Рад тебя видеть, князь Василий, и дело у меня до тебя есть; должен наедине с тобою побеседовать. Повремени, пока отпущу православных.
И между тем, как князь Василий отошел с князем Троекуровым и его зятем окольничим Лопухиным к окну, патриарх поднялся со своего кресла, и вся стоявшая в глубине палаты толпа, теснясь, двинулась к нему под благословение. Прежде всех почти подбежал к амвону придворный истопник Максимко Гаврилов и, повалившись в ноги перед Иоакимом, заголосил на всю палату:
– Смилуйся, святейший патриарх! Яви мне, грешному, свое милосердие! Вчера был я к тебе послан от великой государыни царевны Евдокии Алексеевны со столом, понес тебе блюда прикрошки тельной да блюдо левошников, да грешным делом поскользнулся и наземь пал, и блюда те в грязь уронил! И велено меня за ту провинность перед твоими палатами бить батогами нещадно…
– Жалею, что ты не донес до меня царское жалованье, – сказал Иоаким. – На сей раз попрошу тебя от наказания избавить. Но помни, что царское веление следует исполнять не с небрежением, а со вниманием и усердием.
Максимко поспешно ударил еще земной поклон и отошел к стороне. Затем подошли именинники со своими приношениями, и всех их патриарх поздравил и отослал в свой кормовой дворец, с приказанием угостить их – кого вином, кого медом. За ними подошел степенный ключник Сергей Бохов с астраханским виноградом от царевны Софии Алексеевны. Патриарх приказал принять виноград и благодарить царевну, а подателя ее даров благословил небольшим образком, который взял из рук ризничего.
Вслед за придворным истопником подошла к амвону ветхая старушоночка, сморщенная и сгорбленная (судя по одежде, клирошанка). Она подала патриарху небольшой конец тончайшего домотканого холста и, низко кланяясь, проговорила:
– Прими, государь, моего тканья холст! Сама тебе на опучки выткала.
– Спасибо за усердие, честная вдова Варварица! Снеси холст казначею, скажи, чтобы принял, а тебе твое жалованье[6] выдавал против прежнего.
За старушкой клирошанкой подошел мужичок в серой свитке, с чудовищной редькой на деревянном блюде. Лицо его сияло добродушнейшею улыбкою самодовольствия, когда он, поклонившись в землю патриарху, поднес ему свой дар:
– Не побрезгай, святейший патриарх, прими от своего подмастерья каменных дел Бориски Семенова. На своем огороде экую вырастил… Больно ядрена ноне уродилась…
– Спасибо тебе, добрый человек, за редьку, – сказал с ласковой улыбкой Иоаким, – редька с квасом хороша! Так пойди от меня к ключнику Семену да вели себя угостить моим любимым малиновым квасом.
И между тем, как за Борисом Семеновым потянулись к Иоакиму греки с Афона, монахини и крестьяне, и всякий иной люд, к князю Василию подошел с поклоном ключарь Иаков и сообщил, что патриарх просит его пожаловать в «малую» келью и там подождать его. Провожая князя по владычным покоям, ключарь все что-то бормотал себе под нос вполголоса, так что даже и князь Василий, давно уже знавший этого доброго и очень бестолкового старика, обратил наконец внимание на его бормотание:
– Что ты это, отец Иаков? Молитву, что ли, новую складываешь или канон какой на память твердишь?
– Нет, батюшка князь! На меня беда пришла… с моей памятью!
– Какая же твоя беда, отец Иаков?
– Да вот, приказал святейший колоколам на Ивановской колокольне прозванье переменить. Как докладываем мы ему о благовесте, так велено нам в докладе новый-то большой называть Успенским, а старый Успенским Воскресным, а Реут – по-ли-елейным… Вот я и путаюсь при докладе святейшему; хочу сказать «Успенский», а говорю «Воскресенский», а вместо полиелейного – все Реут да Реут!.. Даже прогневал святейшего!.. И твержу теперь на память, в которые колокола благовест заказан!
Князь Василий невольно улыбнулся и подумал: «Видно, у каждого своя забота, и каждому Бог дает ее по силе!»
В «малой» келье патриарха, выходившей окнами в так называемый комнатный садик, устроенный в виде террасы над сводами патриаршей казенной палаты, князю Василию пришлось недолго ожидать. Иоаким вступил в палату через несколько минут и, опустившись в кресло около столика, на котором был золотом и красками писан патриарший герб, пригласил и Оберегателя сесть.
– Святейший отец-патриарх, – сказал князь Василий, почтительно преклоняя голову перед Иоакимом, – я пришел к твоему архиерейству просить благословения на предстоящие мне многотрудные подвиги.
– Я ожидал тебя, князь Василий. Знаю, что ты, чадо верное и нелицемерное, не забудешь о нашем благословении даже и среди твоих забот государственных, и приготовил тебе благословение… Но прежде, чем передам, я должен говорить с тобой о тайном деле.
– О тайном? – переспросил князь Василий.
– Да, сын мой возлюбленный, и молю тебя, и заклинаю никому не передавать беседы нашей. Я назвал тебя чадом верным и нелицемерным, ибо знаю, что не лежит в тебе сердце к мрачным ковам и злохитростным мечтаниям… Но ты от нас грядешь… Ты бежишь вослед воинской славе… На кого же ты нас покидаешь? Кому вручаешь судьбу малолетних государей и всего государства?
– Святейший отец-патриарх! Не я государством правлю – благоверная царевна София Алексеевна…
– Не говори со мною как царедворец! Нас здесь слышит только Бог единый, а от Него и помысла не скроешь! Царевна-правительница и государством правит, а ты ею правишь, князь Василий. Молю Всесильного Творца, чтобы Он простил тебе твой грех за то, что ты нас от ее властолюбия оберегаешь… ее клевретам воли не даешь! А без тебя-то что будет?
– Как буду я в полку, так государыня дозволила мне передать дела Посольского приказа сыну Алексию…
– Да я не о делах посольских! Ими и малолеток твой управит, при таком хорошем дядьке, как Емельян Украинцев… Ну а при ней-то, при самой-то кто тебя заменит?
Князь Василий молчал, потупившись.
– По душе скажу тебе, князь Василий, боюсь я твоего Шакловитого! Он человек опасный!.. Ему царевна доверяет все свои затеи… А у него в уме недоброе!..
– Я Федора Леонтьевича знаю, – сказал князь Василий, – и готов за него ручаться…
– Не ручайся, князь Василий! Я больше тебя живу на свете и больше видывал людей; и с этими хохлами я смолоду живал в одних стенах, как был еще иноком в Межигорской обители. Хохла как ни выворачивай, все изнанка: до лица не доберешься… А сказывают мне, что Федор Шакловитый и по все дни по вечерам у Сеньки в Спасском монастыре бывает и будто Сенька (а это злой латинщик!) успел уже свести его с приятелями-то со своими…
– С какими приятелями?
– А со стрелецкими начальниками: с Никитой Гладким да со Стрижем, да с Черным, да с Цыклером… А разве ты не знаешь, что это за люди?.. Разве ты не видишь крови на их руках?
– Но дозволь же мне, владыко, замолвить слово в пользу Федора Леонтьевича. С тех пор как поручен ему Стрелецкий приказ – не он ли обуздал эту «надворную пехоту»? Не он ли первый сумел взять стрельцов в руки после казни Хованского?
– Чего ж теперь-то ищет он в стрельцах? Зачем с ними якшается? Зачем поит и угощает их на своем загородном подворье под Девичьим?
– Не ведаю, святейший патриарх.
– Я потому и говорю с тобой, что ты не ведаешь, а должен ведать! И должен меры принять к тому, чтобы спасти нас от новой смуты… Помни, что никто другой, а ты ответишь Богу! Пока ты здесь еще, остереги царевну от замыслов. Ведь ты не Шакловитый! Нечего тебе искать – ты взыскан всем, и от Бога, и от великих государей! Останови царевну! Не к добру она идет!.. И наблюди за этим. А я уже велел следить за Сенькой, и, если я увижу, что он мешается в мирские дела, я его по-своему уйму и приведу к смирению.
Тут патриарх постучал в пол своим посохом: явился ризничий Акинфий с образом Успения в прекрасной серебряной басменной ризе.
Патриарх поднялся со своего места, взял образ, благословил им князя Василия и, прикоснувшись краем иконы к его наклоненной голове, сказал твердо:
– Не измени своему долгу и святой присяге! И да пошлет тебе Бог на враги победу и одоление! Акинфий, отправь икону к князю с нарочным.
Простившись с патриархом, князь Василий в глубоком раздумье шел из «малой» кельи и почти столкнулся с ключарем Иаковом, который, ничего кругом себя не видя, бегал взад и вперед по сеням и всем бормотал вполголоса:
– Господи, что же это будет? Успенский-то помню, что Воскресным звать! А Реут-то, Реут-то как? Просвети и настави, Господи!
XI
Беседа с патриархом сильно подействовала на князя Василия. Святейший никогда прежде не говорил с ним так искренно, не касался так прямо щекотливых вопросов современности, не высказывал так открыто своих желаний. Князь Василий несколько раз в течение последних лет имел случай убедиться в том, что Иоаким благоволил к нему, но ему представлялось весьма естественным, что этим благоволением патриарха он обязан главным образом своему высокому положению и обширной власти, сосредоточенной в руках Оберегателя. Тем более был он поражен, когда услышал от патриарха, что тот ценил в нем его личные качества и в зависимость от его личного влияния ставил внутреннее спокойствие государства… В пору сказанное слово пробило толстую кору эгоистических расчетов царедворца и запало в душу князя Василия – он с тревогою взглянул в ближайшее будущее и сам невольно задал себе вопрос о том, что может произойти в Москве во время его отсутствия? Он видел, что поданный им совет пришелся по душе Софии и что она стремилась поскорее осуществить его на деле, спешила сравняться с братьями во власти и в значении; и не без страха замечал князь Василий, что Софья полагает достигнуть намеченной им цели не постепенным, медленным, но верным путем строго рассчитанных дипломатических ходов и уловок, а весьма опасным путем насильственного переворота, в помощь которому, на всякий случай, подготовлялось движение между стрельцами. А так как Софье было известно нерасположение князя Василия ко всем крутым и жестоким мерам, то она, по-видимому, предоставляла руководство в подготовке переворота человеку более решительному и менее разборчивому в средствах – Шакловитому. Но князь Василий хорошо знал Шакловитого: он понимал, что этот человек, глубоко преданный Софье и ею выдвинутый из ничтожества на важный пост думного дьяка, может быть пригоден только как деятель второстепенный, как надежный и точный исполнитель чужих предписаний… Князь Василий знал и то, что Шакловитому нельзя было доверить важное государственное дело, его нельзя было поставить во главе известного движения, как человека неродовитого, случайно выдвинутого из низшего слоя общества, ни с кем не связанного никакими отношениями и притом мелочно-честолюбивого, заносчивого и некстати горячего. Еще с большим недоверием относился князь Василий к другу и советнику Шакловитого – Сильвестру Медведеву, который также основывал все свои упования на торжестве Софии и готов был ей содействовать во что бы то ни стало. Князь Василий знал, что действительно только через Сильвестра мог Шакловитый сблизиться со стрельцами, которых вооружил против себя крутыми мерами и чрезвычайною строгостью отношений к ним, когда после казни князей Хованских принял на себя управление Стрелецким приказом. Из слов патриарха князь Василий заметил, что отношения Сильвестра Медведева к стрельцам известны святейшему и, следовательно, легко могут обратить на себя внимание «преображенских приятелей» и даже вызвать с их стороны такой отпор, какого, конечно, не ожидала и не желала Софья. Оберегатель при первом удобном случае решился переговорить с Шакловитым и предостеречь правительницу.
Дня два спустя после свидания с патриархом князь Василий зазвал к себе Шакловитого обедать и после стола, за чаркой доброго вина, спросил как будто бы случайно о Сильвестре Медведеве.
– Эх, князь Василий Васильевич, в пору ты о нем воспомянул! На Сильвестрия мне смотреть жалко: так его теснит и гнетет святейший. Теперь Лихудьям строит у него в обители каменные палаты под их школу, а Сильвестриеву школу собирается закрыть.
– Что ж так? Ведь, кажется, святейший благоволил к нему – недаром справщиком его поставил на Печатный двор.
– Да все наветы этих греков да споры с иноком Арсением…
– А не то ли вредит Сильвестрию, что он по-прежнему дружит со стрелецкими начальными людьми? – заметил Оберегатель, пристально вглядываясь в лицо Шакловитому.
– Не знаю, право… я что-то не слыхал об этом… Мне говорили, что между стрельцами есть земляки Сильвестрия… Так, может, с ними?
– Не знаю, земляки ли? Мне называли даже его приятелей: Петров Обросим, да Куземка Чермный, да Никита Гладкий, да Цыклер… Все из тех, что в сто девяностом году на площадь выходили. И говоришь ты – земляки? Какой же Цыклер ему земляк? Ведь он же иноземец?..
– Ну, может быть, и кроме земляков, есть у него знакомцы…
– Вот то-то я и слышал, что у Сильвестрия между стрельцами есть и знакомцы, и приятели, что он и принимал их у себя в обители, и будто это именно святейшему не нравится. Ведь ты, Федор Леонтьевич, с Сильвестрием приятель и земляк, так ты бы предупредил, предостерег его…
Шакловитый, в свою очередь, пристально посмотрел на князя Василия, который понял значение его взгляда и продолжил:
– Сказать по правде, слышал я еще, будто и тебя отец Сильвестрий свел с этими людьми, и ты с ними тоже часто видишься и даже у себя их принимаешь и угощаешь?
Шакловитый сверкнул глазами, как лезвием ножа, и, стараясь улыбнуться, проговорил не без смущения:
– Людей послушай, так всего наскажут! Сильвестрий не сводил меня ни с Цыклером, ни с другими полковниками стрелецкими, а сам я с ними стал сходиться и чаще видеться… затем, что…
– Затем, что думаешь – не пригодятся ли они царевне? – спокойно добавил князь Василий.
Шакловитый нахмурил брови и, опустив глаза, проговорил нерешительно:
– А разве ты сам, князь Василий Васильевич, думаешь, что мы без них сумеем обойтись?
– Не только думаю, но твердо верю в то, что царевна утвердится на престоле не кровью, не насилием, а мудростью, как истинная София. Не забудь, что мы уже поднимали Землю на стрельцов и сбили им рога! Так разве же не сумеют и другие сделать то же?
Шакловитый отвечал сумрачным молчанием.
– И уж если пошло на правду, – продолжал князь Василий, – так я тебе скажу, Федор Леонтьевич, что эти замыслы нужно бросить. Оставь, не шевели стрельцов – не поднимай их! Против этой силы найдутся силы еще и не такие… Надо всех заставить верить, что никто, кроме царевны, не управится с Землею, не снесет всей тяготы правления, не сумеет вcex примирить и успокоить и оградить от всяких зол и внутри и вне, а потому и следует ей братьям соцарствовать. Пусть каждый получит равное участие в правлении – София все же будет преобладать и, правя за себя и за царя Ивана, не даст воли царю Петру и всем, кто за его спиною хоронится. А тогда, конечно, и бояре, и патриарх – все будут за нее… И только этим мирным путем мы можем дело довести благополучно до цели. А прежними путями теперь уж не дойдешь, Федор Леонтьевич! И я прошу тебя и заклинаю оставить всякий помысел об этом: дай мне слово, что ничего не предпримешь до возвращения моего, что ничего не сделаешь, не совещавшись со мной!