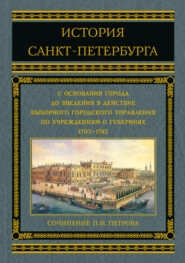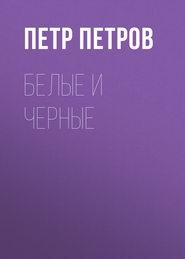По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Царский суд
Автор
Серия
Год написания книги
1877
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да чудно таково, отче… С ознобу николи мне не пришлося видать, чтобы так долго не очунялися люди…
– А тут, друже, не озноб… другое, должно полагать… я сам ума не приложу. Снадобье мое, брате Панкратие, душевную болезнь врачует… в забвение приводит… в сон… да силу сбирает, сонным успокоением. Трав разных, в сборе варения того, много всяких: и зверобою нечто, и проскурняк, корень преотменный, и белены чуточку, и иных некиих. К исступлению приводят они, а легчат: сон наводят да дрему спасительную.
– Я так и подумал, отче. Как влил ему в рот почитай глотков десять питья… пена показалася, и он словно сомлел, голубчик… Да, мало-маля, и в пот ударило… И заснул снова, крепко-прекрепко.
– И должен он спать так долго!..?– с оживлением высказал Герасим.
Действительно, ведал он много верных средств ко врачеванию человеческих недугов, слывя в околотке за святого, успешно подавая помощь в страданиях, не поддававшихся заведомым знахарям. И от укуса змеиного пластырь давал отец Герасим, все распаление яда тотчас прекращавший. От порубки оружием отравленным, и от скверных язвин, и от корчи. Словом сказать, не было для его искусства ни одного недуга, которому бы он не помог ослабнуть, коли по грехам послан в казнь человеку на долгие сроки. Будь он корыстлив, пустынька бы игрушечкой у него глядела, а то прост уж очень разумный старец, и нищелюбив, и жалостлив – ничего не требовал за врачеванье свое… только бы во славу Божию совершить на пользу кому… Братия на это немало роптала, да ничего не приходилось говорить против набольшего, с Панкратием только и советовавшегося на четыре глаза…
А Панкратий не перечил ни в чем ни строителю, ни братии. Пошли его работать или перенести какую тяжесть, хоть бы Евлогий отрок-послушник, он и того послушает. А в диаконы ведь поставлен и первым по строителе считается работником, конечно.
Коня братия решила взять в пустыню, заключая, что Бог послал на их нужды рабочий скот. Замерзший или бесчувственный человек занял только душу Панкратия, которому долго пришлось просиживать у изголовья медленно возвращавшегося к житью на белом свете.
Был, никак, четырнадцатый день, когда Суббота – это был он – впервые открыл тусклые глаза и тут же смежил их, не доверяя себе, что он подлинно видит совсем неизвестное место да человека в черном вроде сторожа. Не мог также вдруг очнувшийся обознать за людское жилище и бедную низменную полуземлянку, где царствовал чуть не мрак и где вокруг не находил глаз ни одного предмета, сколько-нибудь знакомого бедняку. Мало-помалу, однако, с возвращением памяти, в Субботе пробудилось сперва смутное, потом ясное сознание неотвратимого и непоправимого, как он думал, несчастья. Разрыв с Нечаем и потеря Глаши, представившись теперь ясно в памяти молодого человека, вырвали у него невольный продолжительный стон и скрежет зубов, напугавшие обычно бестрепетного Панкратия.
– Видно, последний кончик пришел сердечному…?– прошептал инок, сотворив молитву и крестя страждущего.
Он же через минуту опять смежил веки. Разлучение с жизнью, однако ж, долго не наступало, и находчивый отец Панкратий поспешил привести кроткого Герасима: посмотреть, что творится с врачуемым.
Вид старичка с добрым располагающим взглядом и словами участия, казалось, успокоил Субботу, с которым строитель не решался, однако ж, заговорить, а только глядел на грустный лик, начинавший загораться зловещим пламенем горячки. Зорко следя за переменой в лице больного и заметив лихорадочное оживление глаз, быстро начинавших бегать, переносясь мгновенно с одного места на другое, Герасим вышел и, воротясь, влил в рот больному какого-то снадобья, должно быть горького, но успокоительного. Судорожное напряжение через минуту исчезло с лица страдальца – и он впал в тихое забытье. Мысли его получили какую-то лень, не дававшую им правильно течь из-за боли. Едва ли в том положении, в которое бросила Субботу прихотливая судьба, лекарство отца Герасима не было единственно способным сохранить потрясенную ударом умственную деятельность.
Отец Герасим проявил в себе дивное искусство. Какое дать соответствующее лекарство больному, отгадал он одним ясновидением сердца, не зная еще всей глубины душевного потрясения страждущего. Суббота хранил, однако, упорное молчание и начинал поправляться. Какой заботливости ухода требовало это улучшение со стороны вечно улыбавшегося Панкратия – на это мог бы дать ответ только он один, если бы он любил хвалиться своими подвигами. Это уже выходило из круга понимания своих обязанностей приветливым здоровяком, а он начинал хмуриться только благодаря угрюмому лику выздоравливавшего.
Вот наконец Суббота уже может и подняться с жесткого ложа, которое владелец кельи уступил своему случайному гостю, а он только два раза за все время своего здесь пребывания и поговорил с добряком Панкратием. В первый раз он попросил рассказать, как сюда попал, а сам не ответил на вопрос рассказчика о его имени и прозвании, не вызвав, впрочем, и этим недоверием неудовольствия на лице кроткого инока. В другой раз – это было на Страстной – Суббота изъявил Панкратию желание облегчить совесть исповедью – и единственный иерей в пустыньке, строитель Герасим, не замедлил явиться в роли примирителя души с Небом.
На этот раз Суббота не думал ничего таить в повести своей недолгой еще жизни, которой в будущем не предстояло, по его собственному мнению, видеть еще раз приманку счастья. Кроткий отец Герасим молчал, слушая и давая полную волю высказываться поверяющему ему свой сердечный недуг. Только когда замолк кающийся, пустынник, сам смолоду изведавший немало злоключений в жизни, спросил его кротко:
– Что ж ты… прощаешь зло содеявшему тебе?..
– Простить… не под силу…
– Зачем же ты, человече, поведал мне начало своего падения? Без прощения врагам Христос не отпущает нам грехи наши… Зла желая нанесшим тебе хотя и кровную обиду, ты можешь уподобиться началу зла всяческого, диаволу и пособникам его.
– Пусть и с ними часть моя – только бы отомстить удалось… губителю моей чести и участи. Пропадать мне так пропадать!
Герасим с ужасом посмотрел на упорного и, как бы не веря себе, переспросил его:
– И это, человече, твое последнее слово? И этого от тебя, думаешь ты, ждал Искупитель, спасший тебя от верной смерти?..
– Инако не могу думать… пока жив…
Кроткий старец отшатнулся от излеченного им и голосом, полным грусти, проговорил:
– Так Господь же с тобою, иди куда знаешь из нашей мирной сени… Мы, иноки, никого не научаем на зло и никому не помогаем во вреде ближнему, хотя бы и тяжко согрешившему… Тебя поднял Господь с одра… твори же мимо нас, что внушит тебе на благо ум да разум твой. Памятуй только, что отомститель неправды один у нас – Бог! Мы все – только ничтожные слуги велений Всемогущего… а веления Его дает нам знать слово Его, изреченное чрез пророка: «Милости хощу, а не жертвы». Нет в тебе побуждения миловать – ты не раб Господа своего, а раб страстей твоих, изрывающих тебе пропасть до дна адова… Вот путь немилостивых!
Суббота развел руками, как человек, который не может принять предлагаемое ему, и только слеза, улика тяжелой борьбы в душе его в эту минуту, медленно заискрилась в потухшем взгляде отчаявшегося. Налившись в полную каплю, она упала на эпитрахиль сосредоточенного Герасима. Старец отдернул руку, державшую крест, чтобы не дать его облобызать не раскаявшемуся в злом намерении.
Тихо удалился затем грустный иерей Герасим от решительного Субботы, ни словом, ни взглядом не давая понять ожидавшему в сенцах конца исповеди Панкратию, какую тяжесть нес он теперь на своей совести, не успев пролить ни капли света благодати в омраченную душу. Упрямец настаивал на своем с такой силой, какую исповедник видел в первый раз в жизни, не встречая ничего подобного и у пожилых людей, не только в молодом еще, распускающемся побеге страстной природы.
Весь вечер оставался Герасим погруженным в неотвратимую думу. После звона к вечерни он не вдруг стал на правило. Отходя же ко сну, сделал теперь лишние три поклона сверх положенного, прошептав: «Преврати, Господи, ярость львову в незлобие голубицы!»
Но прежде чем тушить свечу у налоя, сосредоточенный строитель-молельщик раскрыл служебник и загадал: получится ли просимое? Глаза его упали в книге на слова: «Смерть грешников люта!» Содрогаясь, перекрестился он и, опустясь на колени, долго стоял, воздев очи горе.
Суббота не выходил из кельи Панкратия. Разговелся один – пасхальным яйцом, принесенным ему от общего разговенья братий, и не искал ни встречи, ни новой беседы с Герасимом.
В день Радуницы, совершив поминовение усопших и выходя из часовни, строитель сказал брату Панкратию:
– Передай своему гостю, что ему у нас делать нечего… Теперь совсем поправился – может идти куды знает…
– Я, отче, попрежь ему говаривал не одиножды о сожитии с нами… по восприятии иноческа образа… и он не прочь был.
– Ему нельзя… отречься от мира,?– выговорил неохотно Герасим и замолчал.
Словно перевернулось что, произведя глухую, но довольно ощутимую, мгновенную боль в сердце Панкратия при вести об изгнании Субботы строителем. Панкратий передал своему молчаливому сожителю по келье решение главы пустыни и услышал односложное: «Завтра!»
Наступило утро. Панкратий увидел Субботу уже сидевшим на постели своей и одетым в его кафтан, до того бережно висевший рядом с убогой рясой владельца кельи.
Испив воды, Суббота поблагодарил за гостеприимство брата Панкратия и просил его, если не в труд, указать выход из пустыньки проселком на большую дорогу.
Панкратий не выдержал. Бросившись лобызать уходившего, он сунул ему в карман хлеба вместе с алтыном – единственной монетой, составлявшей все наличное богатство нелюбостяжательного брата. Замахав рукой, когда Суббота отказывался брать дар чистейшей дружбы, он едва выговорил:
– Коня тебе выведу твоего!..
– Оставь на братию – конь этот не мой. Не коня, а шапку бы нужно.
Вместо ответа Панкратий снял с полки шапочку свою, надевавшуюся только в праздники, и подал ее человеку, видимо чуждавшемуся его до сих пор, хотя, правду сказать, обязанному бы выказать со своей стороны, если ничем другим, то вниманием, признательностью за уход и гостеприимство. Субботе между тем и в голову не приходила эта обязанность за обуявшим его ум сознанием потери всяких надежд на счастье.
Сознание это приводило в ярость его молодое сердце, изведавшее разом гибель всего, что составляло его жизнь и счастье. Понятно при этом и упорство в отказе отцу духовному на требование его примиренья и забвения. Словом, молодой человек страдал, а мучения его старому монаху и представиться не могли во всей глубине и боли их, хотя бы и имел он возможность подумать поглубже над содержанием исповеди Субботы.
Из нее понял отец Герасим лишь кровность обиды и злорадство Нечая, нарушившего обещание свое, прибавив еще глумление и оскорбление. Но силы любви Субботы к Глаше никак и не представлял Герасим себе, не испытав других бед, кроме гонения и унижений. Да и сам Суббота не думал признаваться на духу в своих ощущениях, считая их вовсе не подлежащими пересказу кому-нибудь. Он был натурой сдержанной и нелегко поддававшейся чужому влиянию, без чего от подобных ему людей трудно ожидать полного откровения. С Панкратием Суббота опять составлял во всем полную противоположность, а больше всего разность выступала у них в складе понятий. Мало жил Суббота еще на свете, но видел, как живут люди; знал и по себе судил о семейном приволье и свободе. Панкратий же сиротой рос в монастыре, вынес с годами из прожитого одну необходимость полного подчинения, у него не было побуждений подчинить себе волю другого изучением его слабых сторон. А только искусно действуя на них, мы заставляем человека самого высказываться.
Так Панкратий и Суббота при теперешних обстоятельствах не дошли до сближения. Оно между тем было так близко. Даже в ту минуту, когда Панкратий вывел Субботу на дорогу и махнул рукой в ту сторону, куда идти по ней пешеходу, он не мог говорить, задушаемый подступом слез. Почему текли они у него, он и сам не понимал, быстро отвернулся и пошел назад, дав волю сдерживаемому потоку. Суббота бросился было за ним, но какая-то сила приковала ноги его к земле. Оборотись Панкратий случайно, может быть, не так бы скоро воротился он в свою пустыньку, зато утешен бы был излиянием дружбы в такой полноте, какой никто еще не оказывал в жизни. И Суббота, вероятно, стал бы не тем после переворота и душевного отдыха. Душа молодого человека искала теперь предмета для сочувствия, готовая ни на что не обращать внимания, кроме вызова теплоты чувства, даже самой ничтожной и ненадежной; не хватало одной искры огня, чтобы разлиться пожаром.
Голова его была подавлена наплывом дум – в совокупности тяжелых, но поодиночке не заключавших ни колючести болезненной, ни приманки обольстительной, а какую-то торопкость исканья чего-то неизвестного, неведомого. В этом исканье прежде всего пробивалась жажда новизны ощущений. Неприглядный лесистый путь, по тропке, между рядами похожих одна на другую сосен, не только не притуплял этого ощущения, но, говоря точнее, пожалуй, изощрял его, доводя напряжение это до высшей степени по мере телесной усталости от скорой ходьбы. Быстроты ее Суббота не мог заметить сам, побуждаемый надеждой отыскать жилье и десять раз обманутый в своих ожиданиях. Издали ему казались похожими на избу то песчаный холмик между соснами, на повороте дороги, то кем-то заготовленные весной и просушиваемые на солнце пластины, приставленные к какой-то загороди, то избушка в самом деле, но необитаемая, без окон, дверей и потолка, у края дороги.
Вот уж начал спускаться и беловатый сырой туман, набрасывая дымчатый полог на лесную глушь. Стало приметно темнеть. Хотя время от времени то тут, то там между соснами прорывались трещины света, указывая на близость поля. Вот и лес перемежился перед пологим скатом, из-за которого потянул в сторонке дымок. Еще немного – и открылась усадьба: изба с двором и всякими хозяйственными пристройками. Яркими точками блестели волоковые окна избы, где огонь уже был подан.
Подходя к крылечку, Суббота услышал говор нескольких голосов, но, не подумав ни о чем, взялся за скобку двери и, растворив ее со скрипом, вступил в избу.
Изба была чистая, обширная, и обилие всякой домашней утвари, размещенной по настенным полкам да на голбце печи, указывало достаток хозяев. При редкости жилья в здешней стороне – смежной с литовским рубежом – доходно было пускать на ночлег, и плата за него давалась охотно застигаемыми темной ночью, совсем уже сгустившейся теперь. Изба, в которую случай завел Субботу, совсем приноровлена была для получения возможно большей выгоды от ночлежников. Кроме широких лавок вокруг стен, предлагались для спанья и полати, занимавшие больше половины всей внутренности чертога, где, как в ковчеге, всякой твари было по паре, и все сборище могло предаваться любому занятию. На этот раз только исключительное внимание всех обращал на себя глава ватаги веселых. Правда, из угла два тоненьких голоска затягивали, стараясь наладить на веселый мотив, «Как во городе было во Казани», но, никем не поддерживаемые, затихали, чтобы опять возобновляться, не рассчитывая на большую удачу.
У печки сидел цыган с волынкой; двое татар в тюбетейках чинили обувь; латышей, никак, двое, в белых малахаях, распоясывались, готовясь лезть на полати; оттуда же торчали, смотря вниз, пять либо шесть ребячьих голов. В большом углу перед столом, накрытым скатертью, – только без хлеба-соли покуда – лежали гудок да балалайка. На лавках, около стены и на особой, отдельно приставленной к столу, расположились человек семь веселых; а набольший у них, здоровый мужичок средних лет, в пестрядинной рубахе и суконных шароварах, величаемый Тарасом-Чистоговором, или иначе Угаром, держал в руках странный инструмент и складно, несколько нараспев, высчитывал его достоинства в виде бесконечных прибауток: «Нашего бубна всласть заслушивались князья да бояре да купецкие люди постаре, а молодшим мы его не покажем, не токма что не расскажем. А коли ково, примерно, захотим уважить, должон тот самой нашу ватагу поотважить: меду крепкого поставить, чтоб щедродателя позабавить. А бубен наш не какой ни на есть, а заветной, величеством взаправду приметной…»
И действительно, в руках краснобая был чудовищной величины двойной бубен, с тремя днами из пузыря и с двойным рядом прорезов для бубенчиков. Поясняя устройство этого орудия своего изготовления, повествователь время от времени ловко ударял тылом ручной пясти то по одной, то по другой стороне натянутого пузыря – и при этом раздавался звук очень своеобразный, хотя далеко не приятный. Скорее всего, гул от него можно бы было приравнять к тявканью шавок, покрываемому сиплым лаем породистого старого пса, прикованного на дворе на цепь и на холоду несколько осипшего.
«А бубен наш красу составит всякие беседы, про его сласть вели не раз споры ближные соседы. Лука с Данилой друг другу в бороду вцеплялись и сами потом удивлялись, што про што их до воительства довело, на сущее зло. Не одна ли словно друг другу поперечка. Не хотели друг другу уступить ни словечка. Один по сущей истине бубен величал, а другой супротив ему кричал: бубен твой хваленой ни к черту годится, как же ты, дурень, смеешь им хвалиться. А Данила – эдак, брат, не годится. Коли не мастероват изловчиться сей музыке сласть придать, так не тебе ее и в руки брать. Кто же тебя слушать захочет, коли пускаешься морочить, будто игра на бубне не отменная, не звучная и не мерная и твой дух не увеселяет?.. С лавки сидячи в пляс подмывает, коли умник на нем заиграет. А дурень, коли за что ни на есть возьмется, вестимо, пути не добьется».
Удовольствие от острот Чистоговора отразилось на лицах слушателей, и в уме их не могла уже возникнуть, конечно, мысль о малой мелодичности великана бубна – по объему своему действительно имевшего право старшинства между обыкновенными инструментами этого вида. Подхваливая же Тарасову игру, где дело расходилось со словом, слушатели положительно подтверждали замечательную у них дебелость ушей сравнительно с любыми нервами людей нашего времени, жалующихся на малейшую резкость звука или возвышение несколькими нотами голоса. Под шумок продолжаемых в том же роде россказней Тараса Суббота не возбудил ни в ком ни крошки внимания своим появлением. Наоборот, его внимание было поражено, особенно при том положении напряженности и жажды ощущений, прежде всего общностью сборища, а там каждою особью в свою очередь. Он имел полную свободу делать свои наблюдения, потому что глава ватаги, подкреплявший свою оживленную речь частыми глотками браги из кружки, был, что называется, неистощим и неподражаем в уменье протянуть нить рассказа о бубне в самую вечность. Двенадцать же глаз, на него обращенных, и столько же ушей, его слушавших, находились в состоянии полного очарования, ничем не способного нарушиться. Не принимала участия в знакомом ей, вероятно, очень хорошо рассказе о бубне только молодая особа в красном шушуне, в таких же черевиках да в желтой исподнице, сидевшая против рассказчика на приставленной к столу скамье, боком к вошедшему Субботе. Она словно обернула к нему голову, когда еще раздался скрип отворившейся двери, но потом отчего-то не один раз потуплялась, начиная разбирать узорную прошву своего вышитого цацами передника. Черты ее были больше чем привлекательны, но круглое лицо поражало бледностью и чем-то похожим на припухлость, а отнюдь не на простую полноту. Могла, впрочем, примирить и с этим недостатком ее лица улыбка, располагающая к себе всякого, на кого она бывала направлена. Улыбка эта, добрая и сочувственная, в минуту прихода Субботы как-то блуждала на лице, потерявшем большую часть своего оживления благодаря выпитой браге. Глаза ее, уже туманные, почти погружались в дремоту, видимо одолевшую эту особу, хотя она еще сопротивлялась приступам сонливости.
– А тут, друже, не озноб… другое, должно полагать… я сам ума не приложу. Снадобье мое, брате Панкратие, душевную болезнь врачует… в забвение приводит… в сон… да силу сбирает, сонным успокоением. Трав разных, в сборе варения того, много всяких: и зверобою нечто, и проскурняк, корень преотменный, и белены чуточку, и иных некиих. К исступлению приводят они, а легчат: сон наводят да дрему спасительную.
– Я так и подумал, отче. Как влил ему в рот почитай глотков десять питья… пена показалася, и он словно сомлел, голубчик… Да, мало-маля, и в пот ударило… И заснул снова, крепко-прекрепко.
– И должен он спать так долго!..?– с оживлением высказал Герасим.
Действительно, ведал он много верных средств ко врачеванию человеческих недугов, слывя в околотке за святого, успешно подавая помощь в страданиях, не поддававшихся заведомым знахарям. И от укуса змеиного пластырь давал отец Герасим, все распаление яда тотчас прекращавший. От порубки оружием отравленным, и от скверных язвин, и от корчи. Словом сказать, не было для его искусства ни одного недуга, которому бы он не помог ослабнуть, коли по грехам послан в казнь человеку на долгие сроки. Будь он корыстлив, пустынька бы игрушечкой у него глядела, а то прост уж очень разумный старец, и нищелюбив, и жалостлив – ничего не требовал за врачеванье свое… только бы во славу Божию совершить на пользу кому… Братия на это немало роптала, да ничего не приходилось говорить против набольшего, с Панкратием только и советовавшегося на четыре глаза…
А Панкратий не перечил ни в чем ни строителю, ни братии. Пошли его работать или перенести какую тяжесть, хоть бы Евлогий отрок-послушник, он и того послушает. А в диаконы ведь поставлен и первым по строителе считается работником, конечно.
Коня братия решила взять в пустыню, заключая, что Бог послал на их нужды рабочий скот. Замерзший или бесчувственный человек занял только душу Панкратия, которому долго пришлось просиживать у изголовья медленно возвращавшегося к житью на белом свете.
Был, никак, четырнадцатый день, когда Суббота – это был он – впервые открыл тусклые глаза и тут же смежил их, не доверяя себе, что он подлинно видит совсем неизвестное место да человека в черном вроде сторожа. Не мог также вдруг очнувшийся обознать за людское жилище и бедную низменную полуземлянку, где царствовал чуть не мрак и где вокруг не находил глаз ни одного предмета, сколько-нибудь знакомого бедняку. Мало-помалу, однако, с возвращением памяти, в Субботе пробудилось сперва смутное, потом ясное сознание неотвратимого и непоправимого, как он думал, несчастья. Разрыв с Нечаем и потеря Глаши, представившись теперь ясно в памяти молодого человека, вырвали у него невольный продолжительный стон и скрежет зубов, напугавшие обычно бестрепетного Панкратия.
– Видно, последний кончик пришел сердечному…?– прошептал инок, сотворив молитву и крестя страждущего.
Он же через минуту опять смежил веки. Разлучение с жизнью, однако ж, долго не наступало, и находчивый отец Панкратий поспешил привести кроткого Герасима: посмотреть, что творится с врачуемым.
Вид старичка с добрым располагающим взглядом и словами участия, казалось, успокоил Субботу, с которым строитель не решался, однако ж, заговорить, а только глядел на грустный лик, начинавший загораться зловещим пламенем горячки. Зорко следя за переменой в лице больного и заметив лихорадочное оживление глаз, быстро начинавших бегать, переносясь мгновенно с одного места на другое, Герасим вышел и, воротясь, влил в рот больному какого-то снадобья, должно быть горького, но успокоительного. Судорожное напряжение через минуту исчезло с лица страдальца – и он впал в тихое забытье. Мысли его получили какую-то лень, не дававшую им правильно течь из-за боли. Едва ли в том положении, в которое бросила Субботу прихотливая судьба, лекарство отца Герасима не было единственно способным сохранить потрясенную ударом умственную деятельность.
Отец Герасим проявил в себе дивное искусство. Какое дать соответствующее лекарство больному, отгадал он одним ясновидением сердца, не зная еще всей глубины душевного потрясения страждущего. Суббота хранил, однако, упорное молчание и начинал поправляться. Какой заботливости ухода требовало это улучшение со стороны вечно улыбавшегося Панкратия – на это мог бы дать ответ только он один, если бы он любил хвалиться своими подвигами. Это уже выходило из круга понимания своих обязанностей приветливым здоровяком, а он начинал хмуриться только благодаря угрюмому лику выздоравливавшего.
Вот наконец Суббота уже может и подняться с жесткого ложа, которое владелец кельи уступил своему случайному гостю, а он только два раза за все время своего здесь пребывания и поговорил с добряком Панкратием. В первый раз он попросил рассказать, как сюда попал, а сам не ответил на вопрос рассказчика о его имени и прозвании, не вызвав, впрочем, и этим недоверием неудовольствия на лице кроткого инока. В другой раз – это было на Страстной – Суббота изъявил Панкратию желание облегчить совесть исповедью – и единственный иерей в пустыньке, строитель Герасим, не замедлил явиться в роли примирителя души с Небом.
На этот раз Суббота не думал ничего таить в повести своей недолгой еще жизни, которой в будущем не предстояло, по его собственному мнению, видеть еще раз приманку счастья. Кроткий отец Герасим молчал, слушая и давая полную волю высказываться поверяющему ему свой сердечный недуг. Только когда замолк кающийся, пустынник, сам смолоду изведавший немало злоключений в жизни, спросил его кротко:
– Что ж ты… прощаешь зло содеявшему тебе?..
– Простить… не под силу…
– Зачем же ты, человече, поведал мне начало своего падения? Без прощения врагам Христос не отпущает нам грехи наши… Зла желая нанесшим тебе хотя и кровную обиду, ты можешь уподобиться началу зла всяческого, диаволу и пособникам его.
– Пусть и с ними часть моя – только бы отомстить удалось… губителю моей чести и участи. Пропадать мне так пропадать!
Герасим с ужасом посмотрел на упорного и, как бы не веря себе, переспросил его:
– И это, человече, твое последнее слово? И этого от тебя, думаешь ты, ждал Искупитель, спасший тебя от верной смерти?..
– Инако не могу думать… пока жив…
Кроткий старец отшатнулся от излеченного им и голосом, полным грусти, проговорил:
– Так Господь же с тобою, иди куда знаешь из нашей мирной сени… Мы, иноки, никого не научаем на зло и никому не помогаем во вреде ближнему, хотя бы и тяжко согрешившему… Тебя поднял Господь с одра… твори же мимо нас, что внушит тебе на благо ум да разум твой. Памятуй только, что отомститель неправды один у нас – Бог! Мы все – только ничтожные слуги велений Всемогущего… а веления Его дает нам знать слово Его, изреченное чрез пророка: «Милости хощу, а не жертвы». Нет в тебе побуждения миловать – ты не раб Господа своего, а раб страстей твоих, изрывающих тебе пропасть до дна адова… Вот путь немилостивых!
Суббота развел руками, как человек, который не может принять предлагаемое ему, и только слеза, улика тяжелой борьбы в душе его в эту минуту, медленно заискрилась в потухшем взгляде отчаявшегося. Налившись в полную каплю, она упала на эпитрахиль сосредоточенного Герасима. Старец отдернул руку, державшую крест, чтобы не дать его облобызать не раскаявшемуся в злом намерении.
Тихо удалился затем грустный иерей Герасим от решительного Субботы, ни словом, ни взглядом не давая понять ожидавшему в сенцах конца исповеди Панкратию, какую тяжесть нес он теперь на своей совести, не успев пролить ни капли света благодати в омраченную душу. Упрямец настаивал на своем с такой силой, какую исповедник видел в первый раз в жизни, не встречая ничего подобного и у пожилых людей, не только в молодом еще, распускающемся побеге страстной природы.
Весь вечер оставался Герасим погруженным в неотвратимую думу. После звона к вечерни он не вдруг стал на правило. Отходя же ко сну, сделал теперь лишние три поклона сверх положенного, прошептав: «Преврати, Господи, ярость львову в незлобие голубицы!»
Но прежде чем тушить свечу у налоя, сосредоточенный строитель-молельщик раскрыл служебник и загадал: получится ли просимое? Глаза его упали в книге на слова: «Смерть грешников люта!» Содрогаясь, перекрестился он и, опустясь на колени, долго стоял, воздев очи горе.
Суббота не выходил из кельи Панкратия. Разговелся один – пасхальным яйцом, принесенным ему от общего разговенья братий, и не искал ни встречи, ни новой беседы с Герасимом.
В день Радуницы, совершив поминовение усопших и выходя из часовни, строитель сказал брату Панкратию:
– Передай своему гостю, что ему у нас делать нечего… Теперь совсем поправился – может идти куды знает…
– Я, отче, попрежь ему говаривал не одиножды о сожитии с нами… по восприятии иноческа образа… и он не прочь был.
– Ему нельзя… отречься от мира,?– выговорил неохотно Герасим и замолчал.
Словно перевернулось что, произведя глухую, но довольно ощутимую, мгновенную боль в сердце Панкратия при вести об изгнании Субботы строителем. Панкратий передал своему молчаливому сожителю по келье решение главы пустыни и услышал односложное: «Завтра!»
Наступило утро. Панкратий увидел Субботу уже сидевшим на постели своей и одетым в его кафтан, до того бережно висевший рядом с убогой рясой владельца кельи.
Испив воды, Суббота поблагодарил за гостеприимство брата Панкратия и просил его, если не в труд, указать выход из пустыньки проселком на большую дорогу.
Панкратий не выдержал. Бросившись лобызать уходившего, он сунул ему в карман хлеба вместе с алтыном – единственной монетой, составлявшей все наличное богатство нелюбостяжательного брата. Замахав рукой, когда Суббота отказывался брать дар чистейшей дружбы, он едва выговорил:
– Коня тебе выведу твоего!..
– Оставь на братию – конь этот не мой. Не коня, а шапку бы нужно.
Вместо ответа Панкратий снял с полки шапочку свою, надевавшуюся только в праздники, и подал ее человеку, видимо чуждавшемуся его до сих пор, хотя, правду сказать, обязанному бы выказать со своей стороны, если ничем другим, то вниманием, признательностью за уход и гостеприимство. Субботе между тем и в голову не приходила эта обязанность за обуявшим его ум сознанием потери всяких надежд на счастье.
Сознание это приводило в ярость его молодое сердце, изведавшее разом гибель всего, что составляло его жизнь и счастье. Понятно при этом и упорство в отказе отцу духовному на требование его примиренья и забвения. Словом, молодой человек страдал, а мучения его старому монаху и представиться не могли во всей глубине и боли их, хотя бы и имел он возможность подумать поглубже над содержанием исповеди Субботы.
Из нее понял отец Герасим лишь кровность обиды и злорадство Нечая, нарушившего обещание свое, прибавив еще глумление и оскорбление. Но силы любви Субботы к Глаше никак и не представлял Герасим себе, не испытав других бед, кроме гонения и унижений. Да и сам Суббота не думал признаваться на духу в своих ощущениях, считая их вовсе не подлежащими пересказу кому-нибудь. Он был натурой сдержанной и нелегко поддававшейся чужому влиянию, без чего от подобных ему людей трудно ожидать полного откровения. С Панкратием Суббота опять составлял во всем полную противоположность, а больше всего разность выступала у них в складе понятий. Мало жил Суббота еще на свете, но видел, как живут люди; знал и по себе судил о семейном приволье и свободе. Панкратий же сиротой рос в монастыре, вынес с годами из прожитого одну необходимость полного подчинения, у него не было побуждений подчинить себе волю другого изучением его слабых сторон. А только искусно действуя на них, мы заставляем человека самого высказываться.
Так Панкратий и Суббота при теперешних обстоятельствах не дошли до сближения. Оно между тем было так близко. Даже в ту минуту, когда Панкратий вывел Субботу на дорогу и махнул рукой в ту сторону, куда идти по ней пешеходу, он не мог говорить, задушаемый подступом слез. Почему текли они у него, он и сам не понимал, быстро отвернулся и пошел назад, дав волю сдерживаемому потоку. Суббота бросился было за ним, но какая-то сила приковала ноги его к земле. Оборотись Панкратий случайно, может быть, не так бы скоро воротился он в свою пустыньку, зато утешен бы был излиянием дружбы в такой полноте, какой никто еще не оказывал в жизни. И Суббота, вероятно, стал бы не тем после переворота и душевного отдыха. Душа молодого человека искала теперь предмета для сочувствия, готовая ни на что не обращать внимания, кроме вызова теплоты чувства, даже самой ничтожной и ненадежной; не хватало одной искры огня, чтобы разлиться пожаром.
Голова его была подавлена наплывом дум – в совокупности тяжелых, но поодиночке не заключавших ни колючести болезненной, ни приманки обольстительной, а какую-то торопкость исканья чего-то неизвестного, неведомого. В этом исканье прежде всего пробивалась жажда новизны ощущений. Неприглядный лесистый путь, по тропке, между рядами похожих одна на другую сосен, не только не притуплял этого ощущения, но, говоря точнее, пожалуй, изощрял его, доводя напряжение это до высшей степени по мере телесной усталости от скорой ходьбы. Быстроты ее Суббота не мог заметить сам, побуждаемый надеждой отыскать жилье и десять раз обманутый в своих ожиданиях. Издали ему казались похожими на избу то песчаный холмик между соснами, на повороте дороги, то кем-то заготовленные весной и просушиваемые на солнце пластины, приставленные к какой-то загороди, то избушка в самом деле, но необитаемая, без окон, дверей и потолка, у края дороги.
Вот уж начал спускаться и беловатый сырой туман, набрасывая дымчатый полог на лесную глушь. Стало приметно темнеть. Хотя время от времени то тут, то там между соснами прорывались трещины света, указывая на близость поля. Вот и лес перемежился перед пологим скатом, из-за которого потянул в сторонке дымок. Еще немного – и открылась усадьба: изба с двором и всякими хозяйственными пристройками. Яркими точками блестели волоковые окна избы, где огонь уже был подан.
Подходя к крылечку, Суббота услышал говор нескольких голосов, но, не подумав ни о чем, взялся за скобку двери и, растворив ее со скрипом, вступил в избу.
Изба была чистая, обширная, и обилие всякой домашней утвари, размещенной по настенным полкам да на голбце печи, указывало достаток хозяев. При редкости жилья в здешней стороне – смежной с литовским рубежом – доходно было пускать на ночлег, и плата за него давалась охотно застигаемыми темной ночью, совсем уже сгустившейся теперь. Изба, в которую случай завел Субботу, совсем приноровлена была для получения возможно большей выгоды от ночлежников. Кроме широких лавок вокруг стен, предлагались для спанья и полати, занимавшие больше половины всей внутренности чертога, где, как в ковчеге, всякой твари было по паре, и все сборище могло предаваться любому занятию. На этот раз только исключительное внимание всех обращал на себя глава ватаги веселых. Правда, из угла два тоненьких голоска затягивали, стараясь наладить на веселый мотив, «Как во городе было во Казани», но, никем не поддерживаемые, затихали, чтобы опять возобновляться, не рассчитывая на большую удачу.
У печки сидел цыган с волынкой; двое татар в тюбетейках чинили обувь; латышей, никак, двое, в белых малахаях, распоясывались, готовясь лезть на полати; оттуда же торчали, смотря вниз, пять либо шесть ребячьих голов. В большом углу перед столом, накрытым скатертью, – только без хлеба-соли покуда – лежали гудок да балалайка. На лавках, около стены и на особой, отдельно приставленной к столу, расположились человек семь веселых; а набольший у них, здоровый мужичок средних лет, в пестрядинной рубахе и суконных шароварах, величаемый Тарасом-Чистоговором, или иначе Угаром, держал в руках странный инструмент и складно, несколько нараспев, высчитывал его достоинства в виде бесконечных прибауток: «Нашего бубна всласть заслушивались князья да бояре да купецкие люди постаре, а молодшим мы его не покажем, не токма что не расскажем. А коли ково, примерно, захотим уважить, должон тот самой нашу ватагу поотважить: меду крепкого поставить, чтоб щедродателя позабавить. А бубен наш не какой ни на есть, а заветной, величеством взаправду приметной…»
И действительно, в руках краснобая был чудовищной величины двойной бубен, с тремя днами из пузыря и с двойным рядом прорезов для бубенчиков. Поясняя устройство этого орудия своего изготовления, повествователь время от времени ловко ударял тылом ручной пясти то по одной, то по другой стороне натянутого пузыря – и при этом раздавался звук очень своеобразный, хотя далеко не приятный. Скорее всего, гул от него можно бы было приравнять к тявканью шавок, покрываемому сиплым лаем породистого старого пса, прикованного на дворе на цепь и на холоду несколько осипшего.
«А бубен наш красу составит всякие беседы, про его сласть вели не раз споры ближные соседы. Лука с Данилой друг другу в бороду вцеплялись и сами потом удивлялись, што про што их до воительства довело, на сущее зло. Не одна ли словно друг другу поперечка. Не хотели друг другу уступить ни словечка. Один по сущей истине бубен величал, а другой супротив ему кричал: бубен твой хваленой ни к черту годится, как же ты, дурень, смеешь им хвалиться. А Данила – эдак, брат, не годится. Коли не мастероват изловчиться сей музыке сласть придать, так не тебе ее и в руки брать. Кто же тебя слушать захочет, коли пускаешься морочить, будто игра на бубне не отменная, не звучная и не мерная и твой дух не увеселяет?.. С лавки сидячи в пляс подмывает, коли умник на нем заиграет. А дурень, коли за что ни на есть возьмется, вестимо, пути не добьется».
Удовольствие от острот Чистоговора отразилось на лицах слушателей, и в уме их не могла уже возникнуть, конечно, мысль о малой мелодичности великана бубна – по объему своему действительно имевшего право старшинства между обыкновенными инструментами этого вида. Подхваливая же Тарасову игру, где дело расходилось со словом, слушатели положительно подтверждали замечательную у них дебелость ушей сравнительно с любыми нервами людей нашего времени, жалующихся на малейшую резкость звука или возвышение несколькими нотами голоса. Под шумок продолжаемых в том же роде россказней Тараса Суббота не возбудил ни в ком ни крошки внимания своим появлением. Наоборот, его внимание было поражено, особенно при том положении напряженности и жажды ощущений, прежде всего общностью сборища, а там каждою особью в свою очередь. Он имел полную свободу делать свои наблюдения, потому что глава ватаги, подкреплявший свою оживленную речь частыми глотками браги из кружки, был, что называется, неистощим и неподражаем в уменье протянуть нить рассказа о бубне в самую вечность. Двенадцать же глаз, на него обращенных, и столько же ушей, его слушавших, находились в состоянии полного очарования, ничем не способного нарушиться. Не принимала участия в знакомом ей, вероятно, очень хорошо рассказе о бубне только молодая особа в красном шушуне, в таких же черевиках да в желтой исподнице, сидевшая против рассказчика на приставленной к столу скамье, боком к вошедшему Субботе. Она словно обернула к нему голову, когда еще раздался скрип отворившейся двери, но потом отчего-то не один раз потуплялась, начиная разбирать узорную прошву своего вышитого цацами передника. Черты ее были больше чем привлекательны, но круглое лицо поражало бледностью и чем-то похожим на припухлость, а отнюдь не на простую полноту. Могла, впрочем, примирить и с этим недостатком ее лица улыбка, располагающая к себе всякого, на кого она бывала направлена. Улыбка эта, добрая и сочувственная, в минуту прихода Субботы как-то блуждала на лице, потерявшем большую часть своего оживления благодаря выпитой браге. Глаза ее, уже туманные, почти погружались в дремоту, видимо одолевшую эту особу, хотя она еще сопротивлялась приступам сонливости.