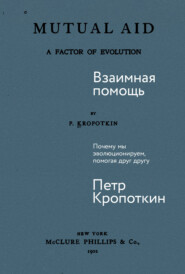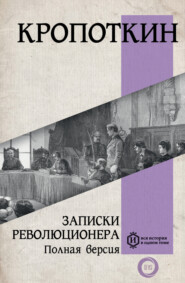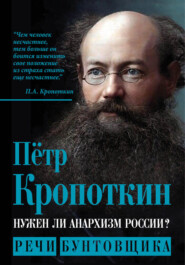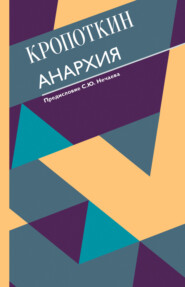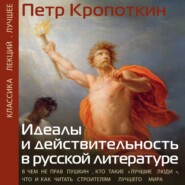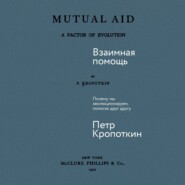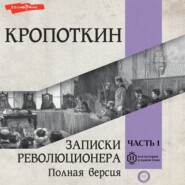По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Идеалы и действительность в русской литературе: В чем не прав Пушкин, кто такие «лучшие люди», что и как читать строителям лучшего мира
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Создание поэмы относится к концу XII века или началу XIII (рукопись ее, погибшая во время московского пожара в 1812 году, носила следы XIV или XV столетия). Поэма, несомненно, является единоличным трудом одного автора и по красоте и поэтичности может быть поставлена наряду с «Песней о Нибелунгах» или с «Песней о Роланде». В ней излагается реальное событие, случившееся в 1185 году. Игорь, князь киевский, выступает со своей дружиной против половцев, которые занимали степи юго-западной России и постоянно нападали на русские поселения. На пути через степи князя встречают мрачные предвестия: происходит затмение солнца, и оно бросает тень на княжескую дружину; звери предостерегают Игоря, но он не обращает на это внимания: поход продолжается. Наконец, его дружина встречает половцев, и начинается великая битва.
Описание битвы, в которой вся природа принимает участие, – орлы, и волки, и лисицы, которые лают на красные щиты русских воинов, – поистине замечательно. Войско Игоря разбито.
«С утра до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, звучат сабли о шеломы, трещат копья булатные, в поле незнаемом, среди земли половецкой. Черная земля под копытами костьми была посеяна, а кровью полита: возросла на ней беда для земли русской. Что мне шумит, что мне звенит рано перед зарею? Игорь полки поворачивает: жаль бо ему милого брата Всеволода. Билися день, билися другой: на третий день к полудню пали знамена Игоревы. Тут разлучилися братья на берегу быстрой Каялы. Недостало тут вина кровавого; тут и кончили пир храбрые русичи: сватов попоили, да и сами легли на землю русскую. Поникла трава от жалости, и дерево к земле преклонилось от печали». (Перевод Белинского. Сочинения. Изд. Венгерова, т. VI.)
Вслед за тем идет один из лучших образчиков древней русской поэзии – плач Ярославны, жены Игоря, которая ожидает его возвращения в Путивле. (Передаю его в том же переводе Белинского.)
«Ярославнин голос раздается рано поутру: ”Полечу я по Дунаю зегзицею, омочу бобровый рукав в Каяле-реке, отру князю кровавые раны на жестком теле его!»
Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене: “О ветер, о ветер! Зачем, господине, так сильно веешь? Зачем на своих легких крыльях мчишь ханские стрелы на воинов моей лады? Или мало для тебя гор, чтобы веять под облаками, лелеючи корабли на синем море? Зачем, господине, развеял ты мое веселие по ковыль-траве?”
Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене: “О Днепре пресловутый! ты пробил каменные горы сквозь землю половецкую, ты лелеял на себе ладьи Святославы до стану кобякова: взлелей же, господине, мою ладу ко мне, чтобы не слала я к нему по утрам слез моих на море”.
Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене: “Светлое и пресветлое солнце! всем и красно и тепло ты: зачем, господине, простер горячий луч свой на воинов моей лады, в безводном поле жаждою луки им сопряг, печалию им колчаны затянул?”»
Этот небольшой отрывок может дать некоторое понятие об общем характере и поэтических красотах «Слова о полку Игореве».
Несомненно, эта поэма не была единственной, и помимо нее в те времена, вероятно, составлялись и распевались многие подобные же поэмы героического характера. Во введении к поэме действительно упоминается о бардах, особенно об одном из них, Баяне, песни которого сравниваются с ветром, несущимися по вершинам деревьев. Такие Баяны, вероятно, во множестве ходили по русской земле и пели подобные «Слова» во время пиров князей и их дружин. К несчастью, лишь одна из этих поэм дошла до нас. Русская церковь безжалостно запрещала – особенно в XV, XVI и XVII столетиях – пение эпических песен, имевших распространение в народных массах; она считала их «языческими» и налагала суровые наказания на бардов и вообще всех поющих старые песни. Вследствие этого до нас дошли лишь небольшие отрывки ранней народной поэзии.
Но даже немногие остатки прошлого оказали сильное влияние на русскую литературу, с тех пор как она усвоила другие сюжеты кроме чисто религиозных. Если русская версификация приняла силлабо-тоническую форму вместо силлабической, это объясняется тем, что на русских поэтов оказала влияние ритмическая форма народных песен. Кроме того, вплоть до недавнего времени народные песни являлись такой важной чертой русской деревенской жизни – как в домах помещиков, так и в избах крестьян, – что они неизбежно должны были оказать глубокое влияние на русских поэтов; и первый великий поэт России, Пушкин начал свою карьеру с пересказа в стихах сказок своей няни, которые он любил слушать долгими зимними вечерами. Благодаря нашему почти невероятному богатству чрезвычайно музыкальных народных песен возможно было также появление в России уже в 1835 году оперы «Аскольдова могила» Верстовского, чисто русские мелодии которой запоминаются даже наименее музыкальными из русских слушателей; благодаря тем же причинам оперы Даргомыжского и наших молодых композиторов имеют теперь такой успех в русской деревне, причем хоры в них исполняются местными певцами из крестьян.
Таким образом, народная поэзия и народные песни оказали России громадную услугу. Они сохранили известное единство между языком литературы и языком народных масс, между музыкой Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина и т. д. и музыкой крестьянских хоров, сделав таким образом творчество поэта и композитора доступными крестьянину.
Летописи
Говоря о ранней русской литературе, необходимо упомянуть также, хотя бы вкратце, о летописях.
Ни одна страна не может похвалиться более богатым собранием летописей. В X–XII веках главными центрами развития были: Киев, Новгород, Псков, земля Волынская, Суздальская (Владимир, Москва), Рязанская и т. д., являвшиеся в то время своего рода независимыми республиками, объединенными между собою единством языка и религии, а также тем обстоятельством, что все они выбирали своих князей, выполнявших роль военных вождей и судей, из дома Рюрика. Каждый из этих центров имел собственные летописи, носившие отпечаток местной жизни и местных особенностей. Южнорусские и волынские летописи – из которых так называемая летопись Нестора отличается наибольшей полнотой и пользуется наибольшей известностью – не были лишь сухим сводом фактических данных; местами в них заметна работа воображения и поэтического вдохновения. Летописи новгородские носят отпечаток жизни города богатых купцов: они имеют строго фактический характер, и летописец воодушевляется лишь при описании побед Новгородской республики над Суздальской землей. Летописи соседней Псковской республики, напротив, проникнуты демократическим духом и с демократической симпатией, в чрезвычайно живописной форме рассказывают о борьбе между бедняками и богачами Пскова. Летописи не были трудом монахов, как это предполагалось ранее; они составлялись для различных республик людьми, хорошо знакомыми с их политической жизнью, договорами с другими республиками, внутренними и внешними противоречиями и т. д.
Более того, летописи, в особенности киевские, и среди них Нестерова летопись, были не просто хроникой событий; это были, как можно судить по самому названию последней («Откуда есть пошла Русская земля»), попытки написать историю страны под влиянием греческих образцов подобного рода. Рукописи, дошедшие до нас, в особенности киевские, имеют сложную композицию, и историки различают в них несколько уровней текста, относящихся к различным периодам. Это старинные предания, отрывки сведений, вероятно, заимствованных у византийских историков, старинных договоров, поэм, в которых рассказывается о различных эпизодах, подобных походу Игоря, и записей из местных летописей различных периодов. Исторические факты, относящиеся к очень раннему периоду истории и подтверждаемые свидетельствами константинопольских летописцев и историков, смешиваются с чисто мифическими преданиями. Но именно эта особенность и придает особенно высокую литературную ценность русским летописям, особенно южным и юго-западным, в которых чаще всего встречаются наиболее драгоценные отрывки ранней литературы.
Таковы в целом были литературные сокровища, которыми обладала Россия в начале XIII века.
Средневековая литература
Монгольское нашествие, случившееся в 1223 г.[5 - 31 мая 1223 года случилась битва на Калке – первое столкновение русских князей с монголами и первое тяжелейшее поражение от них, причем, в основном из-за самонадеянности, неумения договариваться и незнания противника. Монгольское нашествие на Русь началось в 1237 году.], разрушило всю эту молодую цивилизацию и повело Россию по совершенно иному пути. Главные города южной и средней России были разрушены. Киев, бывший многолюдным городом и центром тогдашней образованности, был низведен до степени незначительного поселения, с трудом борющегося за существование, и в течение следующих двух столетий он совершенно исчезает из истории. Целые населения больших городов уводились в плен монголами или беспощадно истреблялись в случае сопротивления. Как бы в довершение несчастий, постигнувших Россию, вслед за монголами последовали турки, напавшие на Балканский полуостров, и к концу XV века две страны, Сербия и Болгария, при посредстве которых в России распространилась образованность, попали под иго османов. Вся жизнь России подверглась глубоким изменениям.
До монгольского нашествия вся страна состояла из независимых республик, подобных средневековым городам-республикам Западной Европы[6 - Здесь автор допускает явную вольность то ли от незнания, то ли в погоне за идеей: ни коим образом система государственного управления в древнерусских княжествах домонгольской эпохи не походила на республиканский строй в том смысле, о котором говорит П. А. Кропоткин, да и города-республики Западной Европы, все эти мелкие независимые территории были никак не демократическими государствами, а скорее территориями, управляемыми олигархическим или теократически-олигархическим аппаратом, либо вообще военной властью (примечание редактора).]. Теперь, при сильной поддержке церкви, постепенно начало образовываться в Москве военное государство, которое с помощью монгольских ханов подчинило себе окружавшие его независимые области. Главные усилия государственных людей и наиболее активных представителей русской церкви были направлены теперь на создание могущественного княжества, которое обладало бы достаточными силами, чтобы сбросить монгольское иго. Прежние идеалы местной независимости и федерации заменились идеалами централизованного государства. Церковь в своем стремлении создать христианскую нацию, свободную от всякого умственного или нравственного влияния ненавидимых язычников-монголов, превратилась в суровую централизующую силу, безжалостно преследовавшую всякие остатки языческого прошлого. В то же время церковь неутомимо работала над установлением по византийскому образцу неограниченной власти московских князей. С целью усиления военной мощи государства было введено крепостное право. Вся независимая местная жизнь была задавлена. Идея о том, что Москва является центром церковной и государственной жизни, усиленно поддерживалась церковью, которая проповедовала, что Москва – наследница Константинополя – «третий Рим», единственная страна, в которой сохранилось истинное христианство. В более позднюю эпоху, когда монгольское иго было уже свергнуто, работа по консолидации московской монархии усердно продолжалась царями и церковью, боровшимися против проникновения западноевропейских влияний, с целью предохранить русскую церковь от происков «латынской» церкви.
Эти новые условия неизбежным образом оказали глубокое влияние на дальнейшее развитие литературы. Свежесть и энергическая юность ранней эпической поэзии исчезли навсегда. Меланхолическая грусть и дух покорности становятся с этого времени характерными чертами русской народной поэзии. Постоянные набеги татар, которые уводили целые деревни в плен в южнорусские степи, страдания этих пленников в рабстве, наезды баскаков, налагавших тяжелые дани и издевавшихся всяческим образом над покоренными, тяжести, налагаемые на народ ростом военного государства, – все это отразилось в народных песнях, окрасив их глубокой печалью, от которой они не освободились и до сих пор. В то же самое время веселые свадебные песни древности и эпические песни странствующих певцов подвергались запрету, и люди, осмелившиеся распевать их, жестоко преследовались церковью, которая видела в этих песнях не только пережиток языческого прошлого, но и нечто, могущее дать повод к сближению населения с язычниками-татарами.
Тогдашняя образованность мало-помалу сосредоточивалась в монастырях, из которых каждый являлся своего рода крепостью, в которой спасалось население при нашествии татар, и эта образованность, по вышеуказанным причинам, замыкалась в тесном круге христианской литературы. Изучение природы рассматривалось как ересь, близкая к «волхвованию». Аскетизм превозносился как высшая христианская добродетель, и его восхваление является отличительной чертой тогдашней письменности. Наибольшим распространением пользовались всякого рода легенды о святых, заучивавшиеся наизусть, причем этого рода литература не уравновешивалась даже той наукой, которая развивалась в средневековых университетах Западной Европы. Стремление к познанию природы осуждалось церковью, как проявление горделивого ума. На поэзию смотрели как на грех. Летописи потеряли свой прежний воодушевленный характер и превратились в сухой перечень успехов возрастающего государства или же наполнялись мелочами, относящимися к деятельности местных епископов и архимандритов монастырей.
В течение XII века в северных республиках, Новгородской и Псковской, образовалось довольно сильное течение религиозной мысли, склонявшееся, с одной стороны, к протестантскому рационализму и, с другой, – к развитию христианства на основе ранних христианских братств. Апокрифические Евангелия, книги Старого Завета и всякие книги, в которых рассматривался вопрос об истинном христианстве, усердно переписывались и пользовались широким распространением. Но теперь главы церкви в средней России усиленно боролись против всякого рода тенденций, принимавших характер реформированного христианства. От паствы требовалась строгая приверженность букве учения византийской церкви. Попытки объяснения Евангелий рассматривались как ересь. Всякое проявление умственной жизни в сфере религии, равно как и критическое отношение к духовным властям московской церкви, считалось чрезвычайно опасным, и люди, виновные в подобной дерзости, вынуждены бывали бежать из Москвы, ища убежища в глухих монастырях дальнего Севера. Великая эпоха Возрождения, влившая новую жизнь в Западную Европу, прошла бесследно для России: церковь свирепо истребляла все, выходившее из рамок обрядовости, и сжигала на кострах или умучивала пытками всех, проявлявших признаки независимой или критической мысли.
Я не буду останавливаться на этом периоде, охватывающем почти пять столетий, так как он представляет очень мало интереса для исследователя русской литературы, и ограничусь лишь упоминанием о двух или трех трудах, заслуживающих внимания.
Одним из таких литературных трудов является переписка между царем Иоанном Грозным и одним из его вассалов, князем Курбским, бежавшим из Москвы в Литву[7 - Какая мягкая формулировка для государственной измены! Вопрос относительно жестокости Ивана IV весьма спорный. Европейские монархи его эпохи, та же Елизавета I Тюдор, королева Англии, короли Франции или испанские монархи Карл IV и Филипп II Габсбурги пролили в разы больше крови, нежели Иван Грозный, устраивали геноцид по религиозному и расовому признаку (примечание редактора).]. Из-за литовского рубежа Курбский писал своему жестокому, полубезумному бывшему властелину длинные письма, полные укоризн, на которые Иоанн отвечал, развивая в своих ответах теорию божественного происхождения царской власти. Эта переписка очень интересна как для характеристики политических идей того времени, так и для определения круга познаний той эпохи.
После смерти Иоанна Грозного (занимавшего в русской истории то же место, какое занимал во Франции Людовик XI, так как он уничтожил огнем и мечом – но с чисто татарской жестокостью – власть феодальных князей[8 - Во Франции этот процесс растянулся во времени. Активно проводить политику уничтожения полунезависимых феодалов начал еще Филипп II Август (1180–1223), потом он был заторможен и прерван Столетней войной и сопровождающими ее смутами, а Людовик XI и его преемники вплоть до Франциска I просто завершили этот процесс. И жестокости там было не меньше, не такой прямолинейной, но от этого не ставшей приятнее (примечание редактора).]) в России наступают, как известно, времена великих смут. Появляется из Польши загадочный Дмитрий, объявивший себя сыном Иоанна, и захватывает московский престол[9 - Лжедмитриев было по крайней мере двое. Никакого отношения к Ивану Грозному они не имели, это был польский проект с целью захвата власти в Московском царстве и обычные самозванцы.]. В Россию вступают поляки, которые вскоре овладевают Москвой, Смоленском и всеми западными городами. Вслед за свержением Дмитрия, последовавшим несколько месяцев спустя после его коронации, вспыхивает крестьянское восстание, и вся центральная Россия наводняется казацкими шайками, причем выступают несколько новых претендентов на престол. Эти годы – «Лихолетье» – должны были оставить следы в народных песнях, но песни того времени были забыты потом, когда наступил мрачный период последовавшего затем крепостного права, и мы знаем некоторые из них лишь благодаря англичанину Ричарду Джеймсу, который был в России в 1619 году и записал некоторые песни, относящиеся к этому периоду. То же должно сказать и о той народной литературе, которая, несомненно, должна была сложиться во второй половине XVIII века. Она совершенно погибла. Окончательное введение крепостного права при первом Романове (Михаил, 1612–1640); следовавшие затем повсеместные крестьянские бунты, закончившиеся грозным восстанием Степана Разина[10 - Восстание Степана Разина ни в коей мере не было крестьянским. Это был бунт казачества, противившегося ограничению их «вольности», то есть свободы грабить кого угодно, не считаясь с интересами государства. Восстание лишь стало катализатором для бунтов крестьян и малых народов Поволжья, и то их предводителями чаще всего были те же казаки. И казаки же, понимая, что действия Степана Разина приведут к глобальному конфликту царской власти со всем казачеством, выдали Степана Разина и его брата Федора властям (примечание редактора).], который сделался с тех пор любимым героем угнетенных крестьян; и, наконец, суровое бесчеловечное преследование раскольников, их переселение на восток в дебри Урала, – все эти события, несомненно, нашли выражение в народных песнях, но государство и церковь с такой жестокостью душили все, носившее малейшие следы «мятежного» духа, что до нас не дошло никаких памятников народного творчества этой эпохи. Лишь несколько сочинений полемического характера и замечательная автобиография ссыльного священника Аввакума сохранились в рукописной литературе раскольников.
Церковный раскол. Автобиография Аввакума
Первая русская Библия была напечатана в Польше в 1580 году. Несколькими годами позднее была устроена типография в Москве, и властям русской церкви пришлось теперь решать – какой из писаных текстов, бывших в обращении, следует принять за оригинал при печатании священных книг. Списки этих книг, бывшие тогда в обращении, были полны описок и ошибок, и было ясно, что раньше, чем печатать, они должны были подвергнуться пересмотру путем сравнения с греческими текстами. Исправление церковных книг было предпринято в Москве с помощью ученых, отчасти вызванных из Греции, отчасти же учеников Греко-латинской академии в Киеве; но, вследствие целого ряда сложных причин, это исправление послужило началом широко разлившегося недовольства среди верующих, и в середине XVII века в православной церкви произошел серьезный раскол. Очевидно, этот раскол коренился не только в богословских разногласиях или в греческих и славянских разночтениях. Семнадцатый век был веком, когда московская церковь приобрела громадную силу в государстве. Глава ее, патриарх Никон, был очень честолюбивый человек, пытавшийся играть на Востоке ту роль, которую на Западе играет папа; с этой целью он старался поражать народ царским великолепием и царскою роскошью своей обстановки; а это, конечно, тяжело отзывалось на крепостных крестьянах, принадлежавших церкви, и на низшем духовенстве, с которого взыскивались тяжелые поборы. Вследствие этого и крестьяне, и низшие слои духовенства относились к патриарху Никону с ненавистью, и его вскоре обвинили в склонности к «латынству»; так что раскол между народом и духовенством – в особенности высшим – принял характер отделения народа от иерархического православия.
Большинство раскольничьих писаний этого времени носит чисто схоластический характер и не представляет литературного интереса. Но автобиография раскольничьего протопопа Аввакума (умер в 1682 г.), сосланного в Сибирь и совершившего это путешествие пешком, сопровождая партию казаков вплоть до берегов Амура, заслуживает упоминания. По своей простоте, искренности и отсутствию сенсационности «Житие Аввакума» до сих пор остается одной из жемчужин русской литературы этого рода и прототипом русских биографий. Привожу для образчика отрывок из этого замечательного «Жития».
Аввакум был отправлен в Даурию с отрядом воеводы Пашкова («Суров человек, – говорил о нем Аввакум, – беспрестанно людей жжет, и мучит, и бьет»). Вскоре у Пашкова начались столкновения с непримиримым Аввакумом. Пашков начал гнать протопопа с дощаника, говоря, что из-за его еретичества суда плохо идут по реке, и требуя, чтобы он шел берегом, по горам. «О, горе стало! – рассказывает Аввакум. – Горы высокие, дебри непроходимые; утес каменный, яко стена стоит, и поглядеть – заломя голову»; Аввакум «обличал» Пашкова, отправив воеводе «малое писанейце»: «Человече! – писал протопоп жестокому воеводе, – убойся Бога, сидящего на херувимах и призирающа в бездны, Его же трепещут небесные силы и вся тварь с человеки, един ты презираешь и неудобства показуешь». Это «писанейце» еще более ожесточило воеводу, и он послал казаков усмирить мятежного протопопа.
«А се бегут, – вспоминал он в своем «Житии», – человек с пятьдесят: взяли мой дощаник и помчали к нему – версты три от него стоял. Я казакам каши наварил, да кормлю их: и они, бедные, и едят, и дрожат, а иные плачут, глядя на меня, жалеют по мне. Привели денщика; взяли меня палачи, привели пред него: он со шпагою стоит и дрожит. Начал мне говорить: поп ли ты или распоп? А аз отвечал: аз есм Аввакум протопоп; говори, что тебе дело до меня? Он же рыкнул, яко дикий зверь, и ударил меня по щеке, тоже по другой, и паки в голову, и сбил меня с ног, и, чекан ухватя, лежачего по спине ударил трижды и, разболокши, по той же спине семьдесят два удара кнутом. А я говорю: Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помогай мне! Да то же, да то же беспрестанно говорю. Так горько ему, что не говорю: пощади! Ко всякому удару молитву говорил. Да посреди побои вскричал я к нему: полно бить-то! Так он велел перестать. И я промолвил ему: за что ты меня бьешь, ведаешь ли? И он велел паки бить по бокам, и отпустили. Я задрожал, да и упал. И он велел меня в казенный дощаник оттащить: сковали руки и ноги и на беть (поперечную скрепу в барке) кинули. Осень была: дождь на меня шел, всю ночь под капелью лежал».
Позднее, когда Аввакума послали на Амур и когда ему с женой пришлось зимой идти вдоль по льду замерзшей реки, протопопица часто падала от изнеможения. «Я пришел, – пишет Аввакум, – на меня бедная пеняет, говоря: долго ли муки сея, протопоп, будет? И я говорю: “Марковна, до самыя смерти”. Она же, вздохня, отвечала: “Добро, Петрович, ино еще побредем”». Никакие страдания не могли победить этого крупного человека. С Амура его опять вызвали в Москву, и ему снова пришлось совершить все путешествие пешком. Из Москвы его сослали в Пустозерск, где он пробыл 14 лет, и наконец, за «дерзкое» письмо к царю, 14 апреля 1682 года он был сожжен на костре.
XVIII век
Бурные реформы Петра I, создавшие военное европейское государство из того полувизантийского и полутатарского царства[11 - Взгляд на историю России у автора настолько примитивно-одиозен (либо он специально примитивизирует его, подчиняя пропагандируемой идее), что если всерьез это комментировать, надо писать отдельную книгу. При дальнейшем чтении следует учесть, что мы здесь имеем дело не с анализом ученого-историка, а с мнением политика и революционера, чьими оценками управляет фанатичная преданность идее (примечание редактора).], каким Россия была при его предшественниках, дали новый поворот литературе. Здесь было бы неуместно оценивать историческое значение реформ Петра I, но следует упомянуть, что в русской литературе имеется, по крайней мере, два его предшественника в смысле оценки тогдашней русской жизни и необходимости реформ.
Одним из них был Котошихин (1630–1667). Он убежал из Москвы в Швецию и написал там, за 50 лет до воцарения Петра, очерк тогдашнего русского быта, в котором он очень критически отнесся к господствующему в Москве невежеству. Его рукопись оставалась неизвестной в России вплоть до XIX столетия, когда она была открыта в Упсале. Другим писателем, ратовавшим за необходимость реформ, был хорват Крижанич, вызванный в Москву в 1651 году с целью исправления священных книг; ему принадлежит замечательный труд, в котором он настаивал на необходимости широких реформ. Спустя два года он был сослан в Сибирь, где и умер.
Петр I, который вполне понимал значение литературы и усиленно стремился привить европейскую образованность своим подданным, осознавал, что старославянский язык, бывший в употреблении среди русских писателей того времени, но отличный от разговорного языка народа, мог лишь затруднить развитие литературы. Его форма, фразеология и грамматика были чужды русским. Его можно было употреблять в произведениях религиозного характера, но сочинение по геометрии или алгебре, или военному искусству, написанное на библейском старославянском языке, было бы просто смешным. Петр устранил это затруднение со свойственной ему решительностью. Он ввел новый алфавит с целью помочь введению в литературу разговорного языка, и этот алфавит, заимствованный из старославянского, но значительно упрощенный, употребляется вплоть до настоящего времени.
Литература в собственном смысле этого слова мало интересовала Петра I: он смотрел на произведения печатного станка исключительно с точки зрения полезности; поэтому главной его задачей являлось ознакомление русских с начальными элементами точных знаний, а равным образом с искусством мореплавания, военным делом и фортификацией. Вследствие этого писатели его времени представляют очень мало интереса с литературной точки зрения, и мне придется упомянуть лишь об очень немногих из них.
Одним из наиболее интересных, пожалуй, был Прокопович – епископ, совершенно свободный от религиозного фанатизма[12 - Увлекшись своей идеей, автор не замечает противоречий в собственных словах, превознося священника, который, по ему мнению, не верит в то, что проповедует, чья жизнь и взгляды расходятся с его миссией и саном. Феофан Прокопович – весьма значительная фигура в русской церковной и государственной истории, в русской культуре. Но столь однобокий взгляд на его взгляды и деятельность только вредит делу понимания его вклада в культуру России (примечание редактора).], большой почитатель западноевропейской науки, основавший Славяно-греко-латинскую академию. Заслуживает упоминания также Кантемир (1709–1744), сын молдавского господаря, переселившегося с некоторыми из своих подданных в Россию. Ему принадлежит ряд сатир, в которых он выражал свои мнения со свободой, вызывающей удивление, если мы примем во внимание нравы той эпохи. Тредьяковский (1730–1769) и его биография не лишены некоторого меланхолического интереса. Он был сыном священника и в юности убежал от отца с целью учиться, в Москву. Оттуда он отправился в Амстердам и Париж, совершив большую часть путешествия пешком. Он слушал лекции в Парижском университете и заинтересовался западноевропейскими просветительными течениями той эпохи, идеями, которые и пытался впоследствии выражать в чрезвычайно неуклюжих стихах. По возвращении в Петербург он провел всю свою последующую жизнь в страшной бедности и заброшенности, преследуемый со всех сторон сарказмом за попытки реформировать русскую версификацию. Он был лишен малейшего признака поэтического таланта, а между тем, несмотря на это, оказал большую услугу русской поэзии. В то время в России писали лишь силлабическими стихами, но Тредьяковский понял, что силлабическое стихосложение не соответствует духу русского языка, и он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы доказать, что к русским стихам должны быть приложены законы тонической версификации. Если бы у него была хотя бы искра таланта, предпринятая им задача не представила бы особенного затруднения; но, при всем своем трудолюбии он был человек совершенно бездарный, и для доказательства своего тезиса он прибегал к самым смешным ухищрениям. Некоторые из его стихотворений представляют совершенно бессвязный набор слов и написаны с единственной целью – указать различные способы, как можно писать русские стихи с размером и рифмою. Изнемогая в погоне за рифмой, Тредьяковский не останавливался перед тем, чтобы в конце строки разрубить слово пополам, помещая конец его в начале другой строки. Несмотря на подобные нелепости, он успел, однако, убедить русских поэтов в необходимости тонического стиха, который с тех пор и вошел в общее употребление. На деле такого рода стих представляет лишь естественное развитие русской народной песни.
Из современников Петра необходимо также упомянуть историка Татищева (1686–1750), написавшего «Историю России» и начавшего обширный труд по географии Российской империи; это был чрезвычайно трудолюбивый человек, занимавшийся изучением многих отраслей науки, интересовавшийся также богословием и оставивший кроме «Истории…» несколько работ политического характера. Он первый оценил значение летописей, которые собирал и систематизировал, подготовив, таким образом, материалы для будущих историков; но, вообще говоря, он не оставил после себя заметного следа в литературе. В действительности, лишь один писатель этого периода заслуживает более чем беглого внимания. Это – Ломоносов (1712–1765). Он родился в деревне Холмогоры, вблизи Белого моря, возле Архангельска, в семье рыбака. Он также, подобно Тредьяковскому, бежал от своих родных и пришел пешком в Москву, где поступил в монастырскую школу, живя в неописуемой бедности. Позднее, также пешком он отправился в Киев и едва не сделался священником. Но как раз в это время Петербургская академия наук обратилась в Московскую духовную академию, прося назначить двенадцать лучших студентов, которые могли бы быть посланы для обучения за границу. Ломоносов оказался одним из этих избранников. Его послали в Германию, где он изучал естественные науки под руководством Христиана Вольфа и других известных ученых того времени, причем все это время ему приходилось бороться с ужасающей бедностью. В 1741 году он возвратился в Россию и был назначен членом Петербургской академии наук.
Академия находилась тогда в руках кучки немецких ученых, смотревших на русских ученых с нескрываемым презрением и потому встретивших Ломоносова далеко не ласково. Ему не помогло даже то обстоятельство, что великий математик Эйлер писал с величайшей похвалой о работах Ломоносова в области физики и химии, говоря, что работы эти принадлежат гениальному человеку и что Академия должна быть счастлива, имея его своим членом. Вскоре началась жестокая борьба между немецкими членами Академии и русским ученым, который, кстати сказать, обладал очень буйным характером, в особенности, когда был в нетрезвом состоянии. Бедность – его академическое жалованье постоянно конфисковали; в виде наказания – аресты полиции; исключение из числа членов академического совета и, наконец, немилость двора, – такова была судьба Ломоносова, примкнувшего к партии Елизаветы и потому третируемого как врага после восшествия Екатерины II на престол. Только в XIX веке Ломоносов получил достодолжную оценку.
«Ломоносов сам был университетом», – заметил однажды Пушкин, и это замечание было вполне справедливо, так как работы Ломоносова отличались удивительным разнообразием. Он не только делал замечательные исследования в области физики, химии, физической географии и минералогии; он положил также основание грамматике русского языка, которую он понимал как часть общей грамматики всех языков, рассматриваемых в их естественном развитии. Он также занимался исследованием различных форм русского стихосложения, и, наконец, он создал новый литературный язык, о котором он мог сказать, что «сильное красноречие Цицероново, великолепная Виргилиева важность, Овидиево приятное витийство – не теряют своего достоинства на российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи». Справедливость этого утверждения он доказал своими стихотворениями, научными сочинениями, своими «речами», в которых он соединял готовность Гексли защищать науку против слепой веры с поэтическим восприятием природы, проявленным Гумбольдтом.
Правда, его оды написаны в том высокопарном стиле, который был свойствен господствовавшему тогда в литературе ложноклассицизму: он сохранял старославянские выражения, говоря о «высоких предметах», но в его научных и других работах он с большим блеском и силой пользовался обычным разговорным языком. Благодаря большому разнообразию наук, которые ему пришлось перенести на руcскую почву, у него не было времени для обширных самостоятельных изысканий; но, когда ему приходилось выступать в защиту идей Коперника, Ньютона или Гюйгенса против богословских нападок, в нем проявлялся истинный философ, только подкованный в науке. В раннем детстве ему приходилось сопровождать отца – энергичного северного рыбака – во время поездок на рыбный промысел, и с тех пор в нем развилась та любовь к природе и та тонкая наблюдательность, благодаря которым его работы об Арктике до сих пор не потеряли своей ценности. Следует упомянуть также, что в этом последнем исследовании Ломоносов говорит о механической теории теплоты в таких определенных выражениях, из которых ясно, что он уже в то время, т. е. более ста лет тому назад совершил это великое открытие нашего времени; на это, кстати сказать, до сих пор не обратили внимания даже в России.
Упомяну в заключение об одном современнике Ломоносова Сумарокове (1717–1777), которого в ту пору называли «русским Расином». Он принадлежал к высшему дворянству и получил чисто французское образование. Его драмы, которых он написал немалое количество, являются подражанием образцам французской псевдоклассической школы; но, как читатели увидят в одной из следующих глав, он в значительной степени повлиял на развитие русского театра. Сумароков писал также лирические стихотворения, элегии и сатиры. Все эти произведения не представляют значительной литературной ценности; но следует упомянуть с особой похвалой о прекрасном языке его писем, совершенно свободном от славянских архаизмов, бывших тогда во всеобщем употреблении.
Времена Екатерины II
Со вступлением на престол Екатерины II (царствовавшей с 1762 по 1796 г.) в русской литературе начинается новая эра. Литература оживляется, и, хотя русские писатели все еще продолжают подражать французским – главным образом ложноклассическим образцам, – в их произведениях начинают, однако, отражаться результаты непосредственного наблюдения над русской жизнью. Литературные произведения, относящиеся к первым годам царствования Екатерины II, были полны юношеского задора. Сама императрица была в ту пору еще под влиянием прогрессивных идей, явившихся результатом ее сношений с французскими философами; она составляла под влиянием Монтескье свой замечательный «Наказ», писала комедии, в которых осмеивала старомодных представителей русского дворянства, и издавала ежемесячный журнал, в котором входила в пререкания как с консерваторами той эпохи, так и с молодыми реформаторами. В эту пору она основала также Литературную академию и назначила президентом академии княгиню Воронцову-Дашкову (1743–1819), которая помогала Екатерине II в ее государственном перевороте против Петра III и в возведении ее на престол. Воронцова-Дашкова с большим усердием помогала Академии в составлении словаря русского языка и издавала журнал, оставивший след в русской литературе; ее воспоминания, написанные по-французски (Mon Histoire), имеют значительную ценность, хотя как исторический документ не всегда отличаются беспристрастием. В 1775–1782 гг. она прожила несколько лет в Эдинбурге, занимаясь воспитанием своего сына.
Вообще к этому времени относится начало крупного литературного движения, связанного с появлением целой плеяды русских авторов, среди которых были: замечательный поэт Державин (1743–1816); автор комедий Фонвизин (1745–1792); первый русский философ Новиков (1742–1818) и политический писатель Радищев (1749–1802).
Поэзия Державина, конечно, не отвечает современным требованиям. Он был поэтом-лауреатом Екатерины и воспевал в напыщенных одах добродетели императрицы и победы ее полководцев и фаворитов. Россия в то время начала укрепляться на берегах Черного моря и играть серьезную роль в европейской политике, так что патриотические восторги Державина имели некоторое реальное основание. Но, помимо этого Державин обладал истинным поэтическим дарованием: он чувствовал красоту природы и умел выразить это чувство в красивых и звучных стихах (ода «Бог», «Водопад»). Такие истинно поэтические произведения, стоящие радом с тяжелыми, напыщенными, лишенными всякого вкуса стихами подражательного, ложноклассического направления, настолько ярко подчеркивали ненатуральность и безвкусие последних, что послужили наглядным уроком для следовавшего за Державиным поколения русских поэтов и, наверное, помогли им освободиться от манерности. Пушкин, в юности восхищавшийся Державиным, очень скоро почувствовал всю ненужность напыщенности, свойственной екатерининскому поэту, и, владея с необыкновенным искусством родным языком, он очень скоро после своего вступления на литературное поприще освободился от искусственного стиля, считавшегося прежде «поэтическим», – и начал употреблять в своих произведениях обычный разговорный русский язык.
Комедии Фонвизина были настоящим откровением для его современников. Его первая комедия «Бригадир», написанная им в 22?летнем возрасте, произвела сильное впечатление и до сих пор не потеряла интереса; вторая же комедия, «Недоросль» (1782 г.), явилась событием в русской литературе, и от времени до времени она и теперь еще появляется на сцене. Обе комедии разрабатывают чисто русские сюжеты, взятые из тогдашней русской жизни, и, хотя Фонвизин не стеснялся заимствованиями из иностранных литератур (так, напр., «Бригадир» заимствован из датской комедии Голберга «Jean de France»), главные действующие лица его комедий принимают, однако, вполне русский характер. В этом отношении он явился творцом русской национальной драмы и первый ввел в нашу литературу те реалистические тенденции, которые потом нашли такое могущественное выражение в лице Пушкина, Гоголя и их школы. В своих политических убеждениях Фонвизин остался верен тем прогрессивным идеям, которым Екатерина II покровительствовала в первые годы своего царствования; будучи секретарем графа Панина, Фонвизин смело указывал на главные язвы тогдашней русской жизни: крепостничество, фаворитизм и невежество.
Я обхожу молчанием нескольких писателей этой эпохи, как, например, Богдановича (1743–1803), автора поэмы «Душенька»; Хемницера (1745–1784), талантливого баснописца, бывшего предшественником Крылова; Капниста (1757–1829), писавшего довольно поверхностные сатиры хорошими стихами; князя Щербатова (1733–1790), который начал собирать летописи и произведения народного творчества и предпринял составление истории России, в которой впервые отнесся с научной критикою к летописям и другим источникам. Но мы не можем обойти молчанием масонское движение, начавшееся в конце XVIII века.
Масоны: первые проявления политической мысли
Описание битвы, в которой вся природа принимает участие, – орлы, и волки, и лисицы, которые лают на красные щиты русских воинов, – поистине замечательно. Войско Игоря разбито.
«С утра до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, звучат сабли о шеломы, трещат копья булатные, в поле незнаемом, среди земли половецкой. Черная земля под копытами костьми была посеяна, а кровью полита: возросла на ней беда для земли русской. Что мне шумит, что мне звенит рано перед зарею? Игорь полки поворачивает: жаль бо ему милого брата Всеволода. Билися день, билися другой: на третий день к полудню пали знамена Игоревы. Тут разлучилися братья на берегу быстрой Каялы. Недостало тут вина кровавого; тут и кончили пир храбрые русичи: сватов попоили, да и сами легли на землю русскую. Поникла трава от жалости, и дерево к земле преклонилось от печали». (Перевод Белинского. Сочинения. Изд. Венгерова, т. VI.)
Вслед за тем идет один из лучших образчиков древней русской поэзии – плач Ярославны, жены Игоря, которая ожидает его возвращения в Путивле. (Передаю его в том же переводе Белинского.)
«Ярославнин голос раздается рано поутру: ”Полечу я по Дунаю зегзицею, омочу бобровый рукав в Каяле-реке, отру князю кровавые раны на жестком теле его!»
Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене: “О ветер, о ветер! Зачем, господине, так сильно веешь? Зачем на своих легких крыльях мчишь ханские стрелы на воинов моей лады? Или мало для тебя гор, чтобы веять под облаками, лелеючи корабли на синем море? Зачем, господине, развеял ты мое веселие по ковыль-траве?”
Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене: “О Днепре пресловутый! ты пробил каменные горы сквозь землю половецкую, ты лелеял на себе ладьи Святославы до стану кобякова: взлелей же, господине, мою ладу ко мне, чтобы не слала я к нему по утрам слез моих на море”.
Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене: “Светлое и пресветлое солнце! всем и красно и тепло ты: зачем, господине, простер горячий луч свой на воинов моей лады, в безводном поле жаждою луки им сопряг, печалию им колчаны затянул?”»
Этот небольшой отрывок может дать некоторое понятие об общем характере и поэтических красотах «Слова о полку Игореве».
Несомненно, эта поэма не была единственной, и помимо нее в те времена, вероятно, составлялись и распевались многие подобные же поэмы героического характера. Во введении к поэме действительно упоминается о бардах, особенно об одном из них, Баяне, песни которого сравниваются с ветром, несущимися по вершинам деревьев. Такие Баяны, вероятно, во множестве ходили по русской земле и пели подобные «Слова» во время пиров князей и их дружин. К несчастью, лишь одна из этих поэм дошла до нас. Русская церковь безжалостно запрещала – особенно в XV, XVI и XVII столетиях – пение эпических песен, имевших распространение в народных массах; она считала их «языческими» и налагала суровые наказания на бардов и вообще всех поющих старые песни. Вследствие этого до нас дошли лишь небольшие отрывки ранней народной поэзии.
Но даже немногие остатки прошлого оказали сильное влияние на русскую литературу, с тех пор как она усвоила другие сюжеты кроме чисто религиозных. Если русская версификация приняла силлабо-тоническую форму вместо силлабической, это объясняется тем, что на русских поэтов оказала влияние ритмическая форма народных песен. Кроме того, вплоть до недавнего времени народные песни являлись такой важной чертой русской деревенской жизни – как в домах помещиков, так и в избах крестьян, – что они неизбежно должны были оказать глубокое влияние на русских поэтов; и первый великий поэт России, Пушкин начал свою карьеру с пересказа в стихах сказок своей няни, которые он любил слушать долгими зимними вечерами. Благодаря нашему почти невероятному богатству чрезвычайно музыкальных народных песен возможно было также появление в России уже в 1835 году оперы «Аскольдова могила» Верстовского, чисто русские мелодии которой запоминаются даже наименее музыкальными из русских слушателей; благодаря тем же причинам оперы Даргомыжского и наших молодых композиторов имеют теперь такой успех в русской деревне, причем хоры в них исполняются местными певцами из крестьян.
Таким образом, народная поэзия и народные песни оказали России громадную услугу. Они сохранили известное единство между языком литературы и языком народных масс, между музыкой Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина и т. д. и музыкой крестьянских хоров, сделав таким образом творчество поэта и композитора доступными крестьянину.
Летописи
Говоря о ранней русской литературе, необходимо упомянуть также, хотя бы вкратце, о летописях.
Ни одна страна не может похвалиться более богатым собранием летописей. В X–XII веках главными центрами развития были: Киев, Новгород, Псков, земля Волынская, Суздальская (Владимир, Москва), Рязанская и т. д., являвшиеся в то время своего рода независимыми республиками, объединенными между собою единством языка и религии, а также тем обстоятельством, что все они выбирали своих князей, выполнявших роль военных вождей и судей, из дома Рюрика. Каждый из этих центров имел собственные летописи, носившие отпечаток местной жизни и местных особенностей. Южнорусские и волынские летописи – из которых так называемая летопись Нестора отличается наибольшей полнотой и пользуется наибольшей известностью – не были лишь сухим сводом фактических данных; местами в них заметна работа воображения и поэтического вдохновения. Летописи новгородские носят отпечаток жизни города богатых купцов: они имеют строго фактический характер, и летописец воодушевляется лишь при описании побед Новгородской республики над Суздальской землей. Летописи соседней Псковской республики, напротив, проникнуты демократическим духом и с демократической симпатией, в чрезвычайно живописной форме рассказывают о борьбе между бедняками и богачами Пскова. Летописи не были трудом монахов, как это предполагалось ранее; они составлялись для различных республик людьми, хорошо знакомыми с их политической жизнью, договорами с другими республиками, внутренними и внешними противоречиями и т. д.
Более того, летописи, в особенности киевские, и среди них Нестерова летопись, были не просто хроникой событий; это были, как можно судить по самому названию последней («Откуда есть пошла Русская земля»), попытки написать историю страны под влиянием греческих образцов подобного рода. Рукописи, дошедшие до нас, в особенности киевские, имеют сложную композицию, и историки различают в них несколько уровней текста, относящихся к различным периодам. Это старинные предания, отрывки сведений, вероятно, заимствованных у византийских историков, старинных договоров, поэм, в которых рассказывается о различных эпизодах, подобных походу Игоря, и записей из местных летописей различных периодов. Исторические факты, относящиеся к очень раннему периоду истории и подтверждаемые свидетельствами константинопольских летописцев и историков, смешиваются с чисто мифическими преданиями. Но именно эта особенность и придает особенно высокую литературную ценность русским летописям, особенно южным и юго-западным, в которых чаще всего встречаются наиболее драгоценные отрывки ранней литературы.
Таковы в целом были литературные сокровища, которыми обладала Россия в начале XIII века.
Средневековая литература
Монгольское нашествие, случившееся в 1223 г.[5 - 31 мая 1223 года случилась битва на Калке – первое столкновение русских князей с монголами и первое тяжелейшее поражение от них, причем, в основном из-за самонадеянности, неумения договариваться и незнания противника. Монгольское нашествие на Русь началось в 1237 году.], разрушило всю эту молодую цивилизацию и повело Россию по совершенно иному пути. Главные города южной и средней России были разрушены. Киев, бывший многолюдным городом и центром тогдашней образованности, был низведен до степени незначительного поселения, с трудом борющегося за существование, и в течение следующих двух столетий он совершенно исчезает из истории. Целые населения больших городов уводились в плен монголами или беспощадно истреблялись в случае сопротивления. Как бы в довершение несчастий, постигнувших Россию, вслед за монголами последовали турки, напавшие на Балканский полуостров, и к концу XV века две страны, Сербия и Болгария, при посредстве которых в России распространилась образованность, попали под иго османов. Вся жизнь России подверглась глубоким изменениям.
До монгольского нашествия вся страна состояла из независимых республик, подобных средневековым городам-республикам Западной Европы[6 - Здесь автор допускает явную вольность то ли от незнания, то ли в погоне за идеей: ни коим образом система государственного управления в древнерусских княжествах домонгольской эпохи не походила на республиканский строй в том смысле, о котором говорит П. А. Кропоткин, да и города-республики Западной Европы, все эти мелкие независимые территории были никак не демократическими государствами, а скорее территориями, управляемыми олигархическим или теократически-олигархическим аппаратом, либо вообще военной властью (примечание редактора).]. Теперь, при сильной поддержке церкви, постепенно начало образовываться в Москве военное государство, которое с помощью монгольских ханов подчинило себе окружавшие его независимые области. Главные усилия государственных людей и наиболее активных представителей русской церкви были направлены теперь на создание могущественного княжества, которое обладало бы достаточными силами, чтобы сбросить монгольское иго. Прежние идеалы местной независимости и федерации заменились идеалами централизованного государства. Церковь в своем стремлении создать христианскую нацию, свободную от всякого умственного или нравственного влияния ненавидимых язычников-монголов, превратилась в суровую централизующую силу, безжалостно преследовавшую всякие остатки языческого прошлого. В то же время церковь неутомимо работала над установлением по византийскому образцу неограниченной власти московских князей. С целью усиления военной мощи государства было введено крепостное право. Вся независимая местная жизнь была задавлена. Идея о том, что Москва является центром церковной и государственной жизни, усиленно поддерживалась церковью, которая проповедовала, что Москва – наследница Константинополя – «третий Рим», единственная страна, в которой сохранилось истинное христианство. В более позднюю эпоху, когда монгольское иго было уже свергнуто, работа по консолидации московской монархии усердно продолжалась царями и церковью, боровшимися против проникновения западноевропейских влияний, с целью предохранить русскую церковь от происков «латынской» церкви.
Эти новые условия неизбежным образом оказали глубокое влияние на дальнейшее развитие литературы. Свежесть и энергическая юность ранней эпической поэзии исчезли навсегда. Меланхолическая грусть и дух покорности становятся с этого времени характерными чертами русской народной поэзии. Постоянные набеги татар, которые уводили целые деревни в плен в южнорусские степи, страдания этих пленников в рабстве, наезды баскаков, налагавших тяжелые дани и издевавшихся всяческим образом над покоренными, тяжести, налагаемые на народ ростом военного государства, – все это отразилось в народных песнях, окрасив их глубокой печалью, от которой они не освободились и до сих пор. В то же самое время веселые свадебные песни древности и эпические песни странствующих певцов подвергались запрету, и люди, осмелившиеся распевать их, жестоко преследовались церковью, которая видела в этих песнях не только пережиток языческого прошлого, но и нечто, могущее дать повод к сближению населения с язычниками-татарами.
Тогдашняя образованность мало-помалу сосредоточивалась в монастырях, из которых каждый являлся своего рода крепостью, в которой спасалось население при нашествии татар, и эта образованность, по вышеуказанным причинам, замыкалась в тесном круге христианской литературы. Изучение природы рассматривалось как ересь, близкая к «волхвованию». Аскетизм превозносился как высшая христианская добродетель, и его восхваление является отличительной чертой тогдашней письменности. Наибольшим распространением пользовались всякого рода легенды о святых, заучивавшиеся наизусть, причем этого рода литература не уравновешивалась даже той наукой, которая развивалась в средневековых университетах Западной Европы. Стремление к познанию природы осуждалось церковью, как проявление горделивого ума. На поэзию смотрели как на грех. Летописи потеряли свой прежний воодушевленный характер и превратились в сухой перечень успехов возрастающего государства или же наполнялись мелочами, относящимися к деятельности местных епископов и архимандритов монастырей.
В течение XII века в северных республиках, Новгородской и Псковской, образовалось довольно сильное течение религиозной мысли, склонявшееся, с одной стороны, к протестантскому рационализму и, с другой, – к развитию христианства на основе ранних христианских братств. Апокрифические Евангелия, книги Старого Завета и всякие книги, в которых рассматривался вопрос об истинном христианстве, усердно переписывались и пользовались широким распространением. Но теперь главы церкви в средней России усиленно боролись против всякого рода тенденций, принимавших характер реформированного христианства. От паствы требовалась строгая приверженность букве учения византийской церкви. Попытки объяснения Евангелий рассматривались как ересь. Всякое проявление умственной жизни в сфере религии, равно как и критическое отношение к духовным властям московской церкви, считалось чрезвычайно опасным, и люди, виновные в подобной дерзости, вынуждены бывали бежать из Москвы, ища убежища в глухих монастырях дальнего Севера. Великая эпоха Возрождения, влившая новую жизнь в Западную Европу, прошла бесследно для России: церковь свирепо истребляла все, выходившее из рамок обрядовости, и сжигала на кострах или умучивала пытками всех, проявлявших признаки независимой или критической мысли.
Я не буду останавливаться на этом периоде, охватывающем почти пять столетий, так как он представляет очень мало интереса для исследователя русской литературы, и ограничусь лишь упоминанием о двух или трех трудах, заслуживающих внимания.
Одним из таких литературных трудов является переписка между царем Иоанном Грозным и одним из его вассалов, князем Курбским, бежавшим из Москвы в Литву[7 - Какая мягкая формулировка для государственной измены! Вопрос относительно жестокости Ивана IV весьма спорный. Европейские монархи его эпохи, та же Елизавета I Тюдор, королева Англии, короли Франции или испанские монархи Карл IV и Филипп II Габсбурги пролили в разы больше крови, нежели Иван Грозный, устраивали геноцид по религиозному и расовому признаку (примечание редактора).]. Из-за литовского рубежа Курбский писал своему жестокому, полубезумному бывшему властелину длинные письма, полные укоризн, на которые Иоанн отвечал, развивая в своих ответах теорию божественного происхождения царской власти. Эта переписка очень интересна как для характеристики политических идей того времени, так и для определения круга познаний той эпохи.
После смерти Иоанна Грозного (занимавшего в русской истории то же место, какое занимал во Франции Людовик XI, так как он уничтожил огнем и мечом – но с чисто татарской жестокостью – власть феодальных князей[8 - Во Франции этот процесс растянулся во времени. Активно проводить политику уничтожения полунезависимых феодалов начал еще Филипп II Август (1180–1223), потом он был заторможен и прерван Столетней войной и сопровождающими ее смутами, а Людовик XI и его преемники вплоть до Франциска I просто завершили этот процесс. И жестокости там было не меньше, не такой прямолинейной, но от этого не ставшей приятнее (примечание редактора).]) в России наступают, как известно, времена великих смут. Появляется из Польши загадочный Дмитрий, объявивший себя сыном Иоанна, и захватывает московский престол[9 - Лжедмитриев было по крайней мере двое. Никакого отношения к Ивану Грозному они не имели, это был польский проект с целью захвата власти в Московском царстве и обычные самозванцы.]. В Россию вступают поляки, которые вскоре овладевают Москвой, Смоленском и всеми западными городами. Вслед за свержением Дмитрия, последовавшим несколько месяцев спустя после его коронации, вспыхивает крестьянское восстание, и вся центральная Россия наводняется казацкими шайками, причем выступают несколько новых претендентов на престол. Эти годы – «Лихолетье» – должны были оставить следы в народных песнях, но песни того времени были забыты потом, когда наступил мрачный период последовавшего затем крепостного права, и мы знаем некоторые из них лишь благодаря англичанину Ричарду Джеймсу, который был в России в 1619 году и записал некоторые песни, относящиеся к этому периоду. То же должно сказать и о той народной литературе, которая, несомненно, должна была сложиться во второй половине XVIII века. Она совершенно погибла. Окончательное введение крепостного права при первом Романове (Михаил, 1612–1640); следовавшие затем повсеместные крестьянские бунты, закончившиеся грозным восстанием Степана Разина[10 - Восстание Степана Разина ни в коей мере не было крестьянским. Это был бунт казачества, противившегося ограничению их «вольности», то есть свободы грабить кого угодно, не считаясь с интересами государства. Восстание лишь стало катализатором для бунтов крестьян и малых народов Поволжья, и то их предводителями чаще всего были те же казаки. И казаки же, понимая, что действия Степана Разина приведут к глобальному конфликту царской власти со всем казачеством, выдали Степана Разина и его брата Федора властям (примечание редактора).], который сделался с тех пор любимым героем угнетенных крестьян; и, наконец, суровое бесчеловечное преследование раскольников, их переселение на восток в дебри Урала, – все эти события, несомненно, нашли выражение в народных песнях, но государство и церковь с такой жестокостью душили все, носившее малейшие следы «мятежного» духа, что до нас не дошло никаких памятников народного творчества этой эпохи. Лишь несколько сочинений полемического характера и замечательная автобиография ссыльного священника Аввакума сохранились в рукописной литературе раскольников.
Церковный раскол. Автобиография Аввакума
Первая русская Библия была напечатана в Польше в 1580 году. Несколькими годами позднее была устроена типография в Москве, и властям русской церкви пришлось теперь решать – какой из писаных текстов, бывших в обращении, следует принять за оригинал при печатании священных книг. Списки этих книг, бывшие тогда в обращении, были полны описок и ошибок, и было ясно, что раньше, чем печатать, они должны были подвергнуться пересмотру путем сравнения с греческими текстами. Исправление церковных книг было предпринято в Москве с помощью ученых, отчасти вызванных из Греции, отчасти же учеников Греко-латинской академии в Киеве; но, вследствие целого ряда сложных причин, это исправление послужило началом широко разлившегося недовольства среди верующих, и в середине XVII века в православной церкви произошел серьезный раскол. Очевидно, этот раскол коренился не только в богословских разногласиях или в греческих и славянских разночтениях. Семнадцатый век был веком, когда московская церковь приобрела громадную силу в государстве. Глава ее, патриарх Никон, был очень честолюбивый человек, пытавшийся играть на Востоке ту роль, которую на Западе играет папа; с этой целью он старался поражать народ царским великолепием и царскою роскошью своей обстановки; а это, конечно, тяжело отзывалось на крепостных крестьянах, принадлежавших церкви, и на низшем духовенстве, с которого взыскивались тяжелые поборы. Вследствие этого и крестьяне, и низшие слои духовенства относились к патриарху Никону с ненавистью, и его вскоре обвинили в склонности к «латынству»; так что раскол между народом и духовенством – в особенности высшим – принял характер отделения народа от иерархического православия.
Большинство раскольничьих писаний этого времени носит чисто схоластический характер и не представляет литературного интереса. Но автобиография раскольничьего протопопа Аввакума (умер в 1682 г.), сосланного в Сибирь и совершившего это путешествие пешком, сопровождая партию казаков вплоть до берегов Амура, заслуживает упоминания. По своей простоте, искренности и отсутствию сенсационности «Житие Аввакума» до сих пор остается одной из жемчужин русской литературы этого рода и прототипом русских биографий. Привожу для образчика отрывок из этого замечательного «Жития».
Аввакум был отправлен в Даурию с отрядом воеводы Пашкова («Суров человек, – говорил о нем Аввакум, – беспрестанно людей жжет, и мучит, и бьет»). Вскоре у Пашкова начались столкновения с непримиримым Аввакумом. Пашков начал гнать протопопа с дощаника, говоря, что из-за его еретичества суда плохо идут по реке, и требуя, чтобы он шел берегом, по горам. «О, горе стало! – рассказывает Аввакум. – Горы высокие, дебри непроходимые; утес каменный, яко стена стоит, и поглядеть – заломя голову»; Аввакум «обличал» Пашкова, отправив воеводе «малое писанейце»: «Человече! – писал протопоп жестокому воеводе, – убойся Бога, сидящего на херувимах и призирающа в бездны, Его же трепещут небесные силы и вся тварь с человеки, един ты презираешь и неудобства показуешь». Это «писанейце» еще более ожесточило воеводу, и он послал казаков усмирить мятежного протопопа.
«А се бегут, – вспоминал он в своем «Житии», – человек с пятьдесят: взяли мой дощаник и помчали к нему – версты три от него стоял. Я казакам каши наварил, да кормлю их: и они, бедные, и едят, и дрожат, а иные плачут, глядя на меня, жалеют по мне. Привели денщика; взяли меня палачи, привели пред него: он со шпагою стоит и дрожит. Начал мне говорить: поп ли ты или распоп? А аз отвечал: аз есм Аввакум протопоп; говори, что тебе дело до меня? Он же рыкнул, яко дикий зверь, и ударил меня по щеке, тоже по другой, и паки в голову, и сбил меня с ног, и, чекан ухватя, лежачего по спине ударил трижды и, разболокши, по той же спине семьдесят два удара кнутом. А я говорю: Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помогай мне! Да то же, да то же беспрестанно говорю. Так горько ему, что не говорю: пощади! Ко всякому удару молитву говорил. Да посреди побои вскричал я к нему: полно бить-то! Так он велел перестать. И я промолвил ему: за что ты меня бьешь, ведаешь ли? И он велел паки бить по бокам, и отпустили. Я задрожал, да и упал. И он велел меня в казенный дощаник оттащить: сковали руки и ноги и на беть (поперечную скрепу в барке) кинули. Осень была: дождь на меня шел, всю ночь под капелью лежал».
Позднее, когда Аввакума послали на Амур и когда ему с женой пришлось зимой идти вдоль по льду замерзшей реки, протопопица часто падала от изнеможения. «Я пришел, – пишет Аввакум, – на меня бедная пеняет, говоря: долго ли муки сея, протопоп, будет? И я говорю: “Марковна, до самыя смерти”. Она же, вздохня, отвечала: “Добро, Петрович, ино еще побредем”». Никакие страдания не могли победить этого крупного человека. С Амура его опять вызвали в Москву, и ему снова пришлось совершить все путешествие пешком. Из Москвы его сослали в Пустозерск, где он пробыл 14 лет, и наконец, за «дерзкое» письмо к царю, 14 апреля 1682 года он был сожжен на костре.
XVIII век
Бурные реформы Петра I, создавшие военное европейское государство из того полувизантийского и полутатарского царства[11 - Взгляд на историю России у автора настолько примитивно-одиозен (либо он специально примитивизирует его, подчиняя пропагандируемой идее), что если всерьез это комментировать, надо писать отдельную книгу. При дальнейшем чтении следует учесть, что мы здесь имеем дело не с анализом ученого-историка, а с мнением политика и революционера, чьими оценками управляет фанатичная преданность идее (примечание редактора).], каким Россия была при его предшественниках, дали новый поворот литературе. Здесь было бы неуместно оценивать историческое значение реформ Петра I, но следует упомянуть, что в русской литературе имеется, по крайней мере, два его предшественника в смысле оценки тогдашней русской жизни и необходимости реформ.
Одним из них был Котошихин (1630–1667). Он убежал из Москвы в Швецию и написал там, за 50 лет до воцарения Петра, очерк тогдашнего русского быта, в котором он очень критически отнесся к господствующему в Москве невежеству. Его рукопись оставалась неизвестной в России вплоть до XIX столетия, когда она была открыта в Упсале. Другим писателем, ратовавшим за необходимость реформ, был хорват Крижанич, вызванный в Москву в 1651 году с целью исправления священных книг; ему принадлежит замечательный труд, в котором он настаивал на необходимости широких реформ. Спустя два года он был сослан в Сибирь, где и умер.
Петр I, который вполне понимал значение литературы и усиленно стремился привить европейскую образованность своим подданным, осознавал, что старославянский язык, бывший в употреблении среди русских писателей того времени, но отличный от разговорного языка народа, мог лишь затруднить развитие литературы. Его форма, фразеология и грамматика были чужды русским. Его можно было употреблять в произведениях религиозного характера, но сочинение по геометрии или алгебре, или военному искусству, написанное на библейском старославянском языке, было бы просто смешным. Петр устранил это затруднение со свойственной ему решительностью. Он ввел новый алфавит с целью помочь введению в литературу разговорного языка, и этот алфавит, заимствованный из старославянского, но значительно упрощенный, употребляется вплоть до настоящего времени.
Литература в собственном смысле этого слова мало интересовала Петра I: он смотрел на произведения печатного станка исключительно с точки зрения полезности; поэтому главной его задачей являлось ознакомление русских с начальными элементами точных знаний, а равным образом с искусством мореплавания, военным делом и фортификацией. Вследствие этого писатели его времени представляют очень мало интереса с литературной точки зрения, и мне придется упомянуть лишь об очень немногих из них.
Одним из наиболее интересных, пожалуй, был Прокопович – епископ, совершенно свободный от религиозного фанатизма[12 - Увлекшись своей идеей, автор не замечает противоречий в собственных словах, превознося священника, который, по ему мнению, не верит в то, что проповедует, чья жизнь и взгляды расходятся с его миссией и саном. Феофан Прокопович – весьма значительная фигура в русской церковной и государственной истории, в русской культуре. Но столь однобокий взгляд на его взгляды и деятельность только вредит делу понимания его вклада в культуру России (примечание редактора).], большой почитатель западноевропейской науки, основавший Славяно-греко-латинскую академию. Заслуживает упоминания также Кантемир (1709–1744), сын молдавского господаря, переселившегося с некоторыми из своих подданных в Россию. Ему принадлежит ряд сатир, в которых он выражал свои мнения со свободой, вызывающей удивление, если мы примем во внимание нравы той эпохи. Тредьяковский (1730–1769) и его биография не лишены некоторого меланхолического интереса. Он был сыном священника и в юности убежал от отца с целью учиться, в Москву. Оттуда он отправился в Амстердам и Париж, совершив большую часть путешествия пешком. Он слушал лекции в Парижском университете и заинтересовался западноевропейскими просветительными течениями той эпохи, идеями, которые и пытался впоследствии выражать в чрезвычайно неуклюжих стихах. По возвращении в Петербург он провел всю свою последующую жизнь в страшной бедности и заброшенности, преследуемый со всех сторон сарказмом за попытки реформировать русскую версификацию. Он был лишен малейшего признака поэтического таланта, а между тем, несмотря на это, оказал большую услугу русской поэзии. В то время в России писали лишь силлабическими стихами, но Тредьяковский понял, что силлабическое стихосложение не соответствует духу русского языка, и он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы доказать, что к русским стихам должны быть приложены законы тонической версификации. Если бы у него была хотя бы искра таланта, предпринятая им задача не представила бы особенного затруднения; но, при всем своем трудолюбии он был человек совершенно бездарный, и для доказательства своего тезиса он прибегал к самым смешным ухищрениям. Некоторые из его стихотворений представляют совершенно бессвязный набор слов и написаны с единственной целью – указать различные способы, как можно писать русские стихи с размером и рифмою. Изнемогая в погоне за рифмой, Тредьяковский не останавливался перед тем, чтобы в конце строки разрубить слово пополам, помещая конец его в начале другой строки. Несмотря на подобные нелепости, он успел, однако, убедить русских поэтов в необходимости тонического стиха, который с тех пор и вошел в общее употребление. На деле такого рода стих представляет лишь естественное развитие русской народной песни.
Из современников Петра необходимо также упомянуть историка Татищева (1686–1750), написавшего «Историю России» и начавшего обширный труд по географии Российской империи; это был чрезвычайно трудолюбивый человек, занимавшийся изучением многих отраслей науки, интересовавшийся также богословием и оставивший кроме «Истории…» несколько работ политического характера. Он первый оценил значение летописей, которые собирал и систематизировал, подготовив, таким образом, материалы для будущих историков; но, вообще говоря, он не оставил после себя заметного следа в литературе. В действительности, лишь один писатель этого периода заслуживает более чем беглого внимания. Это – Ломоносов (1712–1765). Он родился в деревне Холмогоры, вблизи Белого моря, возле Архангельска, в семье рыбака. Он также, подобно Тредьяковскому, бежал от своих родных и пришел пешком в Москву, где поступил в монастырскую школу, живя в неописуемой бедности. Позднее, также пешком он отправился в Киев и едва не сделался священником. Но как раз в это время Петербургская академия наук обратилась в Московскую духовную академию, прося назначить двенадцать лучших студентов, которые могли бы быть посланы для обучения за границу. Ломоносов оказался одним из этих избранников. Его послали в Германию, где он изучал естественные науки под руководством Христиана Вольфа и других известных ученых того времени, причем все это время ему приходилось бороться с ужасающей бедностью. В 1741 году он возвратился в Россию и был назначен членом Петербургской академии наук.
Академия находилась тогда в руках кучки немецких ученых, смотревших на русских ученых с нескрываемым презрением и потому встретивших Ломоносова далеко не ласково. Ему не помогло даже то обстоятельство, что великий математик Эйлер писал с величайшей похвалой о работах Ломоносова в области физики и химии, говоря, что работы эти принадлежат гениальному человеку и что Академия должна быть счастлива, имея его своим членом. Вскоре началась жестокая борьба между немецкими членами Академии и русским ученым, который, кстати сказать, обладал очень буйным характером, в особенности, когда был в нетрезвом состоянии. Бедность – его академическое жалованье постоянно конфисковали; в виде наказания – аресты полиции; исключение из числа членов академического совета и, наконец, немилость двора, – такова была судьба Ломоносова, примкнувшего к партии Елизаветы и потому третируемого как врага после восшествия Екатерины II на престол. Только в XIX веке Ломоносов получил достодолжную оценку.
«Ломоносов сам был университетом», – заметил однажды Пушкин, и это замечание было вполне справедливо, так как работы Ломоносова отличались удивительным разнообразием. Он не только делал замечательные исследования в области физики, химии, физической географии и минералогии; он положил также основание грамматике русского языка, которую он понимал как часть общей грамматики всех языков, рассматриваемых в их естественном развитии. Он также занимался исследованием различных форм русского стихосложения, и, наконец, он создал новый литературный язык, о котором он мог сказать, что «сильное красноречие Цицероново, великолепная Виргилиева важность, Овидиево приятное витийство – не теряют своего достоинства на российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи». Справедливость этого утверждения он доказал своими стихотворениями, научными сочинениями, своими «речами», в которых он соединял готовность Гексли защищать науку против слепой веры с поэтическим восприятием природы, проявленным Гумбольдтом.
Правда, его оды написаны в том высокопарном стиле, который был свойствен господствовавшему тогда в литературе ложноклассицизму: он сохранял старославянские выражения, говоря о «высоких предметах», но в его научных и других работах он с большим блеском и силой пользовался обычным разговорным языком. Благодаря большому разнообразию наук, которые ему пришлось перенести на руcскую почву, у него не было времени для обширных самостоятельных изысканий; но, когда ему приходилось выступать в защиту идей Коперника, Ньютона или Гюйгенса против богословских нападок, в нем проявлялся истинный философ, только подкованный в науке. В раннем детстве ему приходилось сопровождать отца – энергичного северного рыбака – во время поездок на рыбный промысел, и с тех пор в нем развилась та любовь к природе и та тонкая наблюдательность, благодаря которым его работы об Арктике до сих пор не потеряли своей ценности. Следует упомянуть также, что в этом последнем исследовании Ломоносов говорит о механической теории теплоты в таких определенных выражениях, из которых ясно, что он уже в то время, т. е. более ста лет тому назад совершил это великое открытие нашего времени; на это, кстати сказать, до сих пор не обратили внимания даже в России.
Упомяну в заключение об одном современнике Ломоносова Сумарокове (1717–1777), которого в ту пору называли «русским Расином». Он принадлежал к высшему дворянству и получил чисто французское образование. Его драмы, которых он написал немалое количество, являются подражанием образцам французской псевдоклассической школы; но, как читатели увидят в одной из следующих глав, он в значительной степени повлиял на развитие русского театра. Сумароков писал также лирические стихотворения, элегии и сатиры. Все эти произведения не представляют значительной литературной ценности; но следует упомянуть с особой похвалой о прекрасном языке его писем, совершенно свободном от славянских архаизмов, бывших тогда во всеобщем употреблении.
Времена Екатерины II
Со вступлением на престол Екатерины II (царствовавшей с 1762 по 1796 г.) в русской литературе начинается новая эра. Литература оживляется, и, хотя русские писатели все еще продолжают подражать французским – главным образом ложноклассическим образцам, – в их произведениях начинают, однако, отражаться результаты непосредственного наблюдения над русской жизнью. Литературные произведения, относящиеся к первым годам царствования Екатерины II, были полны юношеского задора. Сама императрица была в ту пору еще под влиянием прогрессивных идей, явившихся результатом ее сношений с французскими философами; она составляла под влиянием Монтескье свой замечательный «Наказ», писала комедии, в которых осмеивала старомодных представителей русского дворянства, и издавала ежемесячный журнал, в котором входила в пререкания как с консерваторами той эпохи, так и с молодыми реформаторами. В эту пору она основала также Литературную академию и назначила президентом академии княгиню Воронцову-Дашкову (1743–1819), которая помогала Екатерине II в ее государственном перевороте против Петра III и в возведении ее на престол. Воронцова-Дашкова с большим усердием помогала Академии в составлении словаря русского языка и издавала журнал, оставивший след в русской литературе; ее воспоминания, написанные по-французски (Mon Histoire), имеют значительную ценность, хотя как исторический документ не всегда отличаются беспристрастием. В 1775–1782 гг. она прожила несколько лет в Эдинбурге, занимаясь воспитанием своего сына.
Вообще к этому времени относится начало крупного литературного движения, связанного с появлением целой плеяды русских авторов, среди которых были: замечательный поэт Державин (1743–1816); автор комедий Фонвизин (1745–1792); первый русский философ Новиков (1742–1818) и политический писатель Радищев (1749–1802).
Поэзия Державина, конечно, не отвечает современным требованиям. Он был поэтом-лауреатом Екатерины и воспевал в напыщенных одах добродетели императрицы и победы ее полководцев и фаворитов. Россия в то время начала укрепляться на берегах Черного моря и играть серьезную роль в европейской политике, так что патриотические восторги Державина имели некоторое реальное основание. Но, помимо этого Державин обладал истинным поэтическим дарованием: он чувствовал красоту природы и умел выразить это чувство в красивых и звучных стихах (ода «Бог», «Водопад»). Такие истинно поэтические произведения, стоящие радом с тяжелыми, напыщенными, лишенными всякого вкуса стихами подражательного, ложноклассического направления, настолько ярко подчеркивали ненатуральность и безвкусие последних, что послужили наглядным уроком для следовавшего за Державиным поколения русских поэтов и, наверное, помогли им освободиться от манерности. Пушкин, в юности восхищавшийся Державиным, очень скоро почувствовал всю ненужность напыщенности, свойственной екатерининскому поэту, и, владея с необыкновенным искусством родным языком, он очень скоро после своего вступления на литературное поприще освободился от искусственного стиля, считавшегося прежде «поэтическим», – и начал употреблять в своих произведениях обычный разговорный русский язык.
Комедии Фонвизина были настоящим откровением для его современников. Его первая комедия «Бригадир», написанная им в 22?летнем возрасте, произвела сильное впечатление и до сих пор не потеряла интереса; вторая же комедия, «Недоросль» (1782 г.), явилась событием в русской литературе, и от времени до времени она и теперь еще появляется на сцене. Обе комедии разрабатывают чисто русские сюжеты, взятые из тогдашней русской жизни, и, хотя Фонвизин не стеснялся заимствованиями из иностранных литератур (так, напр., «Бригадир» заимствован из датской комедии Голберга «Jean de France»), главные действующие лица его комедий принимают, однако, вполне русский характер. В этом отношении он явился творцом русской национальной драмы и первый ввел в нашу литературу те реалистические тенденции, которые потом нашли такое могущественное выражение в лице Пушкина, Гоголя и их школы. В своих политических убеждениях Фонвизин остался верен тем прогрессивным идеям, которым Екатерина II покровительствовала в первые годы своего царствования; будучи секретарем графа Панина, Фонвизин смело указывал на главные язвы тогдашней русской жизни: крепостничество, фаворитизм и невежество.
Я обхожу молчанием нескольких писателей этой эпохи, как, например, Богдановича (1743–1803), автора поэмы «Душенька»; Хемницера (1745–1784), талантливого баснописца, бывшего предшественником Крылова; Капниста (1757–1829), писавшего довольно поверхностные сатиры хорошими стихами; князя Щербатова (1733–1790), который начал собирать летописи и произведения народного творчества и предпринял составление истории России, в которой впервые отнесся с научной критикою к летописям и другим источникам. Но мы не можем обойти молчанием масонское движение, начавшееся в конце XVIII века.
Масоны: первые проявления политической мысли