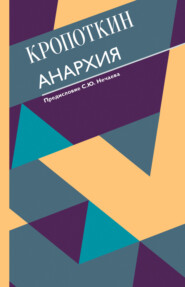По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Записки революционера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Постепенно дурное впечатление изгладилось до известной степени. Доблестная борьба всегда отличавшихся храбростью поляков, неослабная энергия, с которой они сопротивлялись громадной армии, скоро вновь пробудили симпатию к этому героическому народу. Но в то же время стало известно, что революционный комитет требует восстановления Польши в старых границах, со включением Украины, православное население которой ненавидит панов и не раз в течение трех последних веков начинало восстание против них кровавой резней.
Кроме того, Наполеон III и Англия стали угрожать России новой войной, и эта пустая угроза принесла полякам более вреда, чем все остальные причины, взятые вместе. Наконец, радикальная часть русского общества с сожалением убедилась, что в Польше берут верх чисто националистические стремления. Революционное правительство меньше всего думало о наделении крепостных землей, и этой ошибкой русское правительство не преминуло воспользоваться, чтобы выступить в роли защитника хлопов против польских панов.
Когда в Польше началась революция, все в России думали, что она примет демократический республиканский характер и что Народный Жонд освободит на широких демократических началах крестьян, сражающихся за независимость родины.
Освобождение крестьян в России представляло весьма удобный случай для подобного действия. Личные обязательства крестьян к помещикам кончились 19 февраля 1863 года. Затем следовало выполнить очень долгую процедуру установления добровольного соглашения между помещиками и крепостными относительно величины и местонахождения надела. Размер ежегодных платежей за наделы (оцененные очень высоко) был утвержден правительством по стольку-то с десятины. Но крестьянам приходилось еще платить дополнительные суммы за усадебные земли, причем правительство определило лишь высшую норму; помещикам же предоставлялось или отказаться от дополнительных платежей, или удовольствоваться частью. Что же касается выкупа наделов, при котором правительство платило помещикам полностью выкупными свидетельствами, а крестьяне обязаны были погашать долг в течение сорока девяти лет взносами по шести процентов в год, то эти платежи не только были чрезмерно велики и разорительны для крестьян, но не был определен также срок выкупа. Он предоставлялся воле помещика, и во многих случаях выкупные сделки не были заключены даже через двадцать лет после освобождения крестьян.
Такое положение вещей предоставляло польскому революционному правительству широкую возможность улучшить русский закон. Оно обязано было выполнить акт справедливости по отношению к крестьянам (положение их было так же плохо, а в некоторых случаях даже хуже, чем в России); оно могло выработать лучшие и более определенные законы освобождения крепостных. Но ничего подобного не было сделано. Верх одержала партия чисто националистическая и шляхетская, и великий вопрос об освобождении хлопов был отодвинут на задний план. Вследствие этого русскому правительству открылась возможность заручиться расположением польских крестьян против революционеров.
Оно широко воспользовалось этой ошибкой. Александр II послал Н. Милютина в Польшу с полномочием освободить крестьян по тому плану, который последний думал осуществить в России, не считаясь с тем, разорит ли такое освобождение помещиков или нет.
– Поезжайте в Польшу и там примените против помещиков вашу красную программу, – сказал Александр II Милютину.
И Милютин вместе с князем Черкасским и многими другими действительно сделал все возможное, чтобы отнять землю у помещиков и дать крестьянам большие наделы.
Раз я встретился с одним из тех чиновников, которые действовали в Польше вместе с Милютиным и князем Черкасским.
– Мы имели полную возможность, – говорил он, передать всю землю крестьянам. Обыкновенно я начинал с того, что сзывал крестьянский сход. «Скажите сперва, какою землею вы владеете теперь?» Мне указывали ее. «Вся ли это земля, которая когда-либо принадлежала вам?» – спрашивал я. «Нет, отвечали они, бывало, как один человек. – В былые годы вон те луга принадлежали нам; владели мы еще тем лесом и теми полями» Я предоставлял им высказать все, а затем говорил: «Ну, кто из вас может показать под присягой, что та земля была когда-то ваша?» Конечно, никто не выступал, потому что дело шло о давно прошедшем времени. Наконец выталкивали вперед какого-нибудь дряхлого старика. Остальные говорили: «Он знает все; он может присягнуть» Старик начинал бесконечный рассказ про то, что видал в молодости, или про то, что слыхал от отца; но я круто обрывал: «Покажи под присягой, что участок когда-то принадлежал гмине, и земля будет ваша». И как только старик присягал – такой присяге можно слепо верить, – я составлял бумаги и объявлял сходу: «Теперь у вас нет никаких обязательств к вашим бывшим помещикам, вы простые соседи. Платите только по стольку-то в год в казну. Усадьбы идут вместе с землей. Платить за них вам ничего не нужно».
Легко себе представить, какое впечатление все это произвело на крестьян. Мой двоюродный брат Петр Николаевич Кропоткин, брат того флигель-адъютанта, о котором я упоминал выше, был в Польше или в Литве с гвардейским уланским полком, в котором служил. Революция имела такой серьезный характер, что против поляков двинули из Петербурга даже гвардию. Теперь известно, что, когда Михаила Муравьева посылали в Литву и он пришел проститься с императрицей Марией Александровной, она ска зала ему:
– Спасите хоть Литву!
Польша считалась уже утерянной.
– Вооруженные банды повстанцев держали весь край, – рассказывал мой двоюродный брат. – Мы не могли не только разбить, но и найти их. Банды нападали беспрестанно на наши небольшие отряды; а так как повстанцы сражались превосходно, отлично знали местность и находили поддержку в населении, то они оставались победителями в таких случаях. Поэтому мы вынуждены были ходить всегда большими колоннами. И вот мы ходили все время по всему краю, взад и вперед, среди лесов, а конца восстанию не предвиделось. Пока мы пересекали какую-нибудь местность, мы не встречали никакого следа повстанцев. Но как только мы возвращались, то узнавали, что банды опять появлялись в тылу и собирали патриотическую подать. И если какой-нибудь крестьянин оказал услуги нашим войскам, мы находили его повешенным повстанцами. Так дело тянулось несколько месяцев, без всякой надежды на скорый конец, покуда не прибыли Милютин и Черкасский. Как только они освободили крестьян и дали им землю, все сразу изменилось. Крестьяне перешли на нашу сторону и стали помогать нам ловить повстанцев. Революция кончилась.
В Сибири я часто беседовал с ссыльными поляками на эту тему, и некоторые из них понимали ошибку, которая была сделана. Революция с самого начала должна явиться актом справедливости по отношению к «униженным и оскорбленным», а не обещанием поправки зла в будущем; иначе она, наверное, не удастся. К несчастью, часто случается, что вожди бывают так поглощены вопросами политики и военной тактики, что забывают самое главное. Между тем революционеры, которым не удается убедить массу, что для нее начинается новая эра, готовят верную гибель своему собственному делу.
Бедственные последствия революции для Польши известны и принадлежат уже истории. Никто еще доподлинно не знает, сколько тысяч человек погибло на поле битвы, сколько сотен повешено и сколько десятков тысяч человек было сослано во внутренние русские губернии и в Сибирь. Но, даже по официальным сведениям, обнародованным недавно, в одном лишь Литовском крае палач Муравьев, которому правительство поставило памятник, повесил собственной властью 128 поляков и сослал в Сибирь 9423 мужчин и женщин. По официальным сведениям, в Сибирь было сослано 18672 человека; из них 10407 в Восточную Сибирь, и я помню, что генерал-губернатор Восточной Сибири упоминал мне приблизительно ту же цифру: он говорил, что в его край в каторжные работы и на поселение прислано одиннадцать тысяч человек. Я видел их, видел и их страдания на соляном промысле Усть-Куте. В общем от шестидесяти до семидесяти тысяч человек, если не больше, были оторваны от Польши и со сланы в Европейскую Россию, на Урал, на Кавказ или «е в Сибирь.
Для России последствия были одинаково бедственны. Польская революция положила конец всем реформам. Правда, в 1864 и 1866 годах ввели земскую и судебную реформы, но они были готовы еще в 1862 году. Кроме того, в последний момент Александр II отдал предпочтение плану земской реформы, выработанному не Николаем Милютиным, а реакционною партией Валуева по австро-немецким образцам. Затем, немедленно после обнародования обеих реформ, значение их сократили, а в некоторых случаях даже уничтожили при помощи многочисленных «временных правил».
Хуже всего было то, что само общественное мнение сразу повернуло на путь реакции. Героем дня стал Катков, парадировавший теперь как русский «патриот» и увлекавший за собою значительную часть петербургского и московского общества. Он немедленно помещал в разряд «изменников» всех тех, кто еще дерзал говорить в реформах.
Волна реакции скоро добралась до нашей далекой окраины. Раз, в феврале или марте 1863 года, в Читу прискакал нарочный из Иркутска и привез бумагу. В ней предписывалось генералу Кукелю немедленно оставить пост губернатора Забайкальской области, вернуться в Иркутск и там дожидаться дальнейших распоряжений, «не принимая должности начальника штаба».
Почему так? Что все это означает? Про это в бумаге не было ни слова. Даже генерал-губернатор, личный друг Кукеля, не решился прибавить ни одного пояснительного слова к таинственной бумаге. Значила ли она, что Кукеля повезут с двумя жандармами в Петербург и там замуруют в каменный гроб, в Петропавловскую крепость? Все было возможно. Позднее мы узнали, что так именно и предполагалось. Так бы и сделали, если бы не энергичное заступничество графа Николая Муравьева-Амурского, который лично умолял царя пощадить Кукеля.
Наше прощание с Б. К. Кукелем и его прелестной семьей было похоже на похороны. Сердце мое надрывалось. В Кукеле я не только терял дорогого, близкого друга, но я сознавал также, что его отъезд означает похороны целой эпохи, богатой «иллюзиями», как стали говорить впоследствии – эпохи, на которую возлагалось столько надежд.
Так оно и вышло. Прибыл новый губернатор, добро душный, беззаботный человек. Видя, что терять время нельзя, я с удвоенной энергией принялся за работу и закончил проект реформ тюремного и городского самоуправления. Губернатор оспаривал мои доклады, делал возражения, а впрочем, подписал проекты, и они были отправлены в Петербург. Но там больше уже не желали реформ. Там наши проекты и покоятся по сию пору с сотнями других подобных записок, поданных со всех концов России. В столицах выстроили несколько «образцовых» тюрем – еще более ужасных, чем старые, не образцовые, – чтобы было что показать знатным иностранцам во время тюремных конгрессов. Но в 1886 году Кеннан нашел всю систему ссылки в таком же виде, в каком я ее оставил в 1867 году. Лишь теперь, через много лет, правительство вводит в Сибири новые суды и пародию на самоуправление; лишь теперь назначены снова комиссии для расследования системы ссылки.
Когда Кеннан, возвращаясь из своего путешествия из Сибири, приехал в Лондон, он на другой же день разыскал Степняка, Чайковского, меня и еще одного русского эмигранта. Вечером мы собрались у Кеннана в небольшой гостинице близ Чаринг-Кросса. Видели мы Кеннана в первый раз, а предприимчивые англичане, которые до него брались изучить все касающееся Сибири и ссылки, не давши себе труда научиться хоть немного по-русски, приучили нас к недоверию. Поэтому мы подвергали путешественника строгому перекрестному допросу. К великому нашему изумлению, он не только отлично говорил по-русски, но знал все, что заслуживало внимания относительно Сибири. Мы, четверо, знали многих ссыльных, находившихся в Сибири, и осаждали Кеннана вопросами: «Где такой-то? Женат ли он? Счастлив ли в семейной жизни? Сохранился ли он?» Мы быстро убедились, что Кеннан был знаком со всеми.
Когда этот допрос кончился, я спросил:
– А не знаете ли вы, г-н Кеннан, построена каланча пожарная в Чите?
Степняк взглянул на меня, как будто упрекая за из лишнюю пытливость. Но Кеннан расхохотался, и я тоже. Смеясь, мы перекидывались вопросами:
– Как? Вы знаете об этом?
– И вы тоже?
– Выстроили наконец?
– Да, по двойной смете!
И так далее. Наконец вмешался Степняк и наиболее суровым тоном, на какой лишь был способен при своем добродушии, заявил:
– Скажите же нам наконец, чему вы смеетесь? Тогда Кеннан рассказал историю читинской каланчи, которую, вероятно, помнят читатели его книги. В 1855 году читинцы пожелали выстроить каланчу и собрали деньги для этого; но смету пришлось послать в Петербург. Она пошла к министру внутренних дел, но когда утвержденная смета вернулась через два года в Читу, то оказалось, что цены на лес и на труд значительно поднялись в молодом, разраставшемся городе. Это было в 1862 году, когда я жил в Чите. Составили новую смету и отправили в Петербург. История повторилась несколько раз и тянулась целых двадцать пять лет, покуда наконец читинцы потеряли терпение и выставили в смете почти двойные цифры. Тогда фантастическую смету торжественно утвердили в Петербурге. Таким образом Чита получила каланчу.
За последние годы нам часто приходилось слышать, что Александр II совершил большую ошибку, вызвав так много ожиданий, которых потом не мог удовлетворить. Таким образом, говорят, он уготовил свою собственную гибель. Из всего того, что я сказал, – а история маленькой Читы была историей всей России – видно, что Александр II сделал нечто худшее. Он не только пробудил надежды. Уступив на время течению, он побудил по всей России людей засесть за построительную работу; он побудил их выйти из области надежд и призраков и дал им возможность, так сказать, осязать, почти осуществить назревшие реформы. Он заставил их узнать, что можно сделать немедленно и как легко это сделать. Александр II убедил этих людей пожертвовать частью их идеалов, которых нельзя было немедленно осуществить, и требовать только практически возможного в данное время. И когда они отлили свои идеалы в форму готовых законов, требовавших лишь подписи императора, чтоб стать действительностью, он отказался подписать. Ни один реакционер не высказывал и не смел высказать, что дореформенные суды, отсутствие городского самоуправления и старая система ссылки были хороши и достойны сохранения. Никто не дерзал утверждать этого. И тем не менее из страха сделать что-нибудь все оставили, как оно было. Тридцать пять лет вносили в разряд «подозрительных» всех тех, кто дерзал заметить, что нужны перемены. Из одного страха перед страшным словом «реформы» учреждения, осужденные всеми, признанные всеми за гнилые пережитки старого, были оставлены в нетронутом виде.
Глава IV
Заселение Амурского края. – Плавание по Амуру. – Первые опыты на сплаве. – Тайфун. – Командировка, в Петербург
Я видел, что в Чите мне делать больше нечего, так как с реформами тут покончено, и весною того же 1863 года охотно принял предложение поехать со сплавом на Амур.
Все необъятное левое побережье Амура и берег Тихого океана, вплоть до залива Петра Великого… в течение двух столетий манили сибиряков… И вот явилась мысль выстроить по Амуру и по Уссури на протяжении 3500 с лишком верст цепь станиц и таким образом установить правильное сообщение между Сибирью и берегами Великого океана. Для станиц нужны были засельщики, которых Восточная Сибирь не могла дать. Тогда Муравьев прибег к необычайным мерам. Ссыльно-каторжным, отбывшим срок в каторжных работах и приписанным к кабинетским промыслам, возвратили гражданские права и обратили в Забайкальское казачье войско. Затем часть их поселили по Амуру и по Уссури. Возникли, таким образом, еще два новых казачьих войска.
Затем Муравьев добился полного освобождения тысячи каторжников (большею частью убийц и разбойников), которых решил устроить, как вольных переселенцев, по низовьям Амура. Отправляя их с Кары на новые места, Муравьев, перед тем как они сели на плоты, чтобы плыть вниз по Шилке и Амуру, произнес им речь: «С богом, детушки. Вы теперь свободны. Обрабатывайте землю, сделайте ее русским краем, начните новую жизнь» и так далее. Русские крестьянки почти всегда добровольно следуют в Сибирь за сосланными мужьями. Таким образом, поселенцы имели свои семьи. Но были и холостые, которые заметили Муравьеву: «Мужик без бабы – ничего; жениться нам нужно». Генерал-губернатор сейчас же согласился, велел освободить каторжанок и предложил им выбрать мужей. Времени терять было нельзя. Полая вода быстро спадала в Шилке, плотам следовало сниматься. Тогда Муравьев велел поселенцам стать на берегу парами, благословил их и сказал: «Венчаю вас, детушки. Будьте ласковы друг с другом; мужья, не обижайте жен и живите счастливо».
Я видел этих новоселов лет шесть спустя после описанной сцены. Деревни были бедны; поля пришлось отвоевывать у тайги, но в общем мысль Муравьева осуществилась, а браки, заключенные им, были не менее счастливы, чем браки вообще. Добрый, умный епископ Амурский Иннокентий признал впоследствии эти браки и детей, рожденных в них, законными и приказал так и отметить в церковных книгах.
Менее счастлив был Муравьев с другим разрядом переселенцев. Нуждаясь в людях для заселения Восточной Сибири, он принял как колонистов две тысячи солдат из штрафных батальонов. Их распределили, как приемных сыновей, в казачьи семьи или же устроили артельными холостыми хозяйствами в деревнях Восточной Сибири. Но десять или двадцать лет казарменной жизни под ужасной николаевской дисциплиной, очевидно, не могли быть подготовительной школой для земледельческого труда. «Сынки» убегали от «отцов», присоединялись к бездомному, бродячему городскому населению, перебивались случайной работой, пропивали весь заработок, а затем, беззаботные, как птицы, дожидались, покуда набежит новая работа.
Пестрые толпы забайкальских казаков, освобожденных каторжников и «сынков», поселенных наскоро и кое-как по берегу Амура, конечно, не могли благоденствовать, в особенности по низовьям реки и по Уссури, где каждый квадратный аршин приходилось расчищать из-под девственного субтропического леса; где проливные дожди, приносимые муссонами в июле, затопляли громадные пространства; где миллионы перелетных птиц часто выклевывали хлеба. Все эти условия привели население низовьев в отчаяние, а затем породили апатию.
Таким образом, ежегодно приходилось отправлять целые караваны барж с солью, мукой, солониной и так далее для продовольствия как войск, так и переселенцев в низовьях Амура. В Чите для этого строили ежегодно около ста пятидесяти барж, которые и сплавлялись весной в половодье по Ингоде, Шилке и Амуру. Вся флотилия делилась на отряды в двадцать – тридцать судов, которыми заведовали казачьи офицеры и чиновники. Большинство из них не очень много понимало в навигационном деле; но на них можно было хоть положиться, что они не раскрадут провизию и не покажут ее потом затонувшей. Я был прикомандирован помощником к начальнику всего сплава этого года майору Малиновскому.
Мой первый опыт в новой роли сплавщика был совсем неудачен. Мне надлежало поспешить насколько возможно из Сретенска с несколькими баржами к известному пункту на верхнем Амуре и там сдать их. С этой целью приходилось взять команду из «сынков», о которых я говорил выше. Никто из них ничего не понимал в речном плавании. Немногим больше понимал и я. В день отправки пришлось собирать мою команду по кабакам. В пять часов утра, когда следовало сняться, некоторые были так пьяны, что их приходилось выкупать предварительно в реке, чтобы хоть несколько вытрезвить. Когда мы тронулись, мне пришлось их учить всему. Тем не менее днем дело шло не дурно. Баржи, сносимые быстрым течением, плыли по середине реки. Хотя моя команда и отличалась неопытностью, но ей не было никакого расчета посадить суда на берег: для этого потребовалось бы специальное усилие. Но когда стемнело и наступила пора причалить наши неуклюжие, тяжело нагруженные баржи к берегу на ночь, то оказалось, что одна ушла далеко вперед от той, на которой я был; остановилась она лишь тогда, когда крепко наткнулась на камень у подножья страшно высокого, крутого утеса. Здесь баржа засела основательно. Уровень реки, поднятый ливнями, быстро падал. Мои десять «сынков», находившиеся на этой барже, конечно, не могли снять ее. Я поплыл в лодке в ближайшую станицу, чтобы позвать на помощь казаков, и в то же время отправил гонца к приятелю, казачьему офицеру, жившему в Сретенске, старому опытному сплавщику.
Наступило утро. На помощь явилось около сотни казаков и казачек, но под утесом было так глубоко, что невозможно было установить сообщение с берегом с целью разгрузить баржу. Когда же мы попробовали сдвинуть ее с камня, в дне образовалась пробоина, через которую хлынула вода, размывая наш груз: муку и соль. К великому ужасу моему, я видел множество рыбок, попавших через пробоину и теперь плававших в барже. Я беспомощно стоял, не зная, что делать. Есть очень простое средство в подобных случаях: нужно заткнуть пробоину кулем муки, который быстро всосется в отверстие. Образовавшаяся из теста кора не даст воде проникнуть через муку но никто из нас этого не знал.
К счастью для меня, мы через несколько минут усмотрели вверх по реке баржу, плывшую к нам. Вряд ли обрадовалась так доведенная до отчаяния Эльза при виде плывущего к ней на лебеде Лоэнгрина, как возликовали мы, завидев неуклюжую баржу. Легкий голубой туман, висевший в этот ранний час над красавицей Шилкой, придавал еще большую поэзию нашему видению. То был мой приятель, казачий офицер, понявший из моей записки, что никакими человеческими силами не сдвинуть баржу, что она погибла. Он приплыл поэтому на пустой барже, чтобы спасти груз.
Пробоину заткнули; воду вычерпали, груз перенесли на новое судно, и на следующее утро я мог продолжать плаванье. Этот маленький опыт был мне очень полезен, и вскоре я достиг назначения без дальнейших приключений, о которых стоило бы упомянуть. Мы всегда находили по вечерам небольшую полосу крутого, но сравнительно невысокого берега, чтобы причалить. Скоро затем на берегу быстрой и чистой реки пылали наши костры. А фоном бивуака был великолепный горный пейзаж. Трудно представить себе более приятное плаванье, чем днем, на барже, сносимой по воле течения. Нет ни шума, ни грохота, как на пароходе. Порой приходится лишь раза два повернуть громадное кормовое весло, чтобы держать баржу среди реки. Любителю природы не сыскать лучших видов, чем по нижнему течению Шилки и на верхнем Амуре, где широкая и быстрая прозрачная река течет между горами, поросшими лесами, спускающимися к воде высокими, крутыми скалами, тысячи в две футов в вышину. Но эти самые скалы делают сообщение с берегом крайне затруднительным. Проехать можно только верхом горной тропой. Это я испытал на личном опыте осенью того же года. В Восточной Сибири зовут последние семь перегонов по Шилке (около 180 верст) «семью смертными грехами». Эта часть сибирской железной дороги, если когда-нибудь ее проложат здесь, обойдется в страшно большие деньги – гораздо дороже, чем участок канадской железной дороги, проходящей в скалистых горах, в ущелье реки Фразер.
Сдав мои баржи, я сделал около 1500 верст вниз по Амуру в почтовой лодке. Середина ее покрыта навесом, как кибитка, а на носу стоит ящик, набитый землей, на которой разводят огонь. Гребцов у меня было трое. Нам приходилось торопиться, и мы гребли поочередно весь день, а ночью предоставляли лодке плыть по течению, держа ее по средине реки. Я сидел тогда на корме часа четыре, чтобы удерживать лодку в фарватере и не угодить в протоку, и эти ночные дежурства были полны невыразимой прелести. На небе сиял полный месяц, а черные горы отражались в заснувшей прозрачной реке.
Гребцы мои были из «сынков», прогнанных сквозь строй, а теперь бродяживших из города в город и не всегда признававших права собственности. А между тем я имел на себе тяжелую сумку с порядочным количеством серебра, бумажек и меди. В Западной Европе такое путешествие по пустынной реке считалось бы опасным, но не в Восточной Сибири. Я сделал его преблагополучно, не имея при себе даже старого пистолета. Вообще мои «сынки» оказались очень хорошими людьми, только подъезжая к Благовещенску, они затосковали.
– Ханшина (китайская водка) уж очень дешева тут, – скорбели они. Водка крепкая; как выпьешь, сразу с ног сшибет с непривычки!
Я предложил им оставить следуемые им деньги у одного приятеля, с тем чтобы он выдал плату моим «сынкам», когда усадит их на обратный пароход.