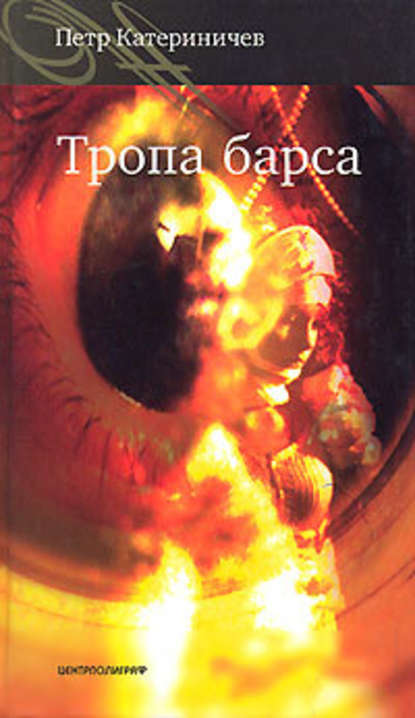По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тропа барса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот и славно, что понимаешь. Готов?
– Всегда готов, – гыгыкнул Шалам, вскинув руку в пионерском приветствии.
– С замками справишься?
– А чего с ними справляться? Квартира не сейф. Шалам открыл бардачок, извлек оттуда остро отточенный нож, моток скотча, металлическую коробочку из-под шприцев: там он держал какие-то ножнички, щипчики, которые использовал так умело, что жертвы жалели, что вообще родились на этот свет.
– Пошел! Да, рацию поставь на передачу, послушаю вашу беседу.
– Ага. – Глаза Шалама блестели, он радостно открыл дверцу и не спеша, вразвалочку, словно пытаясь растянуть предвкушение предстоящего удовольствия, двинулся к двери подъезда.
Крас поднес к губам рацию:
– Первый всем: начало операции.
Эту фразу он произнес трижды, последовательно меняя частоту. Закурил. Замер, откинувшись на спинку сиденья.
Он еще раз прокачивал принятое решение. Все правильно. Если за девкой кто-то стоит, этот кто-то так или иначе проявится. Вот тогда можно будет с легким серд-цем доложиться Лиру: так, мол, и так, против нас работают профи. Для него.
Краса, это было бы лучше всего: в играх профессионалов он чувствовал себя как карась в пруду. Лир и подавно. Ну а если девка блефует или действует на свой страх, то Шалам выдавит из нее все, что она знает. Было в Шаламе… было в нем что-то бесконтрольно-звериное; когда он чуял близкую кровь, ноздри его трепетали, лицо приобретало какую-то отрешенность… Жертвы чувствовали это кожей, выражение лица Шалама пугало их даже больше, чем предстоящая боль. А уж он-то, Крас, знал: настоящая боль развязывает любые языки.
Пожалуй, мужчина боялся бы своего слугу, ведь зверь способен на все. Боялся бы, если… в себе он чувствовал зверя, рядом с которым Шалам был просто беспородной дворовой шавкой. Зверя, опаснее, беспощаднее которого нет.
Он снова прикрыл глаза. И будто наяву, увидел девчонку – нагую, связанную, распятую, беззащитную перед его желанием. Перед его любым желанием. Сглотнул слюну, притронулся к лицу, чувствуя, как наливается кровью, пульсирует шрам.
Все люди – звери. А это означает только одно: чтобы выжить, нужно быть самым безжалостным из них.
Глава 9
– Капкан. Кап-кан. – Аля смотрела в одну точку. – Не знаю я способа прорваться.
Никакого. Кроме этого. – Она ласково притронулась к оружию.
– Хороши игрушки… – прокомментировала Настя.
– Ты знаешь, а мне нравится.
– Хм… Откуда у тебя к этим железкам такая нежность?
– Не знаю. Я же рассказывала, с двенадцати лет стрельбой занимаюсь, еще до переезда сюда. С детдома. А в шестнадцать стала мастером.
– Слушай, а ствол-то этот у тебя откуда?
– От верблюда. Классная штука, скажи?
– Ты что его, из тира, где тренировалась, заныкала?
– Вот еще… Мне его подарили.
– Кто?
– Давно. Константин Петрович Фадеев. Он в нашем детдоме дворником-сторожем работал. У него еще протез был вместо ноги, деревяшка. Он как раз стрелковый кружок и вел.
– Ему что, разрешили?
– А кому какое дело? Там, кстати, одни ребята были, только я – пацанка. Я у него в сторожке подолгу сидела, а когда он заболел – ухаживала. Насть… долгая это история. Просто как баба Вера меня к себе решила взять, дядя Костя мне «марголин» и подарил. На память. Он умер потом через неделю. Совсем уже старенький был.
– От чего умер-то?
– Наверное, как все. Жить устал.
– А чего ты раньше не говорила, что у тебя пистолет есть?
– А зачем кому говорить? Чтобы отобрали?
– Даже мне?
– Насть… Это теперь я тебя знаю, а как приехала… Ну тетка, ну добрая… А чего бы ей доброй не быть, когда муж тароватый, дом полная чаша и вообще во всем – ажур. В смысле – алее. Так что… Так что лежал он себе, в тряпочку промасленную завернутый, в чулане. Иногда я его доставала, когда баб Веры не было, чистила… И вообще – он красивый. Ты знаешь, этот Марголин, конструктор, он почти слепой был, эту машинку лепил, считай, на ощупь, из глины…
– Нет, Алька, – задумчиво произнесла Настя. – Ты не увлечена стрельбой, ты… Ты относишься к оружию как к другу. Давнему.
– Насть, сама не знаю. Не помню. Как и все мое детство не помню. У меня из детства только мишка и оставался. А теперь вот и его нет. Только порой картинки какие-то… Знаешь, наверное, совсем раннее воспоминание, младенческое: лежу в колыбельке, питаюсь и… гильзами играю, на веревочке. Как погремушками.
– Может, ты – дитя войны?
– А разве тогда была война? В восьмидесятом.
– Война всегда.
– А жаль.
– Еще как жаль.
– Вот что, Настька. Делаем так. Ты сидишь тихо, как мышка. Я иду на прорыв.
– Аленка…
– Погоди. Я все рассчитала. Двоим теткам прорваться куда труднее, чем одной. Я не пойду вниз, во двор, я на чердак полезу. И выйду из четвертого подъезда.
Скоро стемнеет. В городе растворюсь – ни одна собака не найдет. Никогда. Да и… не будут же они за мной всю мою жизнь гоняться, ведь так?
– Они столько не проживут.
– Вот и я надеюсь.
– Аленка…
– Погоди. Ко всему, если ты останешься, мне будет легче: вдруг меня все-таки прищучат, выручать кому? Тебе. И Женьке. Ну что, решили?
– Всегда готов, – гыгыкнул Шалам, вскинув руку в пионерском приветствии.
– С замками справишься?
– А чего с ними справляться? Квартира не сейф. Шалам открыл бардачок, извлек оттуда остро отточенный нож, моток скотча, металлическую коробочку из-под шприцев: там он держал какие-то ножнички, щипчики, которые использовал так умело, что жертвы жалели, что вообще родились на этот свет.
– Пошел! Да, рацию поставь на передачу, послушаю вашу беседу.
– Ага. – Глаза Шалама блестели, он радостно открыл дверцу и не спеша, вразвалочку, словно пытаясь растянуть предвкушение предстоящего удовольствия, двинулся к двери подъезда.
Крас поднес к губам рацию:
– Первый всем: начало операции.
Эту фразу он произнес трижды, последовательно меняя частоту. Закурил. Замер, откинувшись на спинку сиденья.
Он еще раз прокачивал принятое решение. Все правильно. Если за девкой кто-то стоит, этот кто-то так или иначе проявится. Вот тогда можно будет с легким серд-цем доложиться Лиру: так, мол, и так, против нас работают профи. Для него.
Краса, это было бы лучше всего: в играх профессионалов он чувствовал себя как карась в пруду. Лир и подавно. Ну а если девка блефует или действует на свой страх, то Шалам выдавит из нее все, что она знает. Было в Шаламе… было в нем что-то бесконтрольно-звериное; когда он чуял близкую кровь, ноздри его трепетали, лицо приобретало какую-то отрешенность… Жертвы чувствовали это кожей, выражение лица Шалама пугало их даже больше, чем предстоящая боль. А уж он-то, Крас, знал: настоящая боль развязывает любые языки.
Пожалуй, мужчина боялся бы своего слугу, ведь зверь способен на все. Боялся бы, если… в себе он чувствовал зверя, рядом с которым Шалам был просто беспородной дворовой шавкой. Зверя, опаснее, беспощаднее которого нет.
Он снова прикрыл глаза. И будто наяву, увидел девчонку – нагую, связанную, распятую, беззащитную перед его желанием. Перед его любым желанием. Сглотнул слюну, притронулся к лицу, чувствуя, как наливается кровью, пульсирует шрам.
Все люди – звери. А это означает только одно: чтобы выжить, нужно быть самым безжалостным из них.
Глава 9
– Капкан. Кап-кан. – Аля смотрела в одну точку. – Не знаю я способа прорваться.
Никакого. Кроме этого. – Она ласково притронулась к оружию.
– Хороши игрушки… – прокомментировала Настя.
– Ты знаешь, а мне нравится.
– Хм… Откуда у тебя к этим железкам такая нежность?
– Не знаю. Я же рассказывала, с двенадцати лет стрельбой занимаюсь, еще до переезда сюда. С детдома. А в шестнадцать стала мастером.
– Слушай, а ствол-то этот у тебя откуда?
– От верблюда. Классная штука, скажи?
– Ты что его, из тира, где тренировалась, заныкала?
– Вот еще… Мне его подарили.
– Кто?
– Давно. Константин Петрович Фадеев. Он в нашем детдоме дворником-сторожем работал. У него еще протез был вместо ноги, деревяшка. Он как раз стрелковый кружок и вел.
– Ему что, разрешили?
– А кому какое дело? Там, кстати, одни ребята были, только я – пацанка. Я у него в сторожке подолгу сидела, а когда он заболел – ухаживала. Насть… долгая это история. Просто как баба Вера меня к себе решила взять, дядя Костя мне «марголин» и подарил. На память. Он умер потом через неделю. Совсем уже старенький был.
– От чего умер-то?
– Наверное, как все. Жить устал.
– А чего ты раньше не говорила, что у тебя пистолет есть?
– А зачем кому говорить? Чтобы отобрали?
– Даже мне?
– Насть… Это теперь я тебя знаю, а как приехала… Ну тетка, ну добрая… А чего бы ей доброй не быть, когда муж тароватый, дом полная чаша и вообще во всем – ажур. В смысле – алее. Так что… Так что лежал он себе, в тряпочку промасленную завернутый, в чулане. Иногда я его доставала, когда баб Веры не было, чистила… И вообще – он красивый. Ты знаешь, этот Марголин, конструктор, он почти слепой был, эту машинку лепил, считай, на ощупь, из глины…
– Нет, Алька, – задумчиво произнесла Настя. – Ты не увлечена стрельбой, ты… Ты относишься к оружию как к другу. Давнему.
– Насть, сама не знаю. Не помню. Как и все мое детство не помню. У меня из детства только мишка и оставался. А теперь вот и его нет. Только порой картинки какие-то… Знаешь, наверное, совсем раннее воспоминание, младенческое: лежу в колыбельке, питаюсь и… гильзами играю, на веревочке. Как погремушками.
– Может, ты – дитя войны?
– А разве тогда была война? В восьмидесятом.
– Война всегда.
– А жаль.
– Еще как жаль.
– Вот что, Настька. Делаем так. Ты сидишь тихо, как мышка. Я иду на прорыв.
– Аленка…
– Погоди. Я все рассчитала. Двоим теткам прорваться куда труднее, чем одной. Я не пойду вниз, во двор, я на чердак полезу. И выйду из четвертого подъезда.
Скоро стемнеет. В городе растворюсь – ни одна собака не найдет. Никогда. Да и… не будут же они за мной всю мою жизнь гоняться, ведь так?
– Они столько не проживут.
– Вот и я надеюсь.
– Аленка…
– Погоди. Ко всему, если ты останешься, мне будет легче: вдруг меня все-таки прищучат, выручать кому? Тебе. И Женьке. Ну что, решили?
Другие электронные книги автора Петр Владимирович Катериничев
Беглый огонь




 4.5
4.5
Странник (пьеса)




 4.67
4.67
Иллюзия отражения




 4.67
4.67
Повелитель снов




 4.6
4.6
Банкир




 4.6
4.6
Странник




 4.5
4.5