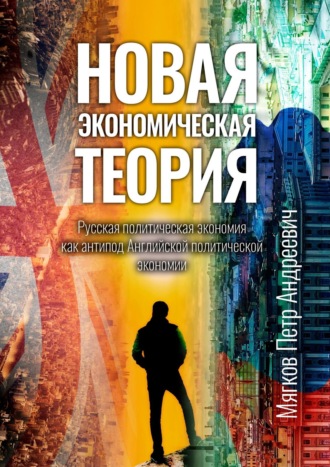
Новая экономическая теория. Русская политическая экономия как антипод Английской политической экономии
Во-вторых: превращение одной части валовой прибыли в форму процента превращает другую ее часть в предпринимательский доход. В самом деле, этот последний есть лишь та противоположная форма, которую принимает избыток валовой прибыли над процентом, когда процент существует как особая категория. … Но капитал, приносящий проценты, исторически существует как готовая, старинная форма, а потому и процент как готовая форма прибавочной стоимости, произведенной капиталом, существует уже задолго до появления капиталистического способа производства и соответствующих ему представлений о капитале и прибыли…
…В-третьих: работает ли промышленный капиталист с собственным капиталом, это ничего не изменяет в том обстоятельстве, что ему противостоит класс денежных капиталистов как особый вид капиталистов, денежный капитал как самостоятельный вид капитала и процент как соответствующая этому особому капиталу самостоятельная форма прибавочной стоимости.
Качественно процент есть прибавочная стоимость, которую доставляет просто собственность на капитал, которую капитал приносит сам по себе, хотя его собственник остается вне процесса воспроизводства, которую капитал, следовательно, дает обособленно от своего процесса.
Количественно часть прибыли, образующая процент, представляется так, как будто она связана не с промышленным и торговым капиталом как таковым, а с денежным капиталом, и норма этой части прибавочной стоимости, норма процента, или ставка процента, закрепляет такое отношение. Потому что, во-первых, ставка процента – несмотря на свою зависимость от общей нормы прибыли – определяется самостоятельно, и, во-вторых, подобно рыночной цене товаров, она, в противоположность неуловимой норме прибыли, выступает как устойчивое, при всех переменах единообразное, очевидное и всегда данное отношение…»85.
«…Еще большей нелепостью будет предполагать, что на основе капиталистического способа производства капитал может приносить процент, не функционируя как производительный капитал, т.е. не создавая прибавочной стоимости, частью которой и является процент, что капиталистический способ производства может совершать свой путь без капиталистического производства. Если бы непомерно большая часть капиталистов захотела превратить свой капитал в денежный капитал, то следствием этого было бы чрезмерное обесценение денежного капитала и чрезвычайное падение ставки процента; многие немедленно оказались бы не в состоянии жить на свои проценты и таким образом были бы вынуждены снова превратиться в промышленных капиталистов. … Поэтому, даже хозяйствуя с собственным капиталом, он необходимо рассматривает ту часть своей средней прибыли, которая равна среднему проценту, как продукт своего капитала как такового, получающийся независимо от процесса производства; и в противоположность этой части, обособившейся в виде процента, он рассматривает избыток валовой прибыли над процентом просто как предпринимательский доход….»86.
«…Следовательно, процент есть лишь выражение того, что стоимость вообще, – овеществленный труд в его всеобщей форме, – стоимость, принимающая в действительном процессе производства вид средств производства, противостоит живой рабочей силе как самостоятельная сила и является средством присвоения неоплаченного труда; и что такой силой она является благодаря тому, что противостоит рабочему как чужая собственность. Но, с другой стороны, в форме процента эта противоположность наемному труду стирается, потому что приносящий проценты капитал как таковой находит свою противоположность не в наемном труде, а в функционирующем капитале; капиталист-кредитор как таковой прямо противостоит действительно функционирующему в процессе воспроизводства капиталисту, а не наемному рабочему, у которого именно на основе капиталистического производства экспроприированы средства производства. Приносящий проценты капитал – это капитал как собственность в противоположность капиталу как функции. Но пока капитал не функционирует, он не эксплуатирует рабочих и не вступает в антагонизм с трудом.
С другой стороны, предпринимательский доход составляет противоположность не наемному труду, а лишь проценту…»87.
«…Процент есть отношение между двумя капиталистами, а не между капиталистом и рабочим…»88.
«… В капитале, приносящем проценты, капиталистическое отношение достигает своей наиболее внешней и фетишистской формы. Мы имеем здесь перед собой Д – Д», деньги, которые производят большее количество денег, имеем самовозрастающую стоимость без процесса, опосредствующего два крайних пункта…
…Капитал есть отношение величин, отношение его как основной суммы, как данной стоимости к себе самой, как к самовозрастающей стоимости, как к такой основной сумме, которая произвела прибавочную стоимость…
…Как в случае с рабочей силой, потребительной стоимостью денег становится здесь способность создавать стоимость, большую стоимость, чем та, которая заключается в них самих… Создавать стоимость, приносить проценты является их свойством совершенно так же, как свойством грушевого дерева – приносить груши. Как такую приносящую проценты вещь, кредитор и продает свои деньги. Но этого мало. Как мы видели, даже действительно функционирующий капитал представляется таким образом, как будто он приносит процент не как функционирующий капитал, а как капитал сам по себе, как денежный капитал.
Переворачивается и следующее отношение: процент, являющийся не чем иным, как лишь частью прибыли, т.е. прибавочной стоимости, которую функционирующий капиталист выжимает из рабочего, представляется теперь, наоборот, как собственный продукт капитала, как нечто первоначальное, а прибыль, превратившаяся теперь в форму предпринимательского дохода, – просто как всего лишь добавок, придаток, присоединяющийся в процессе воспроизводства. Здесь фетишистская форма капитала и представление о капитале-фетише получают свое завершение. В Д – Д» мы имеем иррациональную форму капитала, высшую степень искажения и овеществления производственных отношений; форму капитала, приносящего проценты, простую форму капитала, в которой он является предпосылкой своего собственного процесса воспроизводства; перед нами способность денег, соответственно товара, увеличивать свою собственную стоимость независимо от воспроизводства, т.е. перед нами мистификация капитала в самой яркой форме….»89.
Вытирая пот после всей этой череды якобы логичных построений, К. Маркс явно удивился результатам своих трудов. Обосновывая якобы объективность существования процентов, он пришел к «иррациональной форме капитала», к «мистификации капитала в самой яркой форме». И все это только потому, что в псевдологичной цепочке рассуждений К. Маркса помимо «промышленного капитала», «торгового капитала», «купеческого капитала» появляется вроде бы как само собой разумеющееся «денежный капитал». А вот это уже за рамками всякого приличия и добросовестности. Нет такого капитала и быть не может. Деньги – это специфический товар, выполняющий ряд функций в сфере обращения, в частности, функции меры стоимости, средства платежа, сокровищ. Функцию «капитала» деньги не могут и не должны выполнять. Деньги не могут в принципе принимать участие в процессе производства, т.е. там, где создается стоимость. Деньги – это важный инструмент сферы обращения, обслуживающий товарооборот, обеспечивающий его бесперебойность, эквивалентность обмена. Деньги принадлежат только государству, должны обслуживать интересы только государства. Деньги – это монопольный инструмент государства. Только государство вправе эмитировать (выпускать в обращение) денежные знаки, какими бы они ни были (из драгоценных металлов, из меди, бумажные денежные знаки, денежные суррогаты и т.п.). Любое лицо вправе только хранить деньги в виде сокровищ или использовать деньги как средство платежа при расчетах. Никто не вправе создавать искусственный дефицит денег для того, чтобы потом продавать деньги как товар в виде ссуды, взимая за это вознаграждение в виде процента. Уж тем более никто кроме государства не имеет право создавать (эмитировать) деньги. Это прямое нарушение монопольных прав государства (право эмиссии денежных средств), вмешательство в организацию денежного обращения в стране, которое должно жестоким образом караться. Сущность денег – это предмет отдельного серьезного исследования. Постараемся уделить больше внимания этому вопросу позднее, в этой же главе, а сейчас продолжим обсуждение логики К. Маркса.
Кроме того, хотелось бы обратить внимание читателя еще на одну «нестыковку» в логических построениях К. Маркса. Речь идет о переходе «количественного» разделения валовой прибыли на процент и предпринимательский доход в «качественное». При этом К. Маркс приписывает эту метаморфозу фантазии предпринимателей-собственников средств производства, не пользующихся заемными средствами, которые по непонятным нам причинам разделяют валовой доход на эти две группы. Думается, если бы К. Маркс вместо выдумывания этого странного аргумента, интереса ради вышел бы на улицу и провел социологическое исследование среди встретившихся ему предпринимателей-собственников (не пользующихся заемными средствами), задав им простой вопрос: «На что распадается Ваш валовой доход?». Думается, он получил бы ответы типа «на средства на потребление и на накопление», «часть дохода тратится на водку, а другая – на колбасу», «доход тратится на подарки детям и подарки жене» и т. п. При этом ни один из них никогда бы ни сказал «на процент и на предпринимательский доход» (даже если бы лично знал К. Маркса и за хорошее вознаграждение готов был очень угодить ему своим ответом) просто потому, что они не пользуются заемными средствами и никому не должны платить никакие проценты. Таким образом, нет никаких оснований для «качественного разделения валовой прибыли на процент и предпринимательский доход», поскольку оно существовало только в фантазиях К. Маркса. Следовательно, нет никаких объективных обстоятельств для обоснования необходимости существования процента, поскольку в очередной раз грубо нарушена логика рассуждений в защиту этого тезиса.
Кроме того, непредвзятого читателя должно насторожить отсутствие стоимостного (трудового) источника этого якобы процента. Если даже величина процента будет определяться средней нормой прибыли, а также, если все предприниматели (включая сюда, вопреки здравому смыслу, также предпринимателей-собственников) мысленно делят валовой доход на якобы процент и предпринимательский доход, то в целом во всей экономике получится, что поскольку весь валовой доход равен средней норме прибыли, то предпринимательский доход равен нулю, а весь валовой доход в виде якобы процента получит ростовщик, предоставивший ссуды промышленным капиталистам, которые в свою очередь не получат никакой прибавочной стоимости. Это просто абсурд, нонсенс.
Представим себе еще одну гипотетическую ситуацию (описанную К. Марксом), когда весь капитал является только денежным капиталом и нет вообще промышленного капитала (зачем надрываться и тратить силы на организацию сложного производственного процесса, когда можно все свои производственные активы продать и полученную ликвидность в виде денежного капитала предлагать в качестве ссуды, не утруждая себя более вообще ни чем). Очевидно, что никакого валового дохода в обществе вообще не будет производиться (не будет прибавочной стоимости), а также не будет спроса на денежные средства (не будет искусственного дефицита денежных средств), в результате чего якобы процент будет равен нулю, то есть не будет процента. Денежный капитал – это абсурд. И наоборот, если есть только промышленный капитал и нет так называемого «денежного капитала», то прибавочная стоимость создается в максимально возможном объеме, полностью присваивается промышленными капиталистами, а процента тоже нет.
Как видно из представленного, для обоснования права на взимание якобы процента у К. Маркса нет никаких логичных теоретических оснований. Весь его могучий интеллект, эрудиция и талант (при всей ангажированности и искреннем желании обосновать это экономическое явление) не могут в итоге справиться с поставленной непосильной задачей. И разгадка этого казуса кроется в том, что «… если бы весь капитал находился в руках промышленных капиталистов, то не существовало бы ни процента, ни ставки процента..»90. Следовательно, процент появляется в экономической жизни только в связи с искусственным дефицитом денег (количество денег в обращении меньше, чем необходимо для выполнения функции меры стоимости и средства платежа). Государство, как эмитент денежных средств, должно было бы просто наполнить сферу обращения необходимым и достаточным для беспрепятственного товарооборота количеством денежных знаков. Вместо этого, государство через ключевую ставку Центрального банка, через коммерческую банковскую систему пытается само (наряду с ростовщиками) «подзаработать» на дефиците денег, уклоняясь от выполнения одной из своих основных обязанностей. Так что происхождение якобы процента – это искусственный результат действий группы высокопоставленных лиц, превративших государство в «собственную вотчину», а не объективный результат развития человечества. Устранить это уродливое явление (ростовщичество) так же не представляет большой проблемы для наделенных властью людей. Более того, искоренение ростовщичества – это одна из основных обязанностей государства.
Завершая этот важный раздел анализа, обратим внимание читателя еще на один аспект. По ходу построения логической цепочки обоснования якобы объективности взимания процента, К. Маркс как бы между прочим легко перескакивает по ходу анализа от содержания процесса к форме проявления, от стоимости к цене и обратно, «перемешивает» их, взаимно подменяет и «передергивает». В итоге таких манипуляций К. Маркс сообщает, что капитал сохраняет стоимость и создает дополнительную стоимость. Создание стоимости – свойство Труда, а не капитала. Постепенное сохранение стоимости в процессе Труда по мере их износа – свойство средств производства, а не капитала. Подобные «передергивания» недостойны столь выдающегося и талантливого экономиста, как К. Маркс.
Деньги в сфере обращения не могут «самовозрастать», «становиться больше собственной стоимости»: деньги могут только перераспределяться за счет неэквивалентности обмена, основой которой являются ростовщичество и спекуляция.
Если государство выпустило в обращение необходимое для беспрепятственного обращения товаров количество денег, то простое воспроизводство при сохранении эквивалентного обмена может осуществляться бесконечно долго. При этом деньги не «самовозрастают», не «становятся по стоимости больше первоначальной стоимости». Количество денег в обращении не может увеличиться, а может только сократиться в результате физического износа, ветхости банкнот, стирания в обращении металла, из которого изготавливаются монеты. Деньги в экономике подобны маслу в двигателе. Они необходимы для того, чтобы товары пришли в движение, чтобы совершался товарооборот, подобно тому как масло в двигателе необходимо для того, чтобы приводить в движение внутренние механизмы. Но при этом никому не приходит в голову, что двигатель – это механизм по изготовлению масла, его приумножению, что в результате работы двигателя масла становится все больше и больше и его надо время от времени отливать из двигателя. Наоборот, масло вытекает через негерметичные прокладки, выгорает и нормальные водители должны периодически доливать масло в двигатель для обеспечения его эффективной работы. При этом, если посчитать законным право некоторых водителей сливать масло из двигателей и использовать его для своих личных целей (например, перепродавать даром доставшееся им масло другим водителям), одновременно обязывая законом других водителей доливать масло в двигатели для их нормальной работы, то может создаться иллюзия, что двигатель действительно является источником масла (дополнительного обогащения) для «избранного круга» водителей (которым это почему-то разрешено на уровне законодательства). В быту это называется воровством, а в экономике аналогичное присвоение результатов чужого труда почему-то называется бизнесом, основанным на ростовщичестве.
Теперь мы немного отвлечемся от собственно производственной сферы и сферы обращения, обслуживающей реализацию товаров, созданных в производственной сфере, которые являются основным объектом анализа Русской политической экономии. Это – реальный сектор экономики. Для того, чтобы оценить масштаб ростовщичества, спекуляции, эксплуатации в современном обществе, выявить их новые формы и механизмы, потребуется совершить небольшую экскурсию в фиктивный сектор экономики, то есть в сферу банковской, биржевой, финансовой деятельности. Иначе говоря, нам нужно посетить «святая святых» Английской политической экономии для того, чтобы в очередной раз убедиться в том, что Эксплуататорская Экономика и Свободная Экономика – это полные антиподы.
Для этого нужно, прежде всего, попытаться определить, что такое деньги, какие виды денег существуют, кто генерирует, создает деньги, какую роль деньги выполняют в экономике? В поиске ответов на эти вопросы нам поможет Уле Бьерг, опубликовавший в 2014 году любопытную книгу «Making money. The Philosophy of Crisis Capitalism», которая вышла в 2018 году в русском переводе по названием «Как делаются деньги? Философия посткредитного капитализма»91. Доверяя опыту автора, попробуем воспользоваться его терминологией при описании фиктивного сектора экономики. При этом не вызывает возражений сам процесс «хирургического вскрытия пациента под наркозом», который достаточно умело, с некоторой игрой в детективную историю с неясной до конца книги развязкой интриги осуществляет указанный автор. При этом в качестве «пациента» понимается именно фиктивный сектор экономики. На базе этого «хирургического вскрытия» попытаемся сделать собственные выводы и обобщения. Всем, кого заинтересует более детальный анализ этой сферы, потребуется более внимательное знакомство с этим произведением.
Итак, что такое деньги? У. Бьерг, подобно другим авторам, которые пытались всерьез подступиться к ответу на этот, казалось бы, простой вопрос, дает довольно распространенный ответ: « … сущность денег по большей части берется как данность»92. При этом он вполне обоснованно критикует попытки определения сущности денег через описание их функций: «изначальный вопрос о том, что есть деньги, дается через описание того, что деньги делают, в списке перечисляются функции, выполняемые деньгами»93. Строго говоря, вся книга У. Бьерга и есть развернутый ответ на один вопрос.
Главная часть анализа в этой книге – это ответ на вопрос, как делаются деньги. Один очевидный аспект процесса делания денег конкретным индивидом, как участником рынка, в виде получения в свою пользу части имеющихся в обращении денег (в любом виде, наличном, безналичном и пр.) оставим в стороне. Это в определенной мере мы уже рассматривали при анализе реального сектора экономики в части взаимоотношений Работодателей и Наемных работников (Работодатели якобы «делают деньги» в виде прибавочной стоимости, а наемные работники – в форме заработной платы).
Очень интересно раскрыт процесс делания денег собственно в фиктивном секторе экономики, а именно в банковской, финансовой, биржевой сферах. Речь идет о создании дополнительных денежных объемов. Для анализа этой технологии делания денег выделяется два вида денег: фидуциарные деньги (купюры, монеты и прочие деньги, генерируемые государством), а также кредитные деньги (незначительную часть которых создает государство, но основную часть – коммерческие банки, биржи, финансовые структуры).
Большинство населения мира, не посвященное в детали банковского и биржевого дела, полагает, что фиктивный сектор экономики просто отвлекает из реального сектора экономики часть оборотных средств, то есть часть фидуциарных денег. На начальной стадии взаимоотношений этих двух секторов экономики в период зарождения банков, бирж так оно и было. Но жажда наживы, порождаемая легкостью баснословного обогащения за короткий срок с помощью банков и бирж, привела к таким изощренным формам их деятельности, которые сначала позволили коммерческим структурам заниматься генерацией новых денег наряду с государством, а потом и занять в этом вопросе лидирующее положение, отодвинув государство на второстепенные роли. В современных условиях размер кредитных денег, которые генерируются (выпускаются) коммерческими банками, биржами, в разы превышает размер фидуциарных денег, находящихся под контролем государства. При этом кредитные деньги растут в геометрической прогрессии, то есть разрыв между количеством кредитных денег и фидуциарных денег быстро увеличивается.
Кредитные деньги – это не только и не столько деньги, предоставленные в кредит в сумме, эквивалентной депозитам банков. Это только мизерная часть кредитных денег. Основная масса кредитных денег практически не привязана ни к золотому эквиваленту, ни к депозитам, ни к товарной массе, ни к созданной стоимости. Это искусственно созданные коммерческими структурами дополнительные, практически ничем не обеспеченные кредитные деньги, легитимность которых косвенно психологически подтверждается наличными банкнотами, а также тем, что в кризисных ситуациях государство фактически подтверждает то, что эти кредитные деньги равноправны с прочими деньгами, предоставляя банкам ликвидность для продолжения их полноценной деятельности. К таким кредитным деньгам можно отнести, например, деривативы, некоторые виды межбанковских кредитов, «плечо» в сделках на биржах. Эти кредитные деньги полностью оторваны от стоимостной, материальной основы. Вот это действительно виртуальные деньги виртуального сектора экономики. Поэтому их рост ничем не ограничен, кроме фантазии участников виртуального рынка. Проблема только в том, что при сравнении количества денег, необходимых для обслуживания обмена товаров, и фактического количества денег, находящихся в обращении, учитываются не только фидуциарные деньги, а все деньги, включая кредитные деньги. Очевидно, что в условиях неограниченного роста кредитных денег государство фактически утрачивает возможность обуздания инфляции, то есть процесса снижения покупательной способности денег. Более того, для того, чтобы спекулянты и ростовщики могли и дальше генерировать собственные (неподконтрольные государству) кредитные деньги, экономисты-теоретики по их заказу навязывают мировому сообществу мнение о том, что только инфляция благотворно влияет на развитие экономики, а дефляция (снижение цен) якобы разрушает экономику, приводит к застою. О роли инфляции и дефляции в развитии экономики более подробно поговорим позднее, а пока вернемся к кредитным деньгам.
У. Бьерг приводит данные о соотношении банкнот и монет, с одной стороны, и кредитных денег коммерческих банков, с другой стороны. «В экономике Дании соотношение между двумя видами денег таково: 4% наличных, выпущенных государством, против 96% электронных коммерческих денег в частных банках. … в Соединенном Королевстве сопоставимое отношение – 3% против 97, в еврозоне – 10% против 90, и в США – 12% против 88»94.
Этот «пузырь» искусственно создаваемых коммерческими банками и биржами кредитных (практически ничем не обеспеченных) денег и есть плод безграничной спекуляции и ростовщичества. Кредитные деньги – это новый механизм эксплуатации. «Определяющая черта капитализма – это логика финансов, которая позволяет одному классу доминировать за счет того, что мы можем называть денежной эксплуатацией»95. При этом У. Бьерг под новыми классами понимает «класс должников» (эксплуатируемые) и «класс кредиторов» (эксплуататоры). В таком социальном делении в разряд эксплуатируемых попадают не только Наемные работники, но и Работодатели из реального сектора экономики, использующие кредитные деньги. Этот процесс развития и совершенствования многообразия форм эксплуатации не обошел стороной и Россию. Печально то, что доминирование кредитных денег неизбежно приводит к тому, что государство, в обязанности которого входит монопольное регулирование финансового сектора экономики, в частности, эмиссия денег, отодвигается на второй план. Полноправными хозяевами всех финансов, включая эмиссию основной массы денег (кредитных денег), становятся коммерческие частные структуры (олигархи), а государству в этом случае отводится только роль их помощника, который в нужный момент должен подтвердить легитимность этих кредитных денег. В таких условиях нет ничего удивительного в том, что так странно себя ведет Центральный Банк, который не обращает внимания на стабильность национальной валюты (рубля), что является его первоочередной задачей по его учредительным документам, а концентрируется на «таргетировании инфляции».

