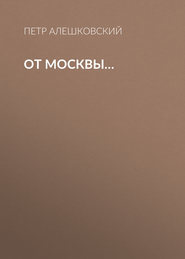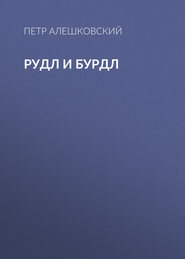По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Арлекин
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Васька пытался отнекиваться, объяснял, что ему надо в академию, что он приезжий, что его ждут на дворе у Головкиных, но вырваться из рук вцепившегося в него Степана было невозможно, да он, окрыленный первым московским успехом, честно говоря, не очень-то и хотел отбиваться.
2
Очнулся он в конюшенном сарае на соломе. Рядом храпел незнакомый нищий старик; Степана же след простыл. Исчез не только выигранный двугривенный, но и полтина денег, данная на прощание Ильинским. Васька долго шарил вокруг себя, искал картуз, но не было и его.
– Письма!
Он с содроганием залез за пазуху, но сверток, сильно мятый, отыскался почти у самой спины. То ли его побоялись стащить, то ли он был не нужен вчерашним собутыльникам. Голова гудела, руки не слушались, лишь машинально разглаживали на колене мятый пакет: в нем заключалась вся его надежда.
– Господи! – испуганно выговорил Васька. – Как же в таком виде в академию идти?
– А, проснулся, – сказал, приоткрывая один глаз, сам только что очнувшийся ото сна старик. – Это я тебя сюда вчера заволок. Гляжу, спишь в кустах, дай, думаю, затащу под кровлю, не ровен час, ограбят.
– Да и ограбили всего, – пожаловался, чуть не плача, Васька.
– Ну, ничего, цел сам, и ладно, – наставительно произнес нищий. – Откуда в Москву пришел?
– Из Астрахани.
– Уй ты, – удивился собеседник, – своих где потерял?
Ваське неохота было откровенничать, и он ответил кратко:
– Один я.
– Ага, – смекнул старик. – Богомольствуешь или так, Христа ради?
– Да нет, в академию Спасскую приехал учиться, и вот…
– Значит, так, Христа ради, знаем вашего брата, – непонятно провозгласил нищий, развязал торбу, вынул оттуда яичко и подал Ваське. – На вот, подкрепись, школяр, да пойдем. Я со здешними конюхами хоть и знаком, да лишний раз нечего глаза мозолить. Пойдем, проведу тебя к академии, а там уж действуй по разумению. Москвы небось не знаешь еще?
– Теперь знаю, – хмуро ответил Васька, жуя всухомятку вареное яйцо.
– И-хи-хи, – зашелся нищий. – Ну, с приездом тебя, сынок, с московским крещением.
И он замотал головой, давясь от смеха.
3
Из письма Феофана Прокоповича своим бывшим коллегам в Киево-Могилянскую академию, писанного из Москвы. После 1716 года (перевод с латыни)
«…Вы очень хорошо знаете, разве кто нарочно закроет глаза, чтобы не видать истины, как мы честно и радушно обращались с Гедеоном Вишневским, когда он был профессором в нашей коллегии, несмотря на то, что он с гордостию отказался от назначенной ему кафедры поэзии и занял риторический класс, отнявши эту кафедру у назначенного на нее Иосифа Волчанского. Блаженной памяти архипастырь снисходительно посмотрел на это; по любви к миру уступили и мы этой наглости. Не неизвестно вам и то, с какою дерзостию он в наших собраниях поносил ругательствами достопочтенного отца Сильвестра, префекта коллегии, и тщеславился своим, недавно полученным, иезуитским докторским беретом, то есть ослиным украшением, и как часто мы с кроткой душой снисходили к этой его надменности. Известно всем и то, как он выбыл из нашей корпорации, когда черниговский полковник, имея преувеличенное понятие о его учености, проламывал, как говорится, камни, чтобы добыть его в учителя риторики своему сыну; с своей стороны, и Вишневский с равным усилием стремился к предлагаемой ему должности. Знаете также, с каким сумасбродством причину выбытия своего в провинцию сложил он на нас, как будто мы выжили его, да и после того под рукою распускал об нас разныя вести. Это видел всякий, кто только нарочно не закрывал глаза».
4
Занятия должны были начаться через неделю, а пока немногие обитатели Славяно-латинской академии готовили классы, перетрясали белье, кололи дрова, складывая их высоченными аккуратными горками, и собирались совместно только за трапезой да на ежевечерней молитве. В те дни у Тредиаковского оставалось много свободного времени. Он старался не попадаться на глаза отцу келарю, которому был отдан в подмогу, а тот, назначив урок, забывал о его существовании до следующего утра. Васька подметал двор: старался делать это тщательно, как приучила к работе мать, – проходился голиком по каждому булыжнику, собирал опавшие листья в большую корзину и нес их на зады, к ограде, в глубокую яму. Попадавшиеся желуди он пересчитывал, как четки, а затем кидал в ту же яму, и они в ней терялись, засыпались новой корзиной мусора.
Место для ночлега ему указали в холодном вытянутом зале, где залетевший с улицы свет собирался посередине, а углы даже днем терялись в черноте. Зал перегородили брошенные козлы. Топчаны стояли прислоненные к стенам или валялись, сползшие с них, на полу поблизости: видно, как их оставили с начала вакаций, так к ним и не прикасались. Убирать зал распоряжения не поступало, и он только проделал себе дорожку к оконцу, около которого и спал один в большой мрачной спальне. Вечерами Васька слушал шорохи своей темницы, скрип рассыхающегося дерева и крестил темноту.
Все время он старался думать о будущем – то, что мерещилось раньше, теперь стало близко, почти осязаемо, но в голову лезли воспоминания, вернее даже какие-то отрывочные, не связанные воедино мелочи. Он был один, а одиночество и пустота настраивали, нашептывали, пугали, будили память. Назойливые мысли не оставляли его и днем, нес ли он корзину с мусором на свалку или, прогуливаясь по узеньким дорожкам сада, здоровался с незнакомыми встречными монахами. Постоянно размышлял он о своем, и никто, никто не был ему нужен тогда. С ним не заговаривали, а он с расспросами не лез, считая неудобным первым заводить беседу, сам тщился разгадать непонятную ему пока тайну академии. Он еще и дичился, а потому больше глазел, подмечал здешний быт, считал ступени на длиннющей церковной лестнице, как желуди-четки, не зная, когда и зачем сможет это ему пригодиться.
С того первого дня он видел ректора лишь раз, столкнулся с ним у ворот – архимандрит спешил к карете и Василия попросту не заметил. Он мало появлялся на людях, к общему столу не выходил, молился в своей молельне – все дела лежали на плечах префекта. Зато тот успевал повсюду, все видел, все знал, во все вникал, распоряжался, грозил, приказывал, помогал советом. Ваську он полюбил с первого дня и всегда встречал и провожал теплой улыбкой, и была она, эта улыбка, дороже многих слов. Но даже с ним не решался заговорить новоявленный школяр, да и о чем? Как? Что бы он мог спросить? Сперва это предстояло хорошенько понять самому.
Все сложилось хорошо, неожиданно хорошо. Распростившись с нищим, Тредиаковский решительно вступил на двор академии, и монах-привратник отвел его в покои префекта отца Илиодора Грембицкого.
– Как там наш Иван, не забросил ли свои вирши? – поинтересовался префект, проглядывая рекомендательное письмо. По всему было заметно, что Ильинского он помнил и любил. Расспрашивать принялся с живым любопытством, как о близком, но давно не виденном человеке, и с удовольствием выслушал об Ивановом житье-бытье, даже припомнил к слову потешный стишок, сочиненный Ильинским еще в академии. Префект скоро расположил Василия к себе, и тот не заметил, как выложил ему все про петушиный бой, про гулянку в роскате и про полтину, но отец Илиодор не ругал, а лишь слегка пожурил.
Василий совсем оттаял и пустился в воспоминания об Астрахани, и монах, вызнав, что было ему нужно, перевел разговор на любимые книги. Узнав, что юноша знаком с Вергилием, снял с полки томик, предложил прочитать. Василий читал по-латыни, а отец Илиодор пояснял, дополняя смысл греческими цитатами из «Одиссеи», и иногда просил Тредиаковского перевести – проверял его знания; когда же Василию случалось сбиваться, префект поправлял, но мягко, выдавая экзамен за обычную приятную беседу. Скоро Васька распалился и читал в полный уже голос, выразительно, с придыханием, как это делал астраханский патер Антоний.
Откинувшись в кресле, префект долго слушал, не прерывая, а затем, словно вмиг очнулся, спросил:
– Так говоришь, пел в хоре? Это хорошо, ничто так не развивает слух. Стихи, вижу, ты любишь и можешь читать, но эти вздохи… Лишнее, лишнее.
Затем последовал опрос по катехизису, и здесь префект был жесток, вопросы зачитывал особо сложные, но Васька знал катехизис назубок и подтверждал ответы пространными цитатами из Писания и Апостола. Отличная память, школа отца Иосифа, да и отцовские наставления очень теперь пригодились.
Так прошло часа три или больше того – экзамен прервал колокол, сзывающий к трапезе. Они спустились в большую столовенную палату, и Василия усадили с краю, а после еды молодой монашек, велев следовать за ним, повел его куда-то коридорами и переходами. Перед тяжелой кованой дверью они остановились. Провожатый открыл ее и, пропуская Тредиаковского вперед, учтиво поклонился и затворил ее за ним с наружной стороны.
Префект был тут же, но он только передал прошение Ильинского и отошел в глубину, к окошку, оставив их один на один. По почету и богатому убранству покоев Васька догадался, к кому попал.
Ректор академии архимандрит Гедеон Вишневский был уже в летах. Его тяжелое, грузное тело прочно покоилось в глубоком жестком кресле рядом со столом, заваленным бумагами и книгами. Тяжелые и властные, под стать всей фигуре, жгучие черные глаза пристально изучали юношу. Наконец он кивнул на табурет и, повертев в руках письмо, бросил его на стол, не разворачивая. Еще с минуту отец Гедеон хранил молчание, выжидая, и затем заговорил тихо и размеренно – архимандрит страдал одышкой.
Он поинтересовался житьем у Кантемиров и сокрушенно качал головой, слушая о последних днях старого князя. В Москве мало еще знали о его кончине – Василию предстояло разнести траурные известия.
Всем своим обликом ректор академии вызвал сперва в Ваське глубокое почтение, и он старался отвечать вдумчиво, боясь потревожить и оскорбить ненужным словом святость его сана. Каково же было ему слушать, как ректор, без видимого стеснения, со стариковским любопытством принялся вдруг выспрашивать и даже уточнять течение болезни и способы лечения, опробованные лекарями на князе Кантемире. Особенно заинтересовали его описания внутренних болей, претерпеваемых в последние дни умирающим. Такая мирская дотошность, отсутствие всяческого смирения покоробили Ваську, огорчили и оскорбили излишней любознательностью – почему-то главный пастырь академии в мыслях рисовался ему иным, сродни был первому величавому и пугающему впечатлению. Ему не пришло на ум, что в описываемых страданиях старик распознал мучающий его недуг. Но архимандрит словно не замечал робости сидевшего перед ним и так же неотрывно и внимательно сверлил его взглядом своих властных, жгучих глаз, привыкших наводить смятение на подчиненных. Васька вконец опешил и замолчал.
– Хорошо. Ты, кажется, родом из Астрахани? Расскажи-ка нам поподробней о тамошних латинских школах, мне доводилось о них слышать, – подбодрил он юношу.
Ректор и тут проявил дотошность, вызнавал, что и когда учили, по каким книгам, выведывал об армянах и индусах, ее посещающих. Про русских же пытал особо и, когда Василий слишком почтительно помянул Марка Антония, вкрадчиво спросил:
– А ты не обливанец ли, случаем?
Тредиаковский широко перекрестился и поспешил привести слова из апостольского Послания – хотел защититься и заодно блеснуть знанием Писания:
– Сказано же у Павла: «Для меня мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь».
– Что же, у тебя хорошая молодая память, это похвально, но не спеши оправдываться словами Писания, ибо оно, как говорил блаженной памяти Стефан Яворский, есть яко меч обоюдоостр, его же может кто употребити и на доброе и на злое, – спокойно сразил Василия ответной цитатой отец Гедеон. – Ты еще юн, а посему тороплив, – добавил он и погрузился в молчание.
Перепуганный Васька бросился рассказывать про отца, а после даже сослался на своего духовника, сказал, что они не возбраняли, а, наоборот, поощряли его учение у капуцина. И даже сам генерал-губернатор Артемий Петрович Волынский – ведь это он открыл в Астрахани школу. Тут неизвестно зачем, для пущей важности он приплел, будто Артемий Петрович не раз выделял его на смотрах, поощрял дальнейшие занятия, и в довершение поведал ректору и префекту о высочайшем визите, не забыв, конечно, помянуть о наказе, данном ему Великим Петром.
Но упоминание грозного имени никакого эффекта не произвело. Наоборот, Гедеон Вишневский, кажется, только больше посуровел.
– Страшно, страшно попасться в тенета лжеучителей, – непонятно, но гневно начал он. – Слова, что проповедуют скрытые еретики, мечтающие онемечить нашу Русскую землю, пагубны, ибо столь сладки для молодых ушей. Тот же Волынский, как нам известно, притесняя Православную Церковь, много сотворил зла истинным христианам, и, как бы не заступничество Прокоповича, дружественного ему архипастыря, воздано бы было астраханскому управителю за содеянное им. Не юным умом судить о сих сложных делах и пустословия ради ссылаться на волю царя и его губернатора. Что ж Волынский, часто ли ты имел с ним беседы?
– Никогда, ему ли опускаться до бесед с простым школяром, – честно признался Василий.
– Ну-ну, – кивнул ректор. – Я славлю Творца, вовремя приведшего тебя к нам, направившего твои стопы по дороге праведной.
Тредиаковский уловил открытую неприязнь, прозвучавшую при упоминании имен Волынского и Прокоповича, и мысленно бранил себя за бахвальство. Он растерянно молчал, не понимая, чем вызван неожиданный гнев архимандрита. Тот же, поборов одышку и справившись с собой, продолжал вещать важно и спокойно.
2
Очнулся он в конюшенном сарае на соломе. Рядом храпел незнакомый нищий старик; Степана же след простыл. Исчез не только выигранный двугривенный, но и полтина денег, данная на прощание Ильинским. Васька долго шарил вокруг себя, искал картуз, но не было и его.
– Письма!
Он с содроганием залез за пазуху, но сверток, сильно мятый, отыскался почти у самой спины. То ли его побоялись стащить, то ли он был не нужен вчерашним собутыльникам. Голова гудела, руки не слушались, лишь машинально разглаживали на колене мятый пакет: в нем заключалась вся его надежда.
– Господи! – испуганно выговорил Васька. – Как же в таком виде в академию идти?
– А, проснулся, – сказал, приоткрывая один глаз, сам только что очнувшийся ото сна старик. – Это я тебя сюда вчера заволок. Гляжу, спишь в кустах, дай, думаю, затащу под кровлю, не ровен час, ограбят.
– Да и ограбили всего, – пожаловался, чуть не плача, Васька.
– Ну, ничего, цел сам, и ладно, – наставительно произнес нищий. – Откуда в Москву пришел?
– Из Астрахани.
– Уй ты, – удивился собеседник, – своих где потерял?
Ваське неохота было откровенничать, и он ответил кратко:
– Один я.
– Ага, – смекнул старик. – Богомольствуешь или так, Христа ради?
– Да нет, в академию Спасскую приехал учиться, и вот…
– Значит, так, Христа ради, знаем вашего брата, – непонятно провозгласил нищий, развязал торбу, вынул оттуда яичко и подал Ваське. – На вот, подкрепись, школяр, да пойдем. Я со здешними конюхами хоть и знаком, да лишний раз нечего глаза мозолить. Пойдем, проведу тебя к академии, а там уж действуй по разумению. Москвы небось не знаешь еще?
– Теперь знаю, – хмуро ответил Васька, жуя всухомятку вареное яйцо.
– И-хи-хи, – зашелся нищий. – Ну, с приездом тебя, сынок, с московским крещением.
И он замотал головой, давясь от смеха.
3
Из письма Феофана Прокоповича своим бывшим коллегам в Киево-Могилянскую академию, писанного из Москвы. После 1716 года (перевод с латыни)
«…Вы очень хорошо знаете, разве кто нарочно закроет глаза, чтобы не видать истины, как мы честно и радушно обращались с Гедеоном Вишневским, когда он был профессором в нашей коллегии, несмотря на то, что он с гордостию отказался от назначенной ему кафедры поэзии и занял риторический класс, отнявши эту кафедру у назначенного на нее Иосифа Волчанского. Блаженной памяти архипастырь снисходительно посмотрел на это; по любви к миру уступили и мы этой наглости. Не неизвестно вам и то, с какою дерзостию он в наших собраниях поносил ругательствами достопочтенного отца Сильвестра, префекта коллегии, и тщеславился своим, недавно полученным, иезуитским докторским беретом, то есть ослиным украшением, и как часто мы с кроткой душой снисходили к этой его надменности. Известно всем и то, как он выбыл из нашей корпорации, когда черниговский полковник, имея преувеличенное понятие о его учености, проламывал, как говорится, камни, чтобы добыть его в учителя риторики своему сыну; с своей стороны, и Вишневский с равным усилием стремился к предлагаемой ему должности. Знаете также, с каким сумасбродством причину выбытия своего в провинцию сложил он на нас, как будто мы выжили его, да и после того под рукою распускал об нас разныя вести. Это видел всякий, кто только нарочно не закрывал глаза».
4
Занятия должны были начаться через неделю, а пока немногие обитатели Славяно-латинской академии готовили классы, перетрясали белье, кололи дрова, складывая их высоченными аккуратными горками, и собирались совместно только за трапезой да на ежевечерней молитве. В те дни у Тредиаковского оставалось много свободного времени. Он старался не попадаться на глаза отцу келарю, которому был отдан в подмогу, а тот, назначив урок, забывал о его существовании до следующего утра. Васька подметал двор: старался делать это тщательно, как приучила к работе мать, – проходился голиком по каждому булыжнику, собирал опавшие листья в большую корзину и нес их на зады, к ограде, в глубокую яму. Попадавшиеся желуди он пересчитывал, как четки, а затем кидал в ту же яму, и они в ней терялись, засыпались новой корзиной мусора.
Место для ночлега ему указали в холодном вытянутом зале, где залетевший с улицы свет собирался посередине, а углы даже днем терялись в черноте. Зал перегородили брошенные козлы. Топчаны стояли прислоненные к стенам или валялись, сползшие с них, на полу поблизости: видно, как их оставили с начала вакаций, так к ним и не прикасались. Убирать зал распоряжения не поступало, и он только проделал себе дорожку к оконцу, около которого и спал один в большой мрачной спальне. Вечерами Васька слушал шорохи своей темницы, скрип рассыхающегося дерева и крестил темноту.
Все время он старался думать о будущем – то, что мерещилось раньше, теперь стало близко, почти осязаемо, но в голову лезли воспоминания, вернее даже какие-то отрывочные, не связанные воедино мелочи. Он был один, а одиночество и пустота настраивали, нашептывали, пугали, будили память. Назойливые мысли не оставляли его и днем, нес ли он корзину с мусором на свалку или, прогуливаясь по узеньким дорожкам сада, здоровался с незнакомыми встречными монахами. Постоянно размышлял он о своем, и никто, никто не был ему нужен тогда. С ним не заговаривали, а он с расспросами не лез, считая неудобным первым заводить беседу, сам тщился разгадать непонятную ему пока тайну академии. Он еще и дичился, а потому больше глазел, подмечал здешний быт, считал ступени на длиннющей церковной лестнице, как желуди-четки, не зная, когда и зачем сможет это ему пригодиться.
С того первого дня он видел ректора лишь раз, столкнулся с ним у ворот – архимандрит спешил к карете и Василия попросту не заметил. Он мало появлялся на людях, к общему столу не выходил, молился в своей молельне – все дела лежали на плечах префекта. Зато тот успевал повсюду, все видел, все знал, во все вникал, распоряжался, грозил, приказывал, помогал советом. Ваську он полюбил с первого дня и всегда встречал и провожал теплой улыбкой, и была она, эта улыбка, дороже многих слов. Но даже с ним не решался заговорить новоявленный школяр, да и о чем? Как? Что бы он мог спросить? Сперва это предстояло хорошенько понять самому.
Все сложилось хорошо, неожиданно хорошо. Распростившись с нищим, Тредиаковский решительно вступил на двор академии, и монах-привратник отвел его в покои префекта отца Илиодора Грембицкого.
– Как там наш Иван, не забросил ли свои вирши? – поинтересовался префект, проглядывая рекомендательное письмо. По всему было заметно, что Ильинского он помнил и любил. Расспрашивать принялся с живым любопытством, как о близком, но давно не виденном человеке, и с удовольствием выслушал об Ивановом житье-бытье, даже припомнил к слову потешный стишок, сочиненный Ильинским еще в академии. Префект скоро расположил Василия к себе, и тот не заметил, как выложил ему все про петушиный бой, про гулянку в роскате и про полтину, но отец Илиодор не ругал, а лишь слегка пожурил.
Василий совсем оттаял и пустился в воспоминания об Астрахани, и монах, вызнав, что было ему нужно, перевел разговор на любимые книги. Узнав, что юноша знаком с Вергилием, снял с полки томик, предложил прочитать. Василий читал по-латыни, а отец Илиодор пояснял, дополняя смысл греческими цитатами из «Одиссеи», и иногда просил Тредиаковского перевести – проверял его знания; когда же Василию случалось сбиваться, префект поправлял, но мягко, выдавая экзамен за обычную приятную беседу. Скоро Васька распалился и читал в полный уже голос, выразительно, с придыханием, как это делал астраханский патер Антоний.
Откинувшись в кресле, префект долго слушал, не прерывая, а затем, словно вмиг очнулся, спросил:
– Так говоришь, пел в хоре? Это хорошо, ничто так не развивает слух. Стихи, вижу, ты любишь и можешь читать, но эти вздохи… Лишнее, лишнее.
Затем последовал опрос по катехизису, и здесь префект был жесток, вопросы зачитывал особо сложные, но Васька знал катехизис назубок и подтверждал ответы пространными цитатами из Писания и Апостола. Отличная память, школа отца Иосифа, да и отцовские наставления очень теперь пригодились.
Так прошло часа три или больше того – экзамен прервал колокол, сзывающий к трапезе. Они спустились в большую столовенную палату, и Василия усадили с краю, а после еды молодой монашек, велев следовать за ним, повел его куда-то коридорами и переходами. Перед тяжелой кованой дверью они остановились. Провожатый открыл ее и, пропуская Тредиаковского вперед, учтиво поклонился и затворил ее за ним с наружной стороны.
Префект был тут же, но он только передал прошение Ильинского и отошел в глубину, к окошку, оставив их один на один. По почету и богатому убранству покоев Васька догадался, к кому попал.
Ректор академии архимандрит Гедеон Вишневский был уже в летах. Его тяжелое, грузное тело прочно покоилось в глубоком жестком кресле рядом со столом, заваленным бумагами и книгами. Тяжелые и властные, под стать всей фигуре, жгучие черные глаза пристально изучали юношу. Наконец он кивнул на табурет и, повертев в руках письмо, бросил его на стол, не разворачивая. Еще с минуту отец Гедеон хранил молчание, выжидая, и затем заговорил тихо и размеренно – архимандрит страдал одышкой.
Он поинтересовался житьем у Кантемиров и сокрушенно качал головой, слушая о последних днях старого князя. В Москве мало еще знали о его кончине – Василию предстояло разнести траурные известия.
Всем своим обликом ректор академии вызвал сперва в Ваське глубокое почтение, и он старался отвечать вдумчиво, боясь потревожить и оскорбить ненужным словом святость его сана. Каково же было ему слушать, как ректор, без видимого стеснения, со стариковским любопытством принялся вдруг выспрашивать и даже уточнять течение болезни и способы лечения, опробованные лекарями на князе Кантемире. Особенно заинтересовали его описания внутренних болей, претерпеваемых в последние дни умирающим. Такая мирская дотошность, отсутствие всяческого смирения покоробили Ваську, огорчили и оскорбили излишней любознательностью – почему-то главный пастырь академии в мыслях рисовался ему иным, сродни был первому величавому и пугающему впечатлению. Ему не пришло на ум, что в описываемых страданиях старик распознал мучающий его недуг. Но архимандрит словно не замечал робости сидевшего перед ним и так же неотрывно и внимательно сверлил его взглядом своих властных, жгучих глаз, привыкших наводить смятение на подчиненных. Васька вконец опешил и замолчал.
– Хорошо. Ты, кажется, родом из Астрахани? Расскажи-ка нам поподробней о тамошних латинских школах, мне доводилось о них слышать, – подбодрил он юношу.
Ректор и тут проявил дотошность, вызнавал, что и когда учили, по каким книгам, выведывал об армянах и индусах, ее посещающих. Про русских же пытал особо и, когда Василий слишком почтительно помянул Марка Антония, вкрадчиво спросил:
– А ты не обливанец ли, случаем?
Тредиаковский широко перекрестился и поспешил привести слова из апостольского Послания – хотел защититься и заодно блеснуть знанием Писания:
– Сказано же у Павла: «Для меня мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь».
– Что же, у тебя хорошая молодая память, это похвально, но не спеши оправдываться словами Писания, ибо оно, как говорил блаженной памяти Стефан Яворский, есть яко меч обоюдоостр, его же может кто употребити и на доброе и на злое, – спокойно сразил Василия ответной цитатой отец Гедеон. – Ты еще юн, а посему тороплив, – добавил он и погрузился в молчание.
Перепуганный Васька бросился рассказывать про отца, а после даже сослался на своего духовника, сказал, что они не возбраняли, а, наоборот, поощряли его учение у капуцина. И даже сам генерал-губернатор Артемий Петрович Волынский – ведь это он открыл в Астрахани школу. Тут неизвестно зачем, для пущей важности он приплел, будто Артемий Петрович не раз выделял его на смотрах, поощрял дальнейшие занятия, и в довершение поведал ректору и префекту о высочайшем визите, не забыв, конечно, помянуть о наказе, данном ему Великим Петром.
Но упоминание грозного имени никакого эффекта не произвело. Наоборот, Гедеон Вишневский, кажется, только больше посуровел.
– Страшно, страшно попасться в тенета лжеучителей, – непонятно, но гневно начал он. – Слова, что проповедуют скрытые еретики, мечтающие онемечить нашу Русскую землю, пагубны, ибо столь сладки для молодых ушей. Тот же Волынский, как нам известно, притесняя Православную Церковь, много сотворил зла истинным христианам, и, как бы не заступничество Прокоповича, дружественного ему архипастыря, воздано бы было астраханскому управителю за содеянное им. Не юным умом судить о сих сложных делах и пустословия ради ссылаться на волю царя и его губернатора. Что ж Волынский, часто ли ты имел с ним беседы?
– Никогда, ему ли опускаться до бесед с простым школяром, – честно признался Василий.
– Ну-ну, – кивнул ректор. – Я славлю Творца, вовремя приведшего тебя к нам, направившего твои стопы по дороге праведной.
Тредиаковский уловил открытую неприязнь, прозвучавшую при упоминании имен Волынского и Прокоповича, и мысленно бранил себя за бахвальство. Он растерянно молчал, не понимая, чем вызван неожиданный гнев архимандрита. Тот же, поборов одышку и справившись с собой, продолжал вещать важно и спокойно.