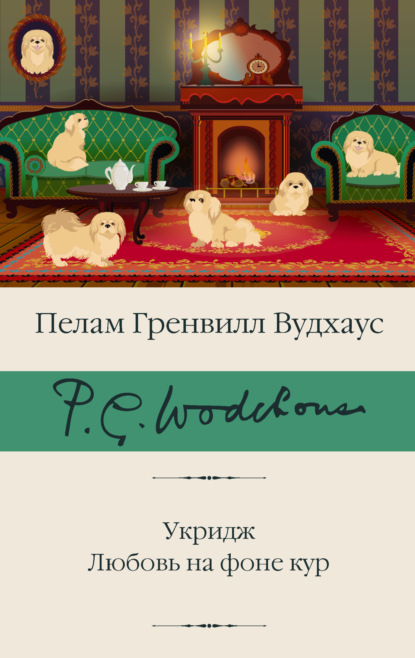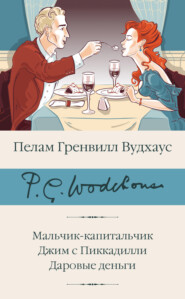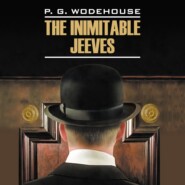По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Укридж. Любовь на фоне кур
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И Господь с тобой, – добавил я твердо.
«Шордич эмпайр» славится большим залом, но, когда я в субботу вечером добрался туда, он был набит битком по самые двери. Полагаю, и при обычных обстоятельствах зрителей там по субботам собирается достаточно, но на этот раз такая приманка, как личное выступление Тода Бингема, обеспечила сверханшлаг. В обмен на мой шиллинг я получил привилегию занять позицию у дальней стены, откуда мне было мало что видно.
Однако взгляд на сцену между на мгновение раздвинувшимися головами и общее беспокойное нетерпение зрителей подсказали мне, что ничего сколько-нибудь интересного я не упускаю. Программа «Шордич эмпайр» на этой неделе, по сути, сводилась к одному номеру. Зрители, казалось, стиснув зубы, терпели предварительные выступления как неизбежные препятствия между ними и гвоздем программы. Они пришли посмотреть Тода Бингема и не были снисходительны к злополучным клоунам, велосипедистам, жонглерам, акробатам и исполнителям баллад, которых навязывали им в первой половине вечера. И радостные вопли, раздавшиеся, когда занавес опустился на драматической сценке, вырвались из самой глубины сердец, так как следующим номером было выступление звезды.
Дородный мужчина во фраке с красным носовым платком в грудном кармашке, исполненный посольского достоинства, вышел из-за кулис.
– Леди и джентльмены!
– У-ух! – вскричали зрители.
– Леди и джентльмены!
Одинокий голос: Ура старине Тоду! (Заткнись!)
– Леди и джентльмены, – сказал посол в третий раз. И с опаской оглядел зал. – С великим сожалением должен объявить о глубочайшем разочаровании для нас всех. К несчастью, Тод Бингем сегодня не сможет выступить перед вами.
Вой, подобный вою волков, лишившихся добычи, или заполнивших амфитеатр римских граждан после сообщения, что запас львов иссяк, приветствовал эти слова. Мы уставились друг на друга в жесточайшем недоумении. Как могло произойти подобное? Не превосходит ли это всякое вероятие?
– Чего это с ним? – хрипло вопрошала галерка.
– Угу, чего это с ним? – эхом отзывались из партера мы, публика почище.
Посол бочком скользнул к запасному выходу. До него как будто дошло, что он тут не всеобщий любимец.
– Да несчастный случай, – объявил он, и с каждым его словом все больше давало о себе знать сочное ист-эндское произношение. – По дороге сюда он, к сожалению, столкнулся с грузовиком, получил многочисленные травмы и ушибы, а потому не может выступить перед вами сегодня. С вашего позволения, его заменит профессор Дивайн, который исполнит свои неподражаемые подражания голосам разнообразных птиц и всех нам знакомых животных. Леди и джентльмены, – заключил посол, грациозно покидая эстраду, – благодарю вас всех и каждого по отдельности.
Занавес взвился, и на сцену выпорхнул франтоватый индивид с нафиксатуаренными усами.
– Леди и джентльмены, я начну с подражания известному певуну, дрозду обыкновенному, возможно, более известному многим из вас как свистелка. И касательно моего исполнения хочу указать, что у меня во рту не имеется ничего постороннего. Эффекта я достигаю…
Тут я удалился, и две трети зрителей сделали то же самое. Позади нас, замирая за закрытыми дверями, раздалась жалобная трель дрозда обыкновенного, тщетно соперничая с мощными голосами взыскательных зрителей, не привыкших скупиться на критику.
На улице кучка шордической золотой молодежи благоговейно внимала возбужденному оратору в мятой шляпе и брюках, сшитых на человека повыше и пошире. Волнующий рассказ о каких-то событиях совсем их заворожил. Отдельные слова и фразы прорывались сквозь уличный шум.
– …вот так. А потом дает ему раза вот эдак. И тут они как сцепятся…
– Проходите, проходите, – перебил официальный голос. – Проходите, не задерживайтесь.
Толпа поредела и разложилась на составные элементы. Я оказался рядом с владельцем мятой шляпы. Хотя мы не были представлены друг другу, он, казалось, счел меня достойным выслушать его повествование. И немедленно завербовал меня в качестве ядра новой толпы слушателей.
– Значит, он подходит, ну, парень этот, а Тод как раз входит в дверь для артистов…
– Тод? – изумился я.
– Тод Бингем. Ну, он подходит, когда он как раз входит в дверь для артистов и, значит, говорит: «Эй!» А Тод говорит: «Чего?», а этот парень говорит: «А ну давай, поднимай!», а Тод говорит: «Чего?», а этот парень говорит: «Руки подними!», а Тод говорит: «Чего? Я?» – вроде так с удивлением. И тут они давай драться.
– Но ведь Тода Бингема сбил грузовик?
Человек в мятой шляпе оглядел меня с тем презрением и вызовом, с какими истинно верующие одаривают еретиков.
– Грузовик! Да никакой грузовик его не сбивал. С чего вам взбрендило, что его сбил грузовик? И с чего ему лезть под грузовик и сбиваться? Его уложил тот рыжий, как я вам и толкую.
На меня снизошло великое озарение.
– Рыжий?
– Угу.
– Верзила?
– Угу.
– И он уложил Тода Бингема?
– В лоск уложил. Пришлось ему домой на такси ехать, Тоду то есть. Чудно! Раз парень может драться, как этот парень может драться, так чего ему ума не хватило на сцене подраться и деньги за это получить? Вот чего я думаю.
По ту сторону улицы лил свои холодные лучи прожектор. И в его слепящий свет вступил человек, задрапированный в желтый макинтош. Свет блестел на его пенсне и придавал жуткую зеленоватую бледность лицу. Это был Укридж, отступающий из Москвы.
– Другие, – сказал я, – тоже так думают.
И я поспешил перейти улицу, чтобы предложить свои слабые утешения. Бывают минуты, когда типус нуждается в дружеском участии.
Неотложная помощь Доре
Поскольку на протяжении нашего долгого и близкого знакомства ничто не свидетельствовало об обратном, я привык смотреть на Стэнли Фиверстоунхо Укриджа, друга моего детства, как на человека закаленно равнодушного к чарам противоположного пола. Я полагал, что, подобно многим и многим финансовым гигантам, он не располагает временем для ухаживаний – другие, куда более глубокие вопросы, казалось мне, непрерывно занимают этот великий мозг. И потому я был весьма изумлен, когда июньским днем в среду, шагая по Шефтсбери-авеню среди зрителей, покидавших театры после окончания утреннего представления, я увидел, как он подсаживает в автобус девушку в белом платье. В его манере ощущалась смесь учтивости и пылкой преданности, и будь его макинтош чуть менее желтым, а его шляпа чуть менее мятой, он выглядел бы точь-в-точь как сэр Уолтер Рэйли, бросающий бесценный плащ под ноги королевы.
Автобус тронулся, Укридж помахал ему вслед, и я приступил к расспросам. Я ощущал себя заинтересованной стороной. Его затылок четко выражал «цель – узы брака» – так, во всяком случае, представилось мне, и перспектива содержать некую миссис Укридж в привычной ей роскоши, а также снабжать выводок маленьких Укриджей носками и рубашками в восторг меня не привела.
– Кто это? – спросил я.
– Привет, малышок! – сказал Укридж, оборачиваясь. – Откуда ты взялся? Минутой раньше – и я представил бы тебя Доре.
Автобус, погромыхивая, готовился исчезнуть, свернув на Пиккадилли-серкус, и белая фигурка наверху обернулась, чтобы помахать в последний раз.
– Это была Дора Мейсон, – пояснил Укридж, потряся в ответ внушительной рукой. – Секретарша-компаньонка моей тетки. Я иногда общался с ней, пока жил в Уимблдоне. Старик Таппи снабдил меня парочкой билетов на представление в «Аполлоне», ну я и подумал, что будет добрым поступком пригласить с собой ее. Мне жаль эту девушку. Мне жаль ее, старый конь.
– А что с ней такое?
– Она ведет серую жизнь. Ни удовольствий, ни развлечений. Иногда побаловать ее – это истинный акт милосердия. Ты только представь себе! Весь день напролет расчесывать чертовых пекинесов и перепечатывать гнусные романы моей тетки.
– А твоя тетка пишет романы?
– Сквернейшие в мире, малышок, сквернейшие в мире. Она была по жабры в литературе с тех пор, как я себя помню. Ее как раз избрали председательницей Клуба Пера и Чернил. Собственно говоря, когда я жил у нее, меня сгубили ее романы. Она завела манеру отсылать меня в постель с этими пакостями, а за завтраком задавала мне вопросы. Да, малышок, без преувеличений – за завтраком! Собачья жизнь! И я рад, что ей пришел конец. Плоть и кровь не выдерживали напряжения. Ну, зная мою тетку, скажу тебе без обиняков, что при мысли о бедненькой малютке Доре у меня сердце кровью обливается. Я знаю, каково ей приходится, и чувствую, что стал лучше, благороднее, ибо подарил ей этот мимолетный солнечный лучик. Жалею, что не могу сделать для нее больше.
– А почему бы не угостить ее чаем после театра?
– Непрактичный совет, малышок. Разве что улизнуть, не заплатив, но это чертовски трудно, когда кассирши следят за дверью точно хорьки, и ведь чай даже в самой захудалой кафе-кондитерской пробивает дыры в бумажнике, а я сейчас на полной мели. Но знаешь что? Я не против выпить с тобой чашку-другую, если тебе этого хочется.
«Шордич эмпайр» славится большим залом, но, когда я в субботу вечером добрался туда, он был набит битком по самые двери. Полагаю, и при обычных обстоятельствах зрителей там по субботам собирается достаточно, но на этот раз такая приманка, как личное выступление Тода Бингема, обеспечила сверханшлаг. В обмен на мой шиллинг я получил привилегию занять позицию у дальней стены, откуда мне было мало что видно.
Однако взгляд на сцену между на мгновение раздвинувшимися головами и общее беспокойное нетерпение зрителей подсказали мне, что ничего сколько-нибудь интересного я не упускаю. Программа «Шордич эмпайр» на этой неделе, по сути, сводилась к одному номеру. Зрители, казалось, стиснув зубы, терпели предварительные выступления как неизбежные препятствия между ними и гвоздем программы. Они пришли посмотреть Тода Бингема и не были снисходительны к злополучным клоунам, велосипедистам, жонглерам, акробатам и исполнителям баллад, которых навязывали им в первой половине вечера. И радостные вопли, раздавшиеся, когда занавес опустился на драматической сценке, вырвались из самой глубины сердец, так как следующим номером было выступление звезды.
Дородный мужчина во фраке с красным носовым платком в грудном кармашке, исполненный посольского достоинства, вышел из-за кулис.
– Леди и джентльмены!
– У-ух! – вскричали зрители.
– Леди и джентльмены!
Одинокий голос: Ура старине Тоду! (Заткнись!)
– Леди и джентльмены, – сказал посол в третий раз. И с опаской оглядел зал. – С великим сожалением должен объявить о глубочайшем разочаровании для нас всех. К несчастью, Тод Бингем сегодня не сможет выступить перед вами.
Вой, подобный вою волков, лишившихся добычи, или заполнивших амфитеатр римских граждан после сообщения, что запас львов иссяк, приветствовал эти слова. Мы уставились друг на друга в жесточайшем недоумении. Как могло произойти подобное? Не превосходит ли это всякое вероятие?
– Чего это с ним? – хрипло вопрошала галерка.
– Угу, чего это с ним? – эхом отзывались из партера мы, публика почище.
Посол бочком скользнул к запасному выходу. До него как будто дошло, что он тут не всеобщий любимец.
– Да несчастный случай, – объявил он, и с каждым его словом все больше давало о себе знать сочное ист-эндское произношение. – По дороге сюда он, к сожалению, столкнулся с грузовиком, получил многочисленные травмы и ушибы, а потому не может выступить перед вами сегодня. С вашего позволения, его заменит профессор Дивайн, который исполнит свои неподражаемые подражания голосам разнообразных птиц и всех нам знакомых животных. Леди и джентльмены, – заключил посол, грациозно покидая эстраду, – благодарю вас всех и каждого по отдельности.
Занавес взвился, и на сцену выпорхнул франтоватый индивид с нафиксатуаренными усами.
– Леди и джентльмены, я начну с подражания известному певуну, дрозду обыкновенному, возможно, более известному многим из вас как свистелка. И касательно моего исполнения хочу указать, что у меня во рту не имеется ничего постороннего. Эффекта я достигаю…
Тут я удалился, и две трети зрителей сделали то же самое. Позади нас, замирая за закрытыми дверями, раздалась жалобная трель дрозда обыкновенного, тщетно соперничая с мощными голосами взыскательных зрителей, не привыкших скупиться на критику.
На улице кучка шордической золотой молодежи благоговейно внимала возбужденному оратору в мятой шляпе и брюках, сшитых на человека повыше и пошире. Волнующий рассказ о каких-то событиях совсем их заворожил. Отдельные слова и фразы прорывались сквозь уличный шум.
– …вот так. А потом дает ему раза вот эдак. И тут они как сцепятся…
– Проходите, проходите, – перебил официальный голос. – Проходите, не задерживайтесь.
Толпа поредела и разложилась на составные элементы. Я оказался рядом с владельцем мятой шляпы. Хотя мы не были представлены друг другу, он, казалось, счел меня достойным выслушать его повествование. И немедленно завербовал меня в качестве ядра новой толпы слушателей.
– Значит, он подходит, ну, парень этот, а Тод как раз входит в дверь для артистов…
– Тод? – изумился я.
– Тод Бингем. Ну, он подходит, когда он как раз входит в дверь для артистов и, значит, говорит: «Эй!» А Тод говорит: «Чего?», а этот парень говорит: «А ну давай, поднимай!», а Тод говорит: «Чего?», а этот парень говорит: «Руки подними!», а Тод говорит: «Чего? Я?» – вроде так с удивлением. И тут они давай драться.
– Но ведь Тода Бингема сбил грузовик?
Человек в мятой шляпе оглядел меня с тем презрением и вызовом, с какими истинно верующие одаривают еретиков.
– Грузовик! Да никакой грузовик его не сбивал. С чего вам взбрендило, что его сбил грузовик? И с чего ему лезть под грузовик и сбиваться? Его уложил тот рыжий, как я вам и толкую.
На меня снизошло великое озарение.
– Рыжий?
– Угу.
– Верзила?
– Угу.
– И он уложил Тода Бингема?
– В лоск уложил. Пришлось ему домой на такси ехать, Тоду то есть. Чудно! Раз парень может драться, как этот парень может драться, так чего ему ума не хватило на сцене подраться и деньги за это получить? Вот чего я думаю.
По ту сторону улицы лил свои холодные лучи прожектор. И в его слепящий свет вступил человек, задрапированный в желтый макинтош. Свет блестел на его пенсне и придавал жуткую зеленоватую бледность лицу. Это был Укридж, отступающий из Москвы.
– Другие, – сказал я, – тоже так думают.
И я поспешил перейти улицу, чтобы предложить свои слабые утешения. Бывают минуты, когда типус нуждается в дружеском участии.
Неотложная помощь Доре
Поскольку на протяжении нашего долгого и близкого знакомства ничто не свидетельствовало об обратном, я привык смотреть на Стэнли Фиверстоунхо Укриджа, друга моего детства, как на человека закаленно равнодушного к чарам противоположного пола. Я полагал, что, подобно многим и многим финансовым гигантам, он не располагает временем для ухаживаний – другие, куда более глубокие вопросы, казалось мне, непрерывно занимают этот великий мозг. И потому я был весьма изумлен, когда июньским днем в среду, шагая по Шефтсбери-авеню среди зрителей, покидавших театры после окончания утреннего представления, я увидел, как он подсаживает в автобус девушку в белом платье. В его манере ощущалась смесь учтивости и пылкой преданности, и будь его макинтош чуть менее желтым, а его шляпа чуть менее мятой, он выглядел бы точь-в-точь как сэр Уолтер Рэйли, бросающий бесценный плащ под ноги королевы.
Автобус тронулся, Укридж помахал ему вслед, и я приступил к расспросам. Я ощущал себя заинтересованной стороной. Его затылок четко выражал «цель – узы брака» – так, во всяком случае, представилось мне, и перспектива содержать некую миссис Укридж в привычной ей роскоши, а также снабжать выводок маленьких Укриджей носками и рубашками в восторг меня не привела.
– Кто это? – спросил я.
– Привет, малышок! – сказал Укридж, оборачиваясь. – Откуда ты взялся? Минутой раньше – и я представил бы тебя Доре.
Автобус, погромыхивая, готовился исчезнуть, свернув на Пиккадилли-серкус, и белая фигурка наверху обернулась, чтобы помахать в последний раз.
– Это была Дора Мейсон, – пояснил Укридж, потряся в ответ внушительной рукой. – Секретарша-компаньонка моей тетки. Я иногда общался с ней, пока жил в Уимблдоне. Старик Таппи снабдил меня парочкой билетов на представление в «Аполлоне», ну я и подумал, что будет добрым поступком пригласить с собой ее. Мне жаль эту девушку. Мне жаль ее, старый конь.
– А что с ней такое?
– Она ведет серую жизнь. Ни удовольствий, ни развлечений. Иногда побаловать ее – это истинный акт милосердия. Ты только представь себе! Весь день напролет расчесывать чертовых пекинесов и перепечатывать гнусные романы моей тетки.
– А твоя тетка пишет романы?
– Сквернейшие в мире, малышок, сквернейшие в мире. Она была по жабры в литературе с тех пор, как я себя помню. Ее как раз избрали председательницей Клуба Пера и Чернил. Собственно говоря, когда я жил у нее, меня сгубили ее романы. Она завела манеру отсылать меня в постель с этими пакостями, а за завтраком задавала мне вопросы. Да, малышок, без преувеличений – за завтраком! Собачья жизнь! И я рад, что ей пришел конец. Плоть и кровь не выдерживали напряжения. Ну, зная мою тетку, скажу тебе без обиняков, что при мысли о бедненькой малютке Доре у меня сердце кровью обливается. Я знаю, каково ей приходится, и чувствую, что стал лучше, благороднее, ибо подарил ей этот мимолетный солнечный лучик. Жалею, что не могу сделать для нее больше.
– А почему бы не угостить ее чаем после театра?
– Непрактичный совет, малышок. Разве что улизнуть, не заплатив, но это чертовски трудно, когда кассирши следят за дверью точно хорьки, и ведь чай даже в самой захудалой кафе-кондитерской пробивает дыры в бумажнике, а я сейчас на полной мели. Но знаешь что? Я не против выпить с тобой чашку-другую, если тебе этого хочется.