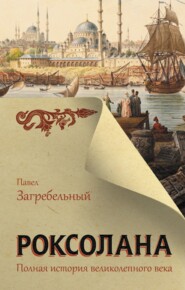По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роксолана. Полная версия легендарной книги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Земля неверных наполнилась беженцами. В этой победоносной войне акинджии были разделены на два войска. Одно их крыло перешло в землю валахскую, чтобы захватить Эрдель и Темишвар, другое крыло шло с царской ордой, эти грабили окрест лежащие города и края».
«И от Пири-паши прибыл гонец. Он принес весть: град по имени Земун взят! Били пушки, длилась тяжелая борьба, но наконец милостью божией захвачен. Много мусульман в боях полегло за веру. Неверные, схваченные в городе, стали поживой для меча. Жены и дети взяты в рабство».
«Один родственник сына татарского хана пошел с татарами в Срем собирать харч для войска. Пришла весть, что их на пути встретило много неверных, вспыхнул бой, и в том бою многие татары с родственником ханова сына погибли».
«Боснийский санджак-бег Яхья-пашич, проходя по венгерской земле с шестью тысячами войска, взял три города. Два из них взяты с боями. Все неверные зарублены. Были грабежи».
«Мустафа-паша вернулся с грабежей. Привел много рабов».
«От Яхья-пашича прибыл человек. Принес пять голов и привел закованных в железо шесть неверных. На диване их зарубили».
«Навалился Яхья-пашич на один город. Много неверных зарубил, 70 или 80 неверных посланы султану. На диване все зарублены. Шестеро брошены слону, и он растерзал их».
Сулейман спокойно созерцал эти жестокости, словно бы считал, что в наказаниях нужна не только суровость, но и изобретательность, даже утонченность. Не замечал, что жестокость еще более изобретательна, чем мудрость. К сожалению, только в преступлениях и карах.
В последний день июля Сулейман впервые смотрел на Белград с земунского берега. В Земуне брошены диким зверям братья Михайло и Марко Скобличи, защищавшие город от Хусрев-бега. Тешило ли и это зрелище султанские очи?
На берегу Дуная напротив Белграда вновь поставлен большой зеленый шалаш для султана. Он приезжал в него каждый день, проводил короткий диван, отдавал приказы и целыми днями из-под своего зеленого убежища молча рассматривал неприступный славянский город на высоком берегу реки. Кроваво-красный от пожаров, вознесенный под самое небо, Белград напоминал ту порфировую колонну, которую свалил Сулейман в Стамбуле. Свалить все, свалить, бросить под ноги, поработить и поневолить, иначе порабощен будешь сам.
Восемьдесят семь тысяч воинов окружили Белград и беспрерывно били в его стены из пушек, поставленных в одиннадцати местах. Никто не мог помочь обреченному городу. Лайош, король венгров и чехов, которому принадлежал город на Дунае, не имел сил, чтобы выступить против грозного султана.
Император Карл был озабочен борьбой с немецким монахом Лютером и французским королем Франциском, напавшим на Италию. У австрийского герцога Фердинанда не было чем оборонять даже свою собственную землю. Папа римский Лев IX не знал, как покончить с ересью, расколовшей его церковь. Венецианцы не хотели ссориться с султаном.
Таким образом, какая-то полутысяча защитников Белграда, отрезанная от всего света, оставленная всем светом, должна была обороняться от могущественной султанской силы. С савского берега шел с войсками великий визирь Пири Мехмед-паша, с дунайского наваливался визирь Мустафа-паша, с которым были все стамбульские янычары. Начался рамазан, большой радостный мусульманский праздник, и войско с еще большей рьяностью бросилось на неприступную крепость. Султан велел построить у самого Белграда наплавной мост через Саву. Снова пошел дождь. «И пролили мы на них дождь; и плох дождь тех, кого увещали!»
На диване было решено: с утра четвертого дня рамазана – первый приступ! Защитники подожгли нижнюю часть города и перебежали в верхнюю крепость, где их с трудом приняли из-за нехватки продовольствия. Через неделю спрыгнула со стены крепости женщина. Приведенная к Пири Мехмеду, она сказала, что в крепости уже нет ни харчей, ни военных припасов. В пятницу, на следующий день, Сулейман подошел под стены крепости, велел поставить шатер, отдыхал в нем какое-то время, потом повелел идти на приступ. Тучи войск двинулись под стены крепости. Она агонизировала. Замолкла даже башня серба Якова Утешеновича, огонь из которой был самый опустошительный во все эти дни. Над крепостью вывесили белый флаг. Султан повелел прекратить огонь. Защитники просили десять дней, чтобы подготовить город к сдаче, а сами тем временем поспешно латали пробоины в стенах. Снова загремели пушки.
Пойман был переодетый янычаром посланец к венгерскому королю за помощью, поставлен был перед султанским диваном, посажен на кол.
От последнего приступа уже не было спасения. 26 рамазана 927 года хиджры (или 29 августа 1521 года) султанские муэдзины впервые пропели с белградских высот азан[48 - Азан – молитва.]. «Пири-паша с дефтердаром вошли в башню, чтобы завладеть казной. Сразу после них появился отряд Хусрев-бега, смедеревского санджакбега. Музыка играла. На высоком диване трижды пробили в барабан, которым оглашаются радостные вести. Янычарский желто-красный флаг был поднят над городом. В честь этого события играла музыка. Настала благословенная ночь Лейле-и-кадр, святейшая для мусульман, ибо в эту ночь Магомету пришло первое божье откровение».
Сто пятьдесят венгров, защищавших Белград вместе с сербами, Сулейман отпустил, чтобы поплыли по Дунаю к своему королю и рассказали ему о султанской силе. Двух из них – Блажа и Моргая – поставили перед Ибрагимом, который был теперь султановыми глазами, ушами и устами, был волей султана и его карающей десницей, все это знали, кроме этих пленных, а если знали и они, то все равно уже ничем не могли себе помочь, ибо побежденный может только ждать. Чего? Милости или смерти?
Наверное, они уже догадывались о том, что умрут, поэтому смотрели на Ибрагима с понурым равнодушием, он же блаженствовал от неограниченной власти над этими двумя бесстрашными мужчинами, которые доказали своими действиями, что не боялись смерти, но которые (и это неизбежно и необратимо!) должны испугаться той смерти, какую он им определит, испугаться и ужаснуться. Поскольку для ужаса тоже нужно какое-то время, то Ибрагим решил предоставить его этим двум упрямым глупцам, за тем и велел привести их сюда. Они были удивительными людьми. Если бы даже кто и захотел найти среди тысяч и тысяч двух столь неодинаковых людей, то, пожалуй, никогда бы и не нашел – так отличались они внешне друг от друга.
Блаж, высокий, белокурый, голубоглазый, тонкий и гибкий, как юноша, с красивыми тонкими усами, с золотистым загаром на лице, весь в голубом, с золотыми позументами на одеянии, стоял гордо, отставив ногу, как бы опираясь правой рукой на рукоять воображаемой сабли (оружие у них, ясно, отобрали), смотрел поверх Ибрагимовой головы куда-то в далекую даль, видел там только то, что доступно было его глазу, – может, окидывал взглядом с высоты своей смертной самое отдаленное и самое удивительное из истории своего свободного народа: черноморские степи, травы, табуны коней, прекрасных всадников, костры под звездами, ласточек в небе, широкий Днепр, золотые соборы Киева, Карпаты, солнце над придунайской равниной.
Моргай, невысокий, черный, как кипчак, стоял неуклюже, неумело, раскорячив привыкшие охватывать конские бока ноги, пронизывал бледнолицего султанского сипехсалара[49 - Сипехсалар – оруженосец.] острым, как у юрюка[50 - Юрюк – кочевник.], взглядом, презрительно кривил губы под черной подковой усов, словно хотел сказать Ибрагиму: «Не ты меня, а я тебя должен был судить, ибо во мне кровь столь же неистова, как у этих родичей моих далеких предков – куманов, а ты лишь идололицый предатель, только и всего».
Но это лишь казалось, что Моргай хотел заговорить с Ибрагимом таким образом. Ибо при всей его внешней несхожести с Блажем было в нем нечто неуловимое и непостижимое, роднившее его с Блажем даже больше, чем сынов одной матери. Стояли, как два крыла своего народа, как две его ипостаси, как две ветки могучего дерева, как две половинки орехового ядра – не разорвать, не расколоть, не разрубить, – жить, так жить обоим, умереть, так тоже вместе!
Ибрагим обладал метким взглядом и еще более метким умом. Он мгновенно постиг, что запугать этих людей не дано никому, поэтому повел себя с ними, разыгрывая сочувствие.
– Как же это случилось, что вы не сдержали слова?
Блаж все так же горделиво смотрел поверх Ибрагимовой головы, слишком далеко отбежал он мыслью от этого безнадежного места, чтобы возвратиться сюда для удовлетворения чьего-то любопытства, зато Моргай возмущенно встрепенулся на Ибрагимов вопрос и бросил в ответ коротко и твердо:
– Мы сдержали.
– Позвольте напомнить, что это неправда, – усмехнулся Ибрагим. Белград выбросил белый флаг в знак сдачи, а потом снова стал обороняться. Что это, как не измена? Всемогущественный султан…
– Флаг подняли слабые духом. Такие, к сожалению, находятся всегда. Мы же не обещали сдаваться никому и никогда. Мы дали слово защищать крепость, и мы защищали ее до последнего.
– Какая-то жалкая тысяча защитников против всемогущественного исламского войска?
– Разве храбрость зависит от числа? – вскинулся Блаж. – За нами стояла вся наша земля.
– Это земля турецкая. Султан Баязид Ильдерим подарил эту землю сербскому деспоту Стефану Лазаревичу, и тот построил здесь крепость.
Блаж терпеливо пояснил:
– Этот берег Дуная дал Стефану венгерский король. И с тех пор венгры обязались помогать своим сербским братьям. Наш воевода Янош Хуньяди прогнал отсюда самого султана Завоевателя, перед которым склонился Царьград.
– Но вам не удалось повторить подвига Хуньяди? – засмеялся Ибрагим.
– Зато мы не изменили своей земле, – упрямо сказал Блаж, как бы намекая на то, что он, Ибрагим, несмотря на его нынешнее величие и власть над их жизнями, в конце концов, просто мелкий ренегат и более ничего.
Любого это довело бы до бешенства, но Ибрагим оставался холодным и спокойным.
– У вас есть какие-нибудь желания? – почти кротко спросил он.
Блаж не ответил. Моргай пожал широкими плечами. Какие еще желания у людей, до конца выполнивших свой долг и имеющих полное право считать, что таким образом исполнили свое предназначение на земле…
И это непроизнесенное слово «земля» превращалось в оскорбление и обвинение уже самого Ибрагима, он это почувствовал и понял и мысленно поблагодарил Бога (какого – разве не все равно), что затеял эту игру с обреченными без высоких свидетелей – без султана и его визирей, а то пришлось бы ему пожалеть о своем неуместном любопытстве, но он не относился к людям, которые сожалеют о содеянном, и, поигрывая золотой саблей, лежавшей у него на коленях, небрежно произнес:
– Похваляетесь, что остались верными своей земле? Такая верность требует награды. Султан поручил мне соответственно вознаградить вас. Вы хотели этой земли – мы вам дадим ее. Вас закопают в эту землю. Закопают живыми. Яму себе выроете сами. Правда, землекопство у мусульман считается позорнейшим делом, а рытье могилы для себя крайне позорным, но что я могу поделать? Да и вы не мусульмане.
– Да, мы христиане, – твердо произнес Блаж. – И поэтому рыть для себя могилы мы не станем, даже если бы с нас живьем сдирали кожу.
– Такая возможность существует, – усмехнулся Ибрагим, – но вы захотели земли…
И он, подражая султану, едва заметным движением руки велел убрать обреченных с глаз.
И эти люди для него уже не существовали. Были давно мертвы. Он и разговаривал с ними из простого любопытства. Узнать, что говорят мертвые. Живые ему нравились больше. Были почтительнее.
Блажа и Моргая закопали живыми в тот же день между четвертой и пятой молитвами. Свидетелями нечеловеческой кары были все венгры – им Сулейман даровал свободу после этого страшного зрелища – и плененные в Белграде сербы.
Ибрагим наблюдал за казнью со своего черного (как и у султана) коня в золотой сбруе. Лишенные одежды, связанные крепкими веревками, брошенные на дно глубоченной ямы, выкопанной под высоким берегом, на котором стоял истерзанный, закопченный, поверженный Белград, Блаж и Моргай не просили о пощаде, ни стона, ни вскрика не прозвучало из ямы, когда с торопливых лопат дурбашей[51 - Дурбаши – палачи.] посыпалась на них безжалостная земля. Ибрагим представил себе, как земля засыпает живой красивый рот Блажа, глубоко, с наслаждением втянул в себя ласковый дунайский воздух и с новой для себя омерзительной радостью в душе поскакал к султанскому шатру.
Сулейман уже разослал всем, кого надо было обрадовать или напугать, фетх-наме[52 - Фетх-наме – послание о победе.] о том, что Белград в его руках. Теперь, сидя в своем роскошном шатре, сочинял стихи, полные горечи, меланхолии и тоски. Не спрашивал о венграх у Ибрагима, пили вино, султан читал газели о тщете богатства, славы, могущества.
– Нравятся мои газели? – спросил своего любимца.
– Для вашего величества нет невозможного, – весело отвечал наглый грек. – У вас возникло желание сочинить газели, и вы его выполнили. Кто может помешать?
– А собственное неумение?
– А кто посмеет заметить вашу неумелость?