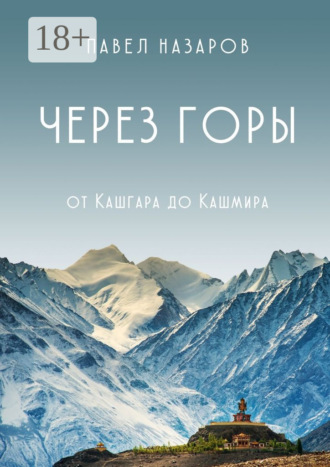
Через Горы! От Кашгара до Кашмира
Разрушение городов Центральной Азии – обычное явление при постепенном высыхании этой огромной депрессии, которая по преданию сравнительно недавно была дном великого моря в центре Азии, называемого китайцами – Хан Хай16.
Обилие соли в почве песчаных отложений, барханы или песчаные дюны, присутствие в центре континента болотистой низменности, таинственный Лоб Нор, питающийся от реки Тарим, которая, в свою очередь собирает воды целого ряда притоков – Кашгар Дарьи, Яркенда, Хотан Дарьи, Ак-Су, и так далее, все, кажется, подтверждает китайскую теорию о существовании здесь огромного внутреннего моря. Один немецкий ученый идет еще дальше, считая библейский потоп результатом прорыва моря Хан Хай через горы Тянь-Шаня на равнины Туркестана, Персии и Месопотамии. Но геологические данные полностью противоречат этим фантастическим рассказам. В этом регионе была пустыня еще в середине эпохи третичного периода. И с того времени здесь не было морских отложений, а присутствуют только озерные и эоловые образования, характерные для условий пустыни. Климат этой страны стал сухим в очень далеком геологическом прошлом, и количество атмосферных осадков здесь периодически изменяется в зависимости от различных факторов. Регион на самом деле не находится в большом понижении или депрессии, как это выглядит на географической карте. Средняя высота бассейна Тарим составляет около 900 метров над уровнем моря, долины Кашгара – 1300 метров, то есть на высоте Риги Кулм в Швейцарии. Это фактически альпийская зона. Нижняя часть региона у озера Лобнор находится на высоте 600 метров над уровнем моря. Высыхание Туркестана в историческом периоде и, как следствие, разрушение его городов и исчезновение древней цивилизации были объектом исследований американской экспедиции Пампелли в начале века. Эта экспедиция получила очень ценные физико-географические и геологические результаты, но, конечно, не выявила какого-либо высыхания Туркестана в нашу эпоху.
Наоборот, все факты, как правило, показывают, что Центральная Азия сегодня имеет больше атмосферной влаги, чем это было в прошлом – две или три тысячи лет назад.
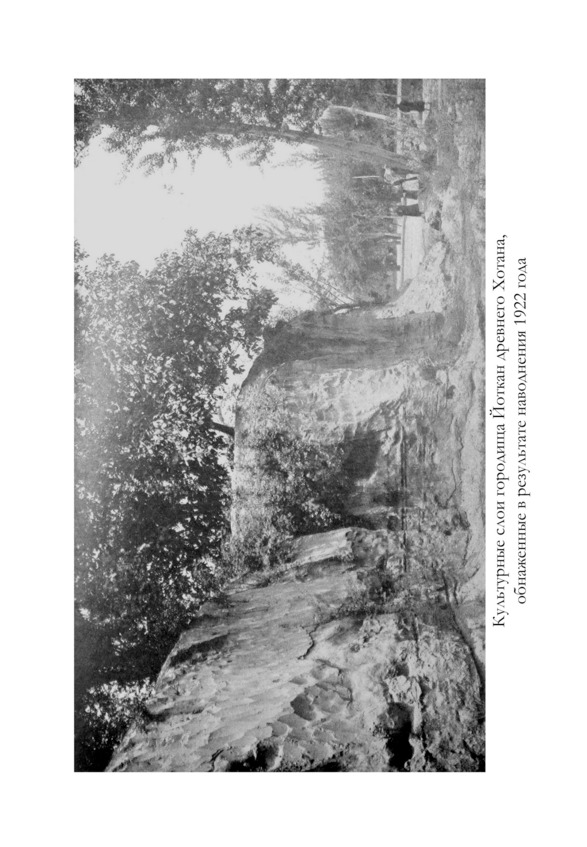
Девятнадцать лет назад покойный профессор геологии Джон Грегори, в научной статье под названием «Высыхает ли Земля?» с обычной для него ясностью обсудил этот вопрос. Он пришел к выводу, что «Археологические и исторические данные показывают, что климат Центральной Азия был очень засушливым с самых ранних времен, о которых имеются человеческие записи». Разрушение этой земли не связано с процессами Природы, все случилось в результате деятельности человека. Войны, междоусобная борьба, захваты, нашествия и набеги диких орд разрушали оросительные каналы, уничтожали торговые города и разоряли оседлое население.
Нигде в мире, пожалуй, нет такой близкой связи и полной зависимости человеческой жизни и культуры от поступления воды, как здесь в Центральной Азии, где это видно так ярко и очевидно. Если нет воды для орошения, мы видим безжизненные пространства, смертельные для человека и зверя, подайте сюда воду из рек и горных ручьев или вырытых колодцев, и пустыня сразу превращается в цветущий сад. Там, где есть деревья, поля и дома, движение песчаных дюн останавливается и они врастают в землю.
Перекройте каналы, и растительность поникнет и умрет, и под волнами песчаного океана будут погребены и цветущий когда-то оазис и все признаки человеческой деятельности вокруг него. Такие случаи уничтожения или строительства живительных арыков или оросительных каналов и превращения цветущего оазиса в пустыню или наоборот пустыни в изобильную землю имели место в Туркестане и сохранились в памяти живущих людей.
Не так давно появилась работа под названием «Яростный ветер над Азией», доктора Эмиля Тринклера17, в которой автор пытается доказать, что «возраст пустыни Такла-Макан намного меньше, чем принято считать и что три тысячи лет назад страна была лесистой и орошаемой».
Мне кажется, совершенно неправильным такое предположение автора. Три тысячи лет являются незначительным промежутком геологического времени. В Центральной Азии это историческое время, и в этом времени нет ни малейших исторических свидетельств, ни признаков трансформации огромной площади в Центральной Азии от хорошо обводненных земель и обширных лесов в океан зыбучих песков. Здесь находят остатки культивируемых растений и следы искусственного орошения, возраст которых превышает две тысячи лет. Так почему же нет никаких следов от прежних больших лесов?
Центральная Азия была бессточной, засушливой пустынной страной с середины третичной эпохи. С трех сторон над ней поднимаются высокие горные цепи, вертикальные движения которых продолжаются до сих пор, и они полностью изолируют регион от изобильных атмосферных осадков со стороны океана. И невозможно представить себе, что всего три тысячи лет назад орографические, геологические и климатические условия Центральной Азии были совершенно другими, с обильными осадками, способными орошать обширные леса на территории, занимаемой сегодня пустыней Такла-Макан.
Такая гипотеза требует исчезновения западных и южных горных барьеров, представленных высочайшими горными системами мира. На карте этой части Азии видно, что только незначительная часть площади занята культурными оазисами, вся жизнь в которых зависит от орошения водой, стекающей с гор. Растительность есть только там, где подземные воды располагаются неглубоко от поверхности, а в Такла-Макане грунтовые воды залегают очень глубоко или полностью отсутствуют. Какое гигантское количество воды потребуется для естественного орошения этого бескрайнего моря зыбучих песков, и откуда она могла здесь быть три тысячи лет назад?
Первым действием захватчика в Центральной Азии всегда было уничтожение каналов и перекрытие подачи воды в города и селения, и тогда они становились легкой добычей. С гибелью населения умирал и населенный пункт, превращаясь навсегда в пустыню.
Возникает другой вопрос. Кто первым проник в пустыни Центральной Азии, вдохнул в них жизнь и сделал возможным здесь постоянное существование цивилизации? История не дает нам точного ответа. Мы знаем только, что еще в двенадцатом веке до нашей эры были оседлая жизнь и искусственное орошение в Хорезме, сегодняшней Хиве, что все основные каналы оазиса Ташкента носят имена персидских сатрапов Дария Гистаспа – Салар, Боз, Kай-Кавус, Зах, и т. д. Неотразимо желание прийти к выводу, что здесь было древнее персидское царство Ассирии и Вавилона, известное своим развитием оросительной техники и искусством привлечения свободно текущих вод в безводные пустыни.
Но на самом деле все не так. Шумерцы, заложившие основы цивилизации Вавилона и Ассирии, были, очевидно, тюрками, иммигрантами в Месопотамии из Центральной Азии. В транскаспийском регионе, недалеко от города Ашхабада, в Курган-Анау, экспедиция Пампелли обнаружила на большой глубине, под несколькими «культурными слоями» находки керамических сосудов, посуды и столовых приборов, в точности таких, как и в Шумере. Под ними были находки каменного века. Цивилизация Шумера, как известно, рассматривается наиболее древней культурой человечества.
Ранняя история Центральной Азии изобилует тайнами и загадками. Древние мифы и поэзия донесли до наших дней информацию о прошлом Кашгара и Хотана. Многие века до нашей эры этот регион входил в состав обширной Туранской империи, управляемой длинным списком скифских императоров, как правило, называемых потомками великого Афрасиаба. Богатством, военной мощью, законами древней цивилизации, сыгравшей большую роль в истории, владел народ, называемый в тюркских, китайских, индийских и греческих источниках различными именами – скифами, юэчжи, саками, сакья, готами, массагетами и другими. Их столицей был Самарканд. Недалеко от этого города в наши дни существует место, известное по имени древнего императора Афрасиаба, где время от времени находят различные предметы старины.
Произведения персидских поэтов и исторические хроники рассказывают об ужасном опустошении страны вторгшимися сюда скифами. В мифологии отображена, по сути, вечная наследственная вражда двух народов с различными культурами – земледельцев Ирана и кочевников Турана. В седьмом веке до нашей эры персам удалось оттеснить скифов за пределы Окса, так называлась прежде Амударья, которая надолго стала естественной границей между враждующими народами.
В шестом веке до нашей эры мы находим первые упоминания о территории Кашгара и Хотана в мифах о Сиявуше. Владения Турана распространялись тогда на обширную территорию, включая и Лоб Нор. Сиявуш был сыном персидского царя Кай Кавуса. Поссорившись с отцом в 580 году до н.э., он бежал из страны за Амударью и нашел убежище у давнего врага их семьи Афрасиаба, который жил в Рамистане, между городами Самарканд и Бухара. Название селения сохранилось и по сей день, известное великолепным храмом огнепоклонников Аташ Кахад. В Персии и в Туране в этот период процветала религия Зороастра, в то время как дальше на восток располагались поклонники буддизма.
Скифский царь встретил Сиявуша с почетом и в знак гостеприимства, отдал ему в жены свою собственную дочь, красавицу Фарангис. В качестве приданого Афрасиаб дал Сиявушу провинцию Хотан. Счастливая пара отправилась в Кашгар и для своей резиденции выбрала место, называемое Кунг, возможно это Каток, руины которого находятся около Лоб Нора, около двенадцати или четырнадцати дней пути от города Хотана. Очевидно, в те дни это была хорошо населенная и цветущая страна. Ныне это бесплодная, соленая пустыня, где бушуют песчаные бури, и только иногда покажется кочевник на своем верблюде – корабле пустыни. Но счастье молодой пары продолжалось недолго. Зависть и хитрость, распространенная в Азии, погубила Сиявуша. Герсивез – брат царя Афрасиаба, завидуя успехам Сиявуша, его растущей власти, его богатству и влиянию, посеял семена подозрения в царские уши. Будто бы Сиявуш стремится к независимости с целью создания своей империи в дальнем углу Центральной Азии. Сиявуш был приглашен ко двору и вероломно убит. Место его убийства долго, пока существовали в Туркестане поклонники Зороастра, было священным. Каждый год паломники приходили сюда и проводили обряд жертвоприношения. Подлое убийство невинного молодого принца вызвало раздражение в Персии, и разгневанный император Кай Кавус послал своего любимого генерала Рустама, с огромным войском, чтобы отомстить за убийство своего сына. Рустам два года осаждал Рамистан, но безрезультатно. Он даже построил целый город напротив осажденной крепости, и, в конце концов, Афрасиаб бежал из страны.
Фарангис осталась с сыном по имени Кай Хосров, который сменил на троне своего деда Кай Кавуса и, став императором Персии, прожил жизнь, полную приключений. Он долго воевал с дедом Афрасиабом, стремясь отомстить за убийство своего отца. После многих сражений, ему удалось сокрушить своего противника, захватить Самарканд и убить Афрасиаба.
Так описываются события, касающиеся ранней истории Кашгара, в сказании о Сиявуше.
В период между падением династии Афрасиаба и вторжением Александра Великого и создания греко-бактрийской империи, Кашгар был ареной вечных столкновений между местным населением и ордами тюркских народов.
Китай в этот период был разделен на несколько княжеств. Но в 94 году н.э. китайский генерал Пан Чао вторгся большими силами в Восточный Туркестан. После присоединения Кашгарии к Китаю он выдвинулся в Западный Туркестан, в земли Юэчжи,18 имя которых созвучно с киргизским уй – близкое слову юрта, и чи – палаточный житель, кочевник.
Пан Чао установил свою власть до побережья Каспийского моря. В 102 году этот китайский Наполеон, движимый своей военной амбицией, даже послал экспедицию на завоевание Римской империи. С этого периода и до арабского завоевания Кашгария принадлежит Китаю. В это время она была известна как Кичик Бухара, т. е. Малая Бухара, в отличие от Большой Бухары, где тогда формировалось мощное государство. Его столица Бухара была построена на разливах реки Масаф, сегодняшнего Зарафшана. В этих болотах, по описанию Арриана, Александр Великий отправился на охоту и собственноручно убил «льва», скорее всего тигра, так как эти животные населяли здешние болота до последнего времени. Последний тигр был убит в болотах близ Бухары в 1894 году.
Говоря о спорте, здесь можно упомянуть, что по преданию конная игра в поло зародилась и развилась на этой самой земле в дни Афрасиаба. Удивительно, но в настоящее время в поло совершенно не играют ни в Восточном, ни в Западном Туркестане.
Кроме Бухары был еще один важный город страны – Байкент19 или Пайкент поздних дней, торговый центр, имеющий активные связи с Кашгаром и Китаем на востоке и Персией и Римской империей на западе. Торговля обогащала города Восточного Туркестана и подготовила их к принятию греческой и римской культуры и цивилизации, которая началась в Греко-Бактрийское время. Бактрия – современный Бадахшан, контролировал короткий торговый путь с Хотана через Памир. С другой стороны, индийское влияние происходило не только через Бактрию, но и прямым путем через Гималаи и Каракорум по Согдийскому проходу древности – Соджила тибетцев. Китайцы, в соответствии с обычаем, не вмешивались во внутренние дела населения, довольствуясь сбором податей. Они управляли страной через местных беков, собирающих налоги, таможенные пошлины и иные сборы, и делали все это с очень высокой религиозной терпимостью. Здесь процветали не только буддизм, но и зороастризм, манихейство, и несторианское христианство.
Арабское вторжение в Туркестан произошло раньше, чем его покорение мечом ислама, и характеризует эпоху, трагическую и наполненную романтикой.
Под командованием великого лидера Кутейбы, арабы пересекли Джейхун и взяли город Пайкент, где их добычей стало огромное количество золота, серебра и драгоценных камней. Среди них были два изумруда размером с голубиное яйцо, которые украшали здешнего идола. Во время разорения Пайкента многие его жители были по торговым делам в Кашгаре. Когда они вернулись, то нашли свои дома в руках врагов, а членов своих семей в заточении, но у них было достаточно богатства, чтобы выкупить все и восстановить свой город – яркое свидетельство интенсивности торговли с Кашгаром. Когда арабы осадили Бухару, на троне была вдова бухар-худата, по имени Хатун, известная во всей Центральной Азии своей красотой, мудростью, ученостью, богатством и своими любовными историями. Этой азиатской Клеопатре удалось откупиться от арабов и сохранить город от захвата, вручив арабскому предводителю миллион дирхемов. Арабы отошли за Джейхун, то есть Aму Дарью. Это было в 675 году н.э.
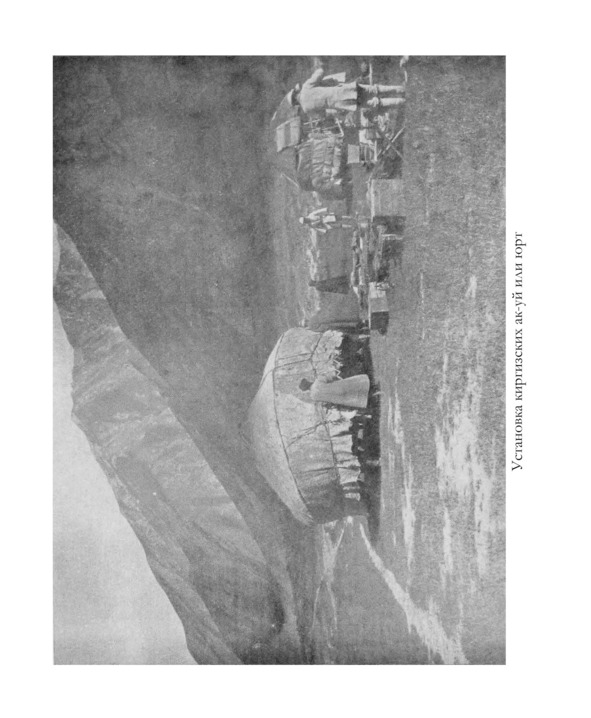

Но вторжения арабов продолжались. Был взят Самарканд, культура которого, богатство и великолепие хорошо описываются арабскими историками. Затем – Фергана. Оттуда Кутейба перешел со своей армией через перевал Терек Даван в Кашгар, и, почти не встретив сопротивления, появился у ворот Турфана. Здесь он получил известие о смерти эмира Валида и вернулся в Хорасан. Арабское влияние менее заметно в Кашгаре, чем в Западном Туркестане. Наиболее важным из сановников Туркестана, который обратился в ислам, был зороастриец Саман. Его внуки стали правителями четырех провинций – Герата, Самарканда, Ферганы и Ташкента, и пользовались покровительством самого халифа. Одному из них, правителю Ферганы по имени Наср, во время восстания сеистанских князей против халифа, удалось захватить власть в Бухаре и Туркестане, где он основал династию саманидов. Его брат и преемник поднял мощь Самарканда до зенита его расцвета и после своей смерти в 907 году он оставил своему преемнику царство, которое простиралось от Исфахана и Шираза до Турфана и Гоби, и от Сеистана и Персидского залива до степей юга России. После падения саманидов Кашгар стал столицей этой грандиозной империи в Центральной Азии, хотя и ненадолго. Западные территории попали под власть султана Санджара, а сам Кашгар был захвачен вместе с почти всей территорией Китая, каракитаями, народом, связанным с тунгусами. Как ни странно, но именно они дали свое имя Китаю в России, точно также как немецкие франки дали свое имя Галлии, которая стала вслед за ними называться Францией.
В 1220 году Кашгария была захвачена монгольскими ордами Чингиз-хана, но ущерб, нанесенный ими, был, вероятно, относительно малым. И именно с этого времени в Кашгарии начинается период расцвета. Ее города на пути из Китая в Европу приобретают важное значение, развивается торговля, усиливается христианство за счет монголов, многие из которых были христианами. И христианство было не только в одном ряду с исламом и буддизмом, но и приобретало господствующее значение. Марко Поло в тринадцатом веке нашел христианского епископа в Яркенде.
В 1389 году Кашгар был взят Тамерланом, который назначил правителем страны своего сына. Впоследствии правление переходило от одного хана к другому под знаком вражды, кровопролитий, грабежей, захватов и набегов кочевников. Земля не знала покоя, пока не была взята китайцами.
В начале семнадцатого века, во время восстания против китайцев и междоусобных разборок среди туземцев, власть была захвачена уроженцем Кашгара Хабитуллой. Он был, так называемым, национальным правителем Кашгарии, который впоследствии был провозглашен святым, и ему было дано имя Абах Ходжа. Прекрасное здание мечети, построенное в его честь, расположено в центре обширного кладбища, где он похоронен, и является местом ежегодного паломничества тысяч поклонников. К сожалению, ни государственная его деятельность, ни личная жизнь не оправдывают того значения, которое уделяется его памяти. Он быстро передал власть иностранному правителю провинции Хай, то есть Кульдже, и, как многие его современники, забавлялся с наложницами и танцующими мальчиками, одевая их в шелк и обирая народ.
После смерти высокочтимого Абаха, страна свалилась на целый век в анархию, пока мир не был восстановлен завоевавшими вновь край китайцами, которые вели себя с обычной для них хитростью. Они использовали разногласия между соперничающими за власть религиозными группами и правителями различных провинций. Иногда они сознательно назначали в правители потерпевшего поражение, чтобы возбудить ненависть людей против него, а затем, когда их враг был достаточно ослаблен внутренними раздорами и интригами и не мог оказать эффективного сопротивления, против него применяли оружие.
В тоже время население Кашгара и Восточного Туркестана – древней Уйгурии, никогда не отличались единством, патриотизмом, гражданским мужеством или признанием общих интересов единой страны.
Хитрость, предательство, зависть, соперничество, эгоизм и подлость людей способствовали фатальныму исходу борьбы за свободу Кашгарии как государства, несмотря на благоприятные географические условия для существования независимой политической организации.
И все-таки, в течение девятнадцатого века было не менее четырех восстаний против китайской власти под руководством различных ходжей20, которые всегда находили убежище в Андижане. Ходжи организовывали повстанцев, а затем нападали на Кашгар, Яркенд, Хотан, убивали или изгоняли китайских чиновников и захватывали высшие посты в стране. Люди встречали своих спасителей от китайского ига с радостью, видя в ходжах свое собственное народное правоверное независимое «национальное правительство». Но требовалось всего несколько недель, и «освобожденный» народ начинал с тоской вспоминать китайские власти и китайскую администрацию, при которой они пользовались благословенным миром, спокойствием и свободной торговлей, что было невозможным в условиях хватких и сильных рук своих «освободителей». Захватывая власть, ходжи приступали к систематическому грабежу населения, и вели себя так, как будто они были в завоеванной стране. Экзекуции, пытки, жестокость любого рода для всех, кто не повиновался их приказам, становились еще хуже под собственными правителями, чем при китайской власти. Последнее восстание, возглавленное ходжой Вали Ханом в 1856 году, отличалось крайней жестокостью.
Оплакиваемый путешественник, Адольф Шлагинтвейт, который имел несчастье приехать в Кашгар в это время, как я уже упоминал, перед смертью подвергся жестоким пыткам.
В начале шестидесятых годов XIX века в Центральном Китае вспыхнуло восстание среди дунган – китайских мусульман, и быстро распространилась по всему Восточному Туркестану. В то время только небольшие русские силы всего в полторы тысячи человек под командованием генерала Черняева вступили в Западный Туркестан. Ташкент, а затем и часть Кокандского ханства (Ферганская область), защищал Aлимкул – главнокомандующий Худояр хана, который послал своего друга Бузург Ходжу в Кашгар на помощь своим единоверцам. Ходжа в то время занимал должность куш-беги21, то есть комиссара полиции, в Пскенте, в сорока километрах от Ташкента. Он взял с собой кокандского военачальника Якуб Бека, который в молодости был бача или танцевальным мальчиком, вроде мужского гейши, в чайхане. Вся сила их группы, которая вторглась в Кашгарию, состояла из шестидесяти шести воинов, но к ним присоединились беженцы из Ферганы и недовольные местные кашгарцы. Город Кашгар сдался без сопротивления. Это было в 1865 году, через год после того, как генерал Черняев взял Ташкент. Затем они осадили Янги Шаар, место амбаня или китайского губернатора, но взять крепость удалось только после предательства Хо Далая, который командовал гарнизоном. Он вступил в тайную переписку с Якуб Беком, и предложил сдать крепость и принять ислам, если ему, семье и слугам будет гарантирована безопасность и сохранят его имущество. Завершив сделку с Якуб Беком, Хо Далай послал весть амбаню. Амбань, шокированный изменой своего подчиненного, взорвал крепость и погиб в руинах вместе со своей семьей. Последователи Хо Далая, с тремя сотнями китайских и дунганских солдат, образовали как бы свиту Якуб Бека, и пользовались его покровительством и свободой. Но остальной город был отдан на семь дней солдатам на мародерство. На месте старой крепости амбаня, Якуб Бек построил себе урда или цитадель, и женился на дочери Хо Далая. Главнокомандующий войском Бузург Ходжа после таких быстрых и блестящих успехов расслабился, предался всем удовольствиям жизни и вел разгульную жизнь в своем гареме. Конечно же, он был легко свергнут Якуб Беком и брошен в тюрьму, но позже ему позволили вернуться обратно в Коканд – редкий случай помилования при азиатских обычаях.
Якуб Бек вскоре становится бесспорным хозяином всего Восточного Туркестана от Гоби до Тянь-Шаня. Он принимает титул эмира Мухаммеда Якуб Хана, Эмир-аль-мусульман – главный из истинно верующих. Он стал также называть себя Аталыком, то есть, защитником веры. Он признал султана Турции своим духовным защитником и просил разрешения от его имени издавать указы и помещать его имя на монетах.
Появление нового мощного мухаммеданского государства в Центральной Азии возбудили незамедлительное внимание в Лондоне и Санкт-Петербурге, и с обеих сторон были сразу отправлены посольства. Британцы преувеличивали значение Якуба Бека. Они относились к нему как к могущественному правителю обширной страны, подобной в свое время стране Тамерлана, но в глазах россиян он был только сартским авантюристом. В то время русские презрительно относились к ханам Коканда и Хивы и эмиру Бухары.
В России с удивлением читали о том, какое глубокое уважение члены посольства Форсайта в публичной церемонии проявили к молодому и жестокому деспоту, «Его Высочеству» Кули-Беку – сыну и наследнику Якуб Бека. Этот детеныш сарта, сын выскочки, шарлатана и бывшего танцевального мальчика, который начинал жизнь развлечениями посетителей чайханы, в своих нечеловеческих зверствах превзошел даже своего отца. Ему было тогда двадцать шесть лет и он пользовался репутацией у солдат. Провинции Урумчи и Манас, которые ему отец поручил покорить, он превращает в пустыню. Братья называли его Хан Кули Бек, их мать была киргизкой из рода кипчаков.
Жестокость и поборы правления Якуб хана постепенно провоцировали население Кашгара против своего «освободителя», а китайцы ловко использовали его растущую непопулярность. Китайская армия начала свое продвижение со стороны Гоби. Китайцы возвращали под свою власть города и провинции, восстанавливали порядок и справедливость. Они отменили все репрессивные меры и официальные налоги Якуба хана, хорошо относились к населению, освобождали военнопленных. Результатом этой хитрой политики было то, что население повсюду встречало китайцев с распростертыми объятиями, а войска Якуб хана были не прочь им сдаться.

