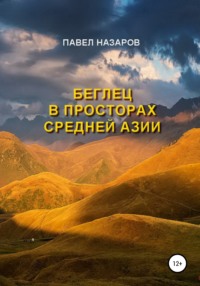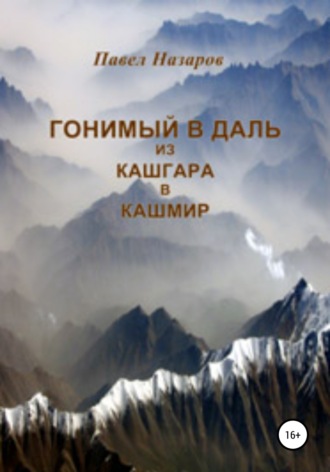
Гонимый в даль из Кашгара в Кашмир
Караван Хаджи Тунглинга остановился на первой же травянистой поляне, которая могла обеспечить приличным кормом всех его лошадей. «Твой караван ушел вперёд, – сказал он. – Ты догонишь его за поворотом».
Мне пришлось ехать дальше и снова, наверное, в двадцать первый раз за день переходить реку вброд, и как назло, на этот раз не без приключений. Река текла меж высоких крутых берегов, а дно устилала масса больших и малых валунов, которые были трудно различимы из-за быстрого течения; лошадям здесь ничего не стоило споткнуться. Именно это и случилось с жеребцом одного из моих погонщиков: он упал посреди потока, и быстрое течение не давало ему встать на ноги. Другие быстро пришли на помощь и с большим трудом вытащили животное на берег. Незадачливый мой погонщик получил холодную ванну, досталось и моей корзинке с чаем и обедом, что пребывала в его седельных сумках. К счастью, воды в реке было не очень много, иначе последствия могли бы оказаться куда более серьезными.

На переправе.( H. Lansdell,1893)[8]
В отличие от Хаджи Тунглинга, мой караванбаши выбрал для бивуака в ту ночь не столь удачное место, а именно – у подножия отвесной гранитной скалы на голом песке, который поднимался в воздух при малейшем дуновении ветра. Я сделал ему замечание за выбор столь пустынного места, где мы вынуждены были кормить овец из своих запасов, он же оправдывался тем, что на том клочке зелени, где встал караван Хаджи Тунглинга, находился крутого нрава некастрированный конь, который мог перекусать наших жеребцов. Сия причина, конечно, была не главной, а истинная заключалась в том, что здесь было удобное место, чтобы закопать запасы фуража на обратный путь, только хитрый караванбаши предпочел не говорить об этом.
Гранитная стена, что возвышалась над нами, была изрядно выветрена и размыта ниспадавшими сверху потоками, и её очертания стали весьма причудливы. На другом берегу ещё одна скала отсекала последние лучи заходящего солнца, и теснина, где расположился наш лагерь, начала погружаться в прохладные сумерки. Лошади стали в ряд, жуя свой ячмень, верблюды сбились в группы, а погонщики занялись приготовлением ежедневного пайка «пищевого концентрата» для верблюдов: они замешивали тесто из муки, маленькими комочками запихивали верблюдам в рот и бесцеремонно проталкивали руками прямо в горло, заботясь лишь о том, чтобы те не выплюнули его обратно.
Поднялся сильный ветер, и мелкая песчаная пыль сдобрила мой скудный ужин, засыпала мне глаза и заскрипела на зубах. Здесь вкусили мы сполна прелести путешествия через горные пустыни.
Утром во время завтрака увидел я большой караван верблюдов из Ак-Тага, вброд идущего через реку. Слышался храп верблюдов и крики погонщиков, их особые возгласы, что побуждают животных входить в воду и подбадривают их на переправе. Две большие чёрные собаки восседали с бесстрастным достоинством на спинах верблюдов, уклоняясь от не-приятного купания в холодной реке.
В тот день нам выпало пересечь реку восемь раз, и не раз наши лошади падали в воду и промачивали вьючные мешки. Особенно трудным и неприятным был третий по счёту брод, в месте, где гранитные берега жались друг к другу, и река мчалась по ущелью среди камней и валунов, разбросанных по руслу. Сначала пришлось пересекать поток напрямую, затем прокладывать путь среди камней вверх по течению, потом снова двигаться поперёк. Таковое маневрирование было тем более неприятным, что вызывало головокружение и создавало впечатление, будто лошадь стоит на месте, а скалистые берега проносятся мимо. Оступиться в таком месте было бы фатальным для коня и всадника, и оба неизбежно были бы увлечены в глубину или разбились бы вдребезги о скалы. Опасность усугублялась из-за наличия больших камней на дне и обломков скал, на которые лошадям приходилось выбираться из воды, а затем спрыгивать вниз по другую сторону, зачастую в ещё более глубокую воду. Погонщики прекрасно сознавали таковые опасности переправ и, пристально следя за обстановкой, вели своих животных с вящей осторожностью. Овцы, как правило, шли в обход опасных бродов по едва различимым козьим тропам на скалистых берегах. Зачастую и наш путь проходил по головокружительным карнизам высоко над рекой, над песчаными отмелями и скальными обрывами.
Наконец мы покинули гранитный пояс и попали в область кристаллических сланцев и филлитов227; долина расширилась, и появились альпийские луга с низкорослой травой. По бокам долины располагались обширные гравийные пласты, старые террасы, оставленные прежним течением реки, когда она была существенно более полноводной. Двигаясь далее, вышли к зелёным лугам с хорошей, сочной травой, полям ячменя и нескольким хижинам, обитатели которых были одеты как киргизы, но относились к так называемому арийскому типу. То было урочище-оазис Куйди-мазар (Kuidy Mazar), о котором я немало был наслышан от туземцев; они рассказывали, что здесь есть камни с суратами, (изображениями), и живут странные люди, не киргизы и не сарты. Г.У. Беллью также упоминает о камнях с рисунками в своем описании экспедиции Форсайта, и поэтому они меня особенно интересовали. Обозначенные палками, таковые располагались возле самой дороги, и проехать мимо них, не заметив, было невозможно. На крутой поверхности гранитного валуна, с чёрной пленкой «пустынного загара» грубо высечены контуры двух горных козлов и пяти человеческих рук с растопыренными пальцами. Истолковать этот петроглиф несложно: «Я убил двадцать пять горных козлов». Надписи такого рода часто встречаются в Алайском хребте, который отделяет Фергану от Алайской долины и Памира. Они попадались мне на перевалах Кугарт и Тенгизбай228, возле могильника Ходжа Такровут229 (Mazar Hodja-i-Takhraut) в Фергане, и в других районах, где живут кара-киргизы, то есть потомки древних саков или саяков. Правда, там рисунки более разнообразны: на Кугарте, кроме изображений горных козлов, есть фигурки людей с хвостами, а на Тенгизбае – петухов и др. Таковые рисунки весьма древние и, очевидно, относятся ко времени до арабского завоевания230.
Немногочисленные жители этой долины перебрались сюда, по их же словам, двадцать пять лет назад из Яркенда и переняли обычаи и образ жизни киргизов, стали разводить овец и выращивать ячмень. Примерно в одном дне пути к югу живут около двухсот семей того же рода-племени и занимаются садоводством, земледелием и разведением скота. Они зовутся Пакпо и относятся к одному из немногих племён таджиков, которые сохранили более или менее чистые признаки альпийской расы Homo alpinus, согласно исследованиям сэра Ауреля Стейна. Вообще, окрестные долины Памира с их реликтами эпохи великого переселения азиатских народов представляют собой богатое поле деятельности для антропологов, этнографов и археологов. В уединённой долине Каратегина, Валлис Коммедарум римлян, я встречал типы, которые могли бы сойти за оригиналы портретов древних греков в Национальной галерее Лондона. В одном только нашем караване можно было видеть смесь лиц всех мастей: брюнетов, сероглазых с каштановыми волосами, густобородых и безволосых; некоторые лица – тюркского типа, иные – чисто монгольские или арийские. В сущности то была смесь, типичная для населения Кашгарии, и было бы странно называть их всех монголами, как это делают некоторые современные авторы, не способные отличить тюркские народы от монгольских.
Вернемся, однако, к путешествию. Животные наши рады были вновь найти свежие пастбища, ибо не имели таковых на протяжении всего пути от Ак-Меджида. Однако и здесь, в Куйди-мазаре, трава росла лишь на самом дне долины, а горные склоны были совершенно голыми, ни куста, ни дерева. На вершинах гор, к югу от долины выпал снег. Стояла типично «апрельская» погода: то тихо и тёпло, даже с ярким солнечным светом, то вдруг налетит ветер, небо станет пасмурным, резко похолодает и зарядит дождь со снегом.
Местные жители торопились с уборкой ячменя. Я заметил, что у них серпы не такие, как в Туркестане, то есть не в виде маленькой косы, а в виде полумесяца. Животный мир скуден: пролетел какой-то лунь, несколько кекликов да парочка куликов прохаживалась у реки. Порадовала светлопёрая трясогузка, Motacilla luzoniensis, она что-то клевала около моей палатки; трясогузки вообще, похоже, есть повсюду, и всегда кажутся неразлучными и веселыми спутниками человека.
Во второй половине дня мимо нашего лагеря прошел караван паломников, возвращавшихся через Индию из Мекки. Их лошади были ужасно худы и явно измождены, однако чувствовали, что приближаются к дому и к хорошему корму, а потому героически шли вперёд. Лица паломников были обветрены и черны от загара. Среди них две женщины, закутанные с головы до ног, и маленький мальчик верхом на красивой кашмирской кобыле, элегантно одетый, в шапочке из лисьего меха – очевидно, сын каких-то богатых родителей. Был и знакомый мне сарт, возвращавшийся из Сринагара; я остановил его, чтобы отправить письмо моим друзьям в Кашгар и спросить о дороге.
«Для животных больше пастбищ не будет, – предупредил он, и тут же успокоил: а на Каракоруме ещё не очень холодно. В течение четырех дней ждет вас тутек, но потом всё будет хорошо».
На следующее утро мы встали рано и не без сожаления расстались с нашим последним лагерем среди зелени и людей. Через пару вёрст миновали гробницу святого, Куйди-мазар, а затем пустующий китайский форпост за высокой каменной стеной с массивными воротами на замке.
Ещё два дня мы ехали вдоль реки, часто переходя её вброд, и всё время медленно поднимались, иногда по скалам, осыпям и старым моренам, иногда по открытым ровным местам, где росла лишь скудная и редкая полынь. Казалось, что вершины гор вокруг становятся всё ниже, а снегу на них – всё больше. То тут, то там виднелись крошечные зелёные пятнышки альпийского луга и травянистых полянок близ родников.
В одном месте, возле устья бокового ущелья под названием Тургайл, в верховье которого имеется ледник, мы остановились пообедать на зелёном участке, где цвели голубые примулы, эдельвейсы, Leontopodium alpinum, и голубые подснежники. Это было единственное приятное место за все последовавшие дни. А повсюду виднелись лишь голые скалы, и лишь кое-где желтели клочки мха да редкой селитрянки Nitraria, превратившейся здесь из высокого кустарника в низко стелящееся растение. Даже клематис, не имея высоких деревьев, на которые мог бы забраться и окутать их своими стеблями и пухом вызревших соцветий, превратился здесь в ползучее растение; листья его прижались к земле, а на кончиках маленьких стеблей, словно одуванчики, белели шарики семян. Ещё попадался ревень, чьи розетки листьев выделялись тёмно-зелёными пятнами на осыпях сланца и гранита. На них, не защищенные растительностью и почвой, обломки камней, омываемые дождями, то замерзающие по ночам, то разогреваемые днём на солнце, выветриваются и превращаются в рыхлую корку и песок.
Наш последний лагерь перед перевалом находился в окружении расположенных совсем неподалёку заснеженных вершин, на высоте 4000 м, и на этой высоте мы уже чувствовали учащенное сердцебиение и одышку при малейшей нагрузке, особенно при ходьбе в гору. Лагерная поляна была сплошь покрыта камнями, и было непросто отыскать на ней место для палатки. Позади возвышался передовой снежный гребень Кунь-Луня, его вершины были скрыты облаками. Когда мы пробирались вверх по долинам и ущельям, то не заметили его огромной высоты. Завтра нам предстояло перейти Янги-Даван (Новый перевал) в самой низкой части хребта, а потом двигаться по долине реки Раскемдарья до высокогорного плато Каракорум.
В небе кружила стая коршунов; краснобрюхие горихвостки (Ruticilla erythrogaster) порхали по скалам – эти сопровождали нас на всём пути в тёплые края, хотя, конечно, были вовсе не те особи, что встречались нам в предгорьях, уж они-то к тому времени наверняка достигли Кашмира. Затруднюсь я также судить, та же ли это белая трясогузка прогуливалась возле моей палатки, что посетила меня в Куйди, или другая, столь же доверчивая и тяготеющая к человеческому жилищу. Весьма многочисленны были альпийские галки, чьи характерные звуки постоянно слышались в ущельях. Большие стаи скалистых голубей с белыми гузками летали вокруг; трудно сказать, почему они здесь более многочисленны, нежели в местах не столь бесплодных.
После захода солнца стало холодно, поднялся сильный ветер, и мне пришлось надеть теплые башмаки и рукавицы. Тут я вспомнил о бутылке красного вина, что приготовил ещё три года назад в Кашгаре, и кружка горячего глинтвейна, как нельзя лучше, согрела меня до глубины души. Ночью я почувствовал некоторое затруднение в дыхании, вызванное непривычкой к высоте.
Следующее утро выдалось холодным и туманным; свинцовые тучи нависли над вершинами; земля вымокла, а дорога стала грязной. Вначале долина была узка и забита скальными обломками, которые сорвались откуда-то сверху, и нашему каравану пришлось двигаться по нагромождениям валунов и камней; позже она несколько расширилась, и дно её стало ровнее. Гранит уступил место изверженным породам, среди которых я заметил порфирит, а затем появились пласты сильно смятых песчаников, наклоненные под углом около тридцати градусов.

Пер. Мазар, также называемый пер. Сайляк или Чирак Сальди231, находится между деревнями Куди и Мазар в уезде Каргалык. Современный вид. Фотоснимок иллюстрирует характер местности. (Nicolai Bangsgaard, 2006)[19]
Мы всё время поднимались, но подъём был не особенно крут. Долина продолжала расширяться, и справа, с западной стороны, к ней примкнула другая, в верховье которой виднелся снежный гребень. Место называется Чирак Салди, что значит: «(Они) поставили светильник». У него скверная репутация: здесь лежал путь в Хунзу, или Кунжут, бывшее разбойничье логовище, жители которого промышляли исключительно грабежом караванов и работорговлей. Немало крови и слёз пролито здесь, и многие лишились жизни, или, по крайней мере, своего имущества и свободы, будучи уведенными в плен по этой дороге в Хунзу и Нагар. Таковое положение дел сохранялось вплоть до 1891 года, когда экспедиция полковника Дюрана232 раз и навсегда покончила с разбоем, чинимым кунжутскими бандитами, и принесла благословенные мир, порядок и безопасность на великом пути Лех-Яркенд, из Индии в Китай. А до того, предвидя надвигающуюся беду и посягательства на их свободу со стороны Индии, атаманы Кунджута отправили посланников в Ташкент к генерал-губернатору Туркестана барону Вревскому233 с прошением о подданстве Великому Белому Царю, в расчёте, разумеется, на то, что русское правительство настолько отдалено, что не сможет воспрепятствовать их традиционному промыслу. Но делегатов ждало разочарование: барон Вревский развернул их назад с наказом безоговорочно подчиниться англо-индийскому радже. Превращение жестоких и кровожадных разбойников в законопослушных и мирных граждан не редкость. В Средней Азии есть пример метаморфозы столь же примечательный. Достаточно вспомнить о диких разбойниках-туркменах Закаспия во времена скитаний знаменитого Вамбери234. Сфера их «интересов» включала Персию, Каспийское побережье и Оренбургские степи. А после экспедиции генерала Скобелева и покорения Ахал-Теке235 туркмены стали мирными, верными и почтенными гражданами Российской империи, и русский человек, подчас, чувствовал себя куда спокойнее среди туркмен, нежели среди «мужиков» в своей стране.
Такие отвлечения и раздумья витали в моей голове, когда наш караван медленно поднимался к перевалу Янги-Даван. Подъём на седловину перевала со дна долины занял около часа. Горы вокруг абсолютно безжизненны, внизу конгломераты, выше известняки; местность усеяна большими известняковыми глыбами весом в несколько тонн каждая. Подъём в конце был очень крут, но тропа шла по мягкому грунту. Высота перевала над уровнем моря немалая, около 4800 м, и лошади, хотя мы часто останавливались, чтобы дать им отдышаться, шли с трудом.
На самом перевале нас встретили порывы сильного ледяного ветра, он пронизывал даже мою сибирскую меховую шапку-ушанку. Немыслимо было останавливаться здесь, чтобы хоть немного отдышаться, надо было как можно быстрее идти вниз. Широкий и пологий склон в скором времени сменился рядом неглубоких ложбин; солнце показало свой лик, и свинцовые тучи, что висели над горами, немного разошлись. Тропа нырнула в узкое ущелье, прорезанное в конгломератах, валуны и обломки камней загромоздили путь, и стало невозможно спускаться верхом, без риска сломать лошади ноги, а себе – шею. Поэтому я спешился и повел коня в поводу. В некоторых местах теснина была особенно узка и, словно некая западня для животных, усыпана костями лошадей и верблюдов. Появился ручей, конгломераты сменились глинистыми сланцами – и от того и от другого путь стал ещё хуже. Конечно, серицитовые и филлитовые сланцы, смятые и спрессованные, делали место очень интересным для геолога, но явились сущим проклятием для путника. Здесь иногда попадались кусочки лазурита, вымытые из какой-то жилы, но сколько я внимательно ни всматривался вокруг, не обнаружил никаких следов месторождения минерала, монополия на который ныне принадлежит Бадахшанской провинции в Афганистане.
В сланцевом поясе тропа запетляла по чрезвычайно узким карнизам, сплошь усеянным камнями, то спускаясь по осыпям, то снова поднимаясь высоко над руслом реки на почти вертикальные обрывы. «Упадешь – костей не соберешь» – гласит старая русская поговорка о таких местах, хотя, вряд ли можно отыскать подобные во всей огромной Российской империи. Узкое ущелье тянулось восемь-девять верст, но казалось бесконечным и выматывало как физически, так и морально. Бесконечная череда memento mori (напоминаний о смерти) в виде костей и скелетов, и необходимость внимательно следить за животными, держали нервы в постоянном напряжении.
В конце ущелья толщу сланцев прорезал толстый пласт жёлтого кварца, похожий на железную руду, с большой осыпью у основания; дальше было видно, как он простирается высоко вверх по противоположному склону горы. Затем овраг расширился, дно стало плоским, а берега превратились в вертикальные стены, прорезанные в стометровой толще плотного гравия. Изнурительный, долгий путь через сей нудный каменный буерак, где не было никаких признаков растительности, вконец измотал меня, колени болели, голова будто налилась свинцом. Поэтому я испытал огромное облегчение, когда в самом конце теснины увидел долину Раскемдарьи, протянувшуюся поперек нашего пути, то есть с востока на запад. Здесь она течет в довольно широкой долине, в окружении невысоких, совершенно безжизненных гор из песчаников и сланцев. Собственно долина представляет собой русло реки, заполненное гравием, а берега её суть склоны гор. Поток разбит на множество рукавов, отделенных друг от друга песчаными отмелями, где местами укоренились кустики тамариска; иной растительности нет в помине, ни единой травинки. В целом картина безрадостная: унылый и безжизненный пейзаж, выполненный в песочно-серых тонах; облака пыли, поднимаемые ветром, да горные вершины окрест, уже покрытые снегом.
Мы разбили лагерь на одной из песчаных отмелей среди нескольких жалких тамарисков, возле источника под названием Кулан Улди, что означает «(Здесь) умер дикий осёл». С запада долину закрывает конус вершины, а на другой стороне реки из боковой долины выступает другой – огромный «конус выноса» в виде веерообразной массы гальки, смытой вниз дождями и потоком, – явление, очень характерное для пустынных мест, где эрозия почвы не сдерживается растительностью.
Раскемдарья! Как часто название этой загадочной и труднодоступной реки, почти неведомой европейцам, будоражило моё воображение в дни моей юности, когда читал я рассказы о путешествиях по затаённым землям Центральной Азии, и вот теперь я здесь, в самом сердце континента, отмеченном безжизненностью, оторванностью от внешнего мира и опустошенностью! Природа здесь воистину бедна: обнаженные горы, песок да немного тамариска – вот и всё. И как это удивительно, что три года спустя я встретился с таким же пейзажем в совершенно другой части света, на Сан-Висенти236, одном из островов Зеленого Мыса! Когда я бродил там с моим добрым другом, доктором Бёрром, я был поражен сходством ландшафтов: всё было так же, как на Раскемдарье, те же голые, безжизненные горы, песок да волнистый тамариск. Одно только было различие: Раскемдарья находится в самой сердцевине континента Азии, так далеко от моря, как только возможно на Земле, а вулканический остров Сан-Висенти – в Атлантическом океане!

Излучина р. Яркенд (в верховьях – Раскемдарья). (rheins, 2015)[16]
Глава VIII. Крыша Мира
Нам предстояло ещё в течение трёх дней идти вверх по Раскем-дарье, до источника Куфеланг, а там покинуть долину этой мрачной реки и начать подъём на перевал Каракорум.
Утром, когда мы сворачивали лагерь и вьючили верблюдов, появилось семейство воронов, парочка старых и два молодых. Это был тибетский вид, Corvus tibetanus237, всегдашний спутник караванов на этом пути, надеющийся поживиться хоть чем-нибудь, а иногда и заполучить роскошный пир, когда умрет лошадь или верблюд. Иных птиц, кроме этих зловещих созданий, почти не было, лишь утром спугнул я какого-то, явно голодного, краснозобика, который прятался в кусте неподалеку, да ещё на реке плавал чирок, видимо, отставший от перелётной стаи. Не могу сказать точно, иным ли путём перелетели наши бывшие пернатые спутники через горы, или же они преодолели горный барьер одним махом.
Как правило, я предпочитал ехать впереди каравана в сопровождении одного из погонщиков, по туркестанскому обычаю, иногда в компании караванбаши. Во главе каравана всегда был чалый жеребец, за ним послушно следовали другие лошади, после них – ослы и, наконец, верблюды. Позади на некотором расстоянии шел караван Хаджи Тунглинга, чей красивый жеребец-вожак уже не проявлял на этих высотах своей былой прыти.
Долина реки очень извилистая; всё время казалось, что она закрыта впереди и сзади скальными барьерами, но по мере движения впереди открывалось её продолжение, и после поворота мы опять оказывались как будто в замкнутой котловине. Горы здесь состоят из сланцев, рассеченных многочисленными кварцевыми жилами. С обеих сторон к долине реки примыкают боковые ущелья, в их верховьях иногда виднеются ледники, их обширные морены спускаются к руслу реки огромными массами скальных обломков. Склоны покрыты осыпями разных цветов и оттенков: белыми, серыми, желтыми, серо-стальными, зеленоватыми, чёрными и т.д., в зависимости от цвета сланцев, интенсивному выветриванию и эрозии которых здесь не препятствует никакая растительность.
Несмотря на кажущееся однообразие местности, mise en scéne (мизансцена) постоянно менялась, быстро, но неуловимо. В основном караван шел по руслу реки, пересекал её вброд и спрямлял свой путь по излучинам берегов. Чистота воздуха поразительна, так что мельчайшие детали местности отчётливо видны, и трудно не ошибиться в оценке расстояний. Погода тоже изменчива: то яркое солнце на ясном небе, то налетают облака и бросают тень на горы, которые сразу же меняют свой оттенок, и весь пейзаж преображается.
Когда, бывало, внезапно поднимался пронзительно-холодный ветер, и вершины заволакивали свинцовые тучи, небо осыпало нас мелким, сухим снегом, и картина становилась по-зимнему суровой и унылой. Но стоило только облакам рассеяться, и засиять солнцу в тёмной синеве альпийского неба, как вершины начинали сверкать отполированным серебром снежного покрова. Тогда казалось, будто по мановению палочки волшебника переносишься в иной, сказочный мир, или наблюдаешь смену декораций в гигантском театре. Снег на склонах приобретал оттенок осыпи, но которую выпал; мрачная теснина казалась прекрасной горной дорогой, а скорбные мысли рассеивались в окружающем блеске, уступая место жизнерадостной уверенности. И такие перемены погоды, обстановки и чувств бывали по нескольку раз в день. Бывало и так, что всё вокруг окутает мёртвое спокойствие пустыни, и тогда во время отдыха можно слышать тиканье часов в своём кармане. А иногда в тишине откуда-то доносились отдалённые звуки, происхождение которых невозможно было определить. Однажды нас напугал подобный взрыву грохот, раздавшийся позади нас, и было видно, как столб пыли поднялся высоко в воздух – это большая скала откололась от массива и рухнула вниз.
На следующее утро мы проехали место под названием Суд-таш (Молочный камень), где видны были выход большого пласта кварца и старая выработка рядом с ним. Говорили, что раньше здесь добывали золото, что вполне вероятно, хотя в настоящее время коренные жители Туркестана, западного и восточного, утратили искусство добычи жильного золота. В Заалайском хребте, на южной стороне его, есть древний рудник238, где до сих пор сохранились большие гранитные ступы и жернова валковых мельниц для дробления золотоносного кварца. Согласно описаниям старых арабских географов239, эти выработки следует отнести к IX-X векам нашей эры, когда в Туркестане процветала горная промышленность.