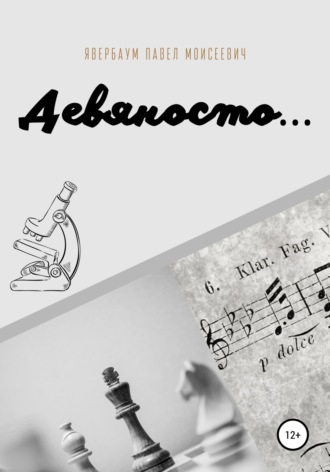
Девяносто…
И, наконец, третья – последняя в годы войны – поездка в деревню к дедушке Тихону в село Худоеланское. Это очень большое село почти на границе с Красноярским краем, в те времена оно растянулось километров так на 5 вдоль железной дороги. Дом дедушки был почти крайним в восточной части села. Дом был небольшой, он стоял на опушке леса. У дедушки во дворе была маленькая пасека и он часто угощал меня мёдом с сотами. Как это было вкусно! Была ещё корова и бычок, кличка которого была «мальчик». На этом бычке мы ездили в поле на покос (дедушка научил меня косить, мама, правда, тоже умела). Бычка мы впрягали в телегу, у которой не было оглоблей, а вместо них были веревки. Надо было на склонах слезать с телеги и придерживать её так, чтобы она не накатилась на бычка. Я так привык поддерживать телегу на спуске, что даже когда нас на вокзале встречал папа на пролетке, я пытался соскочить и придержать повозку, когда дорога шла под уклон.
Мне ещё запомнился соседский бык по кличке «Порос». Он был злой и забодал, как мне сказали, уже несколько человек. Его решили заколоть. Пришел сосед – молодой мужик, взял большую деревянную кувалду и ударил быка по лбу между рогами. Бык постоял несколько секунд и стал падать, передние ноги его подкосились, и он упал головой. Дальше я не смотрел – мне было неприятно, но вот так мы избавились от злого соседского быка.
В свободное время мы с дедушкой Тихоном обсуждали положение на фронте, знали, что война практически закончена, но всё-таки надеялись, что нам помогут союзники – откроют второй фронт – его ещё не было. Как-то мама сказала мне, что она может научить меня играть в шахматы, но шахмат не было, и мы втроём – дедушка, мама и я – сделаем шахматы из телеграфной ленты. Сделали катушечки – это было основание для всех фигур. Центр катушки выдавливали – получались пешки. Дедушка лобзиком выпилил головки коней, фигурки ладей, слонов, ферзей и королей. Белые фигурки мы покрасили голубой краской, а чёрные – тёмно-красной. Сделать доску было намного проще.
Отец перед войной любил слушать радиопередачи, и как только в продаже появлялась новая модель радиоприёмника, он старался купить, а потом менял эту модель на лучшую. Предыдущую модель у отца покупал муж бабушкиной сестры – дядя Лёля. Я даже запомнил марки этих, наверное, первых советских радиоприёмников: МС-539, 6Н-1. Последний радиоприёмник 6Н-1 был просто замечательный для того времени. Расшифровывалась эта аббревиатура – шестиламповый настольный первого выпуска. Вот его-то нам пришлось сдать сразу же после начала войны. После войны приёмники всем вернули (правда, нам вернули другую модель, но тоже хорошую). В военные годы остался у нас на кухне громкоговоритель – черная тарелка с регулятором громкости – и мы слушали последние известия и музыку.
Если шахматы, музыка и автомобиль прочно и надолго вошли в мою жизнь, то другие интересы со временем забылись. О них стоит немного рассказать – это радиолюбительство и фотография. Интерес к радиоприемникам у меня возник перед началом войны. Когда война началась, у всех изъяли радиоаппаратуру и дали обязательство вернуть после разгрома Германии. И вот война подходила к концу; мой товарищ по классу Сережа Кошкин увлекся радиоделом, меня тоже заинтересовало это занятие.
И вот почему-то в конце войны у меня оказалась книга «Юный радиолюбитель» (автор Швецов). Она была вся растрёпанная, каких-то страниц не хватало, но раздел как изготовить приёмник с «обратной связью» в книжке был цел. Каким-то образом у нас с Серёжей оказались журналы «Радио» (название может быть и другое, я не помню), и мы ими зачитывались. Собрать детекторный приёмник было сложно – отсутствовали части, но один мы собрали – приёмник с обратной связью (так называлось это техническое устройство). Пару дней мой приемник посвистывал и похрюкивал. Сережа лучше меня разбирался в тонкостях монтажа. Его устройство как-то работало лучше. Потом закончилась война и приёмники можно было свободно купить в радиомагазинах.
А с Серёжей случилась страшная беда. Его отец был крупный банковский работник и вместе с фронтом продвигался к городу Рига, где должен быть управляющим Госбанком. Но перед взятием Риги его смертельно ранило, и он погиб. И вот Серёжа, его мать и старший брат остались без материальной помощи и вынуждены были освободить служебную квартиру. Дальше были большие трудности; семья переехала в Бурятию, Сережа там закончил ветеринарный техникум. Как эта семья дальше жила – мне неизвестно.
Второй друг по Школе Игорь Кобелев. Его судьба сложилась трагично. Он жил с матерью в небольшом особнячке на улице Горького. Его отец (так же, как отец Серёжи Кошкина) вместе с войсками Южного фронта продвигался к Одессе, где должен был возглавлять областной комитет ВКП(б). Игорь в освобожденном от немцев городе бегал по улицам, дворам и чердакам. На одном из чердаков увидел немецкую бомбу, стал её рассматривать, и она взорвалась. Игорю оторвало руку. Историю Игоря мне рассказал ещё один мой одноклассник Юрий Тржцинский.
В то время у меня возник интерес к фотографии. Первый фотоаппарат, который я держал в руках, был «Фотокор». Им премировали моего отца, когда он ещё работал в Черемхово. Это был довольно большой прибор, объектив и корпус которого соединялся «гармошкой», мог стоять на специальном штативе, фотография делалась на светочувствительные стеклянные пластины, каждая пластина вставлялась в кассету, которая укреплялась в задней части «гармошки». Дальше – как обычно наводили снимок на «резкость» и через тросик «щелкали» затвор. На коробке стеклянных пластинок было нанесено значение светочувствительности и в зависимости от освещения объекта выбиралась выдержка (время открытия затвора).
Проявлять пластинку было неудобно. Затем на пластинку накладывали фотобумагу и через негатив – пластинку засвечивали лампой. Потом бумагу проявляли. Конечно, такая процедура для любителя не подходит – очень уж много действий. Кстати, проявляющий раствор (метол-гидрохинон) и закрепитель (гипосульфит натрия) приходилось готовить самому. Затем у меня появился ФЭД-объектив, у него был немецкий «эльмар». Он служил мне долго и верно, но эльмаровский объектив был слишком «мягким» – фотографии получались не контрастные. Но я сделал много хороших снимков, один из которых помещен в газете «Восточно-Сибирская правда» – снимок урока фортепиано в музыкальном училище.
Фотографированию в раннюю пору учебы в мединституте меня учил и помогал очень хороший парень – сосед по дому Юра Копылов. Он учился в госуниверситете, был Сталинский стипендиат, замечательный человек и отличный фотограф. После окончания университета он уехал в Москву, защитил кандидатскую диссертацию, жил в каком-то населенном пункте под Москвой. Я, будучи в Москве в конце 50-х годов заехал к нему, поговорили, расстались и больше уже не виделись.
Потом у меня интерес к фотографии постепенно снижался, но я сделал фотоальбомы старшего и младшего сыновей, а также альбомы нескольких путешествий, о которых я обязательно подробно напишу. Среднюю школу я закончил удачно – получил серебряную медаль. Только за сочинение (тему – сколько я ни бился, сейчас не вспомнил) сказали, что получил 4 за то, что много было помарок и подчисток резинкой.
В школьные годы дружил я с Аликом Суманеевым, Арнольдом Мордовским, Гришей Друговым и, конечно, Юрой Тржцинским. В 4–5 классе мы, в основном, играли в «три мушкетера» (этими героями Дюма увлекались, вероятно, около 100 процентов подростков). Д’Артаньяном был Суманеев, я – Атосом, кто-то Арамисом, не помню – кажется, Гриша Другов.
После окончания школы я больше не встречался с Суманеевым; где он и что с ним – я не знаю. Нолька Мордовский – мой сосед по парте – мечтал о военной карьере – хотел стать танкистом. Кажется, это и сбылось. Кто-то говорил, что он служил в Белоруссии, Гришка Другов окончил горный институт в Иркутске, защитил кандидатскую диссертацию. Его сын – невропатолог, работает в одной из поликлиник города. А вот с Юрой Тржцинским случилась беда – он заболел лейкозом. Работал он в институте земной коры РАН, защитил кандидатскую и докторскую диссертацию, стал профессором, но с лейкозом справиться не смог.
О последних школьных годах. В 1948 году меня выбрали секретарём комитета ВЛКСМ школы. До этой должности я был редактором стенгазеты «Вперёд». Из всех предметов мне нравилась химия. Уроки вел Владимир Захарович Коган. Вероятно, он заронил в меня искру к той интереснейшей науке и, тем самым, «намекнул» на выбор профессии. Одновременно я учился в музыкальной школе, но об этом – потом. А пока – что помню.
Помню, что мы маленькие, да и повзрослевшие играли на улицу в две дворовые игры – «пожар» и «зоску». Пожар – это игра на деньги. Около забора ставилась стопка монет – серебряных и медных – одна монета на другую. Один из играющих брал кольцо – обычно наружную часть шарикоподшипника диаметром примерно 10 см, и с расстояния около 2 метров бросал это кольцо в стопку монет, и стопка разваливалась. Затем кольцом надо было ударить монетку на земле. Если она подскочит и перевернётся, то играющий её забирает. Эта игра почему-то называлась «пожар».
Другая забава – брали кусок собачьей кожи от дохлой собаки – обязательно с большим количеством волос, с обратной стороны – там, где волос не было, – небольшой свинцовый кусочек – пластинку, потом эту шкуру подкидывали вверх и ногой (правой или левой, какой удавалось) старались стопой эту собачью шкурку – «зоску» удержать в воздухе, не давая ей упасть, подкидывая её всё время ногой.
Вечером я заходил во Дворец пионеров в шахматный кружок. Однажды все ребята стали куда-то собираться уходить, и меня тоже позвали. Ушли мы от Дворца пионеров далеко – примерно 2 км в сторону медицинского института. Там, на пустыре, недалеко от университета стояла деревянная развалюха – это был городской шахматный клуб. Там начинался какой-то блицтурнир, и я тоже сам играл пятиминутки. Заигрался и совсем забыл про время. А папа с мамой меня искали, где только могли. Наверно, кто-то сказал отцу, что, возможно, я ушел в шахматный клуб. Отец разбудил сторожа вендиспансера, велел ему запрягать коня в сани и с мамой часа в 3 ночи приехал за мной в шахматный клуб. Помню, что меня почему-то не наказали.
В последнем – 7 классе музыкальной школы меня оставили на второй год. В средней школе я перешел в 9 класс – учился достаточно хорошо. В летние каникулы – июль-август – я с родителями отдыхал на курорте «Ангара». Учительница музыки – добрая и хорошая женщина – дала мне программу, которую я был должен выучить за лето, т. е. я должен быть дома, где было пианино, и зубрить Баха и что-то другое. Для меня это было равноценно рабскому труду. Я всячески увиливал от занятий музыкой, мне это за 7 лет дико надоело, и я не знал, какими слезами это закончится.
И вдруг свершилось чудо. «Как это случилось, в какие вечера»? Вместе с моими родителями во ФТИ (т. е. в физиотерапевтическом институте, иначе – по-теперешнему на курорте «Ангара») лечилась одна женщина – Нина Болеславовна Игнатьева, и что-то было у нее с рукой – какой-то гнойник. Мама весной этого же года сделала ей операцию, которая была проста, но крайне опасна, если будут послеоперационные осложнения или – не дай бог – может быть гангрена.
Нина Болеславовна была фантастически-угрожающе красива. Её тонкие черты лица, умные глаза, обворожительная улыбка сочетались с немного грустным общим обликом. Вероятно, это была моя первая любовь, я её боготворил как личность – посмотрели бы как она каждый день водила на приём пищи в курортную столовую слепого мужчину, брала его под руку и вела. С её стороны не было никакого превосходства, никакой показухи, это богиня исполняла свой долг.
У неё была дочь – тоже Нина. Дочь закончила музучилище по классу фортепиано и была старше меня лет на 5–6. Она была красива, вокруг неё крутились парни. К ней часто приходил молодой композитор – Юрий Дмитриевич Матвеев, играл свою – совсем не плохую – музыку. Он написал вместе с поэтом Юрием Левитанским, наверное, самую первую песню об Иркутске (она редко сейчас исполняется, а жаль). Нина и её маленький сын погибли при крушении самолета.
Вот прошло уже больше 70 лет, но я не могу забыть Нины Болеславовны. Она в совершенстве владела фортепиано, работала аккомпаниатором в филармонии, слух у нее был «нечеловеческий». Она могла транспонировать в любую тональность – прямо с листа. Прямо с листа она мне играла прелюдии Рахманинова, сонаты Бетховена и рассказывала, что автор хотел показать своей музыкой и что получилось. На переэкзаменовку мне досталась «Весна» Грига, какие-то этюды, ну и, конечно, полифония. Как она мне всё это показывала, любые оттенки настроения автора, и говорила, что этой музыкой автор хотел показать.
Сначала эта семья – Н.Б. Игнатьевой и её сестры Куровской – жила на предмостной площади в начале улицы Степана Разина. И вот однажды зимой 1948 года – я это событие хорошо помню (может быть, год я чуть-чуть указал не тот) наступило наводнение Ангары. Наводнение этой реки зимой – большая редкость – обычно река не замерзала, т. к. течение было быстрое, а тут вдруг сильнейшие январские морозы и Ангара начала замерзать снизу со дна. Лёд появился над поверхностью воды и торчал как острые пирамиды. Течение замедлилось, и река стала выходить из берегов. Вода дошла почти до нашего дома – до улицы Желябова, потом, когда чуточку потеплело, вода стала спадать. Так было, если я не ошибаюсь, 2 раза. Многие деревянные постройки около ангарского моста сильно пострадали, жителей из таких домой вывозили на танках.
Семье Игнатьевой и Куровской дали комнаты в постоянной половине гостиницы «Сибирь». Основные мои контакты с Ниной Болеславовной после возвращения из курорта происходили именно в этой гостинице.
Вот новый учебный год. Для меня – 8 класс общеобразовательной школы и 7 повторный (и последний) класс детской музыкальной школы. Обе эти школы прошли удачно. Я перешел в 9 класс общеобразовательной школы и закончил, наконец, ДМШ. Близилось окончание средней школы. А музыка? После всего, что дала мне Нина Болеславовна? И я тогда написал заявление на зачисление меня на 1 курс Иркутского музыкального училища на фортепианное отделение и очень просил записать меня в класс Татьяны Гуговны Бендлин. Это была замечательная женщина. Она жила со своей мамой, недалеко от нашего дома (на улице Некрасова), работала в музыкальном училище и в областном радиокомитете – пианисткой. Её маме было сильно за 80, а ей – трудно сказать, сколько, может быть лет 35. Этот человек оставил в моей жизни тоже заметный след. К Татьяне Гуговне я чувствовал безграничное уважение, связанное с её исполнительской деятельностью. Я восхищался, когда она играла. Она ходила со своими ученика, в том числе и со мной, в студию Областного радиокомитета на прослушивание исполнения приехавших на гастроли известных пианистов, например Наума Штаркмана. Наверно, если бы меня не записали при переводе из школы в музучилище в класс Бендлин, то я бы вообще не стал продолжать обучение.
Музыкальный Иркутск и музыка в моей жизни
В Иркутске в то время не было еще филармонии. Симфонический оркестр был, но он принадлежал радиокомитету. Дирижером был Василий Алексеевич Патрушев. Вот в этом оркестре солисткой была Татьяна Гуговна. Она играла – это транслировали по радио – концерты для фортепиано с оркестром Э. Грига, П.И. Чайковского (второй) и что-то ещё. Но как она исполняла эти произведения! В оба эти концерта она вкладывала свою душу, своё понимание произведения. Она согласилась взять меня в свой класс. А оркестр радиокомитета стал давать концерты в помещении педагогического института, который был как раз напротив нашего дома. Постепенно создалась Иркутская филармония; к театру музыкальной комедии пристроили концертный зал, где мог играть оркестр. Зрительный зал был достаточно большой и концерты в 50-е годы были очень часто. Много приезжало музыкантов из Москвы – пианистов, скрипачей, вокалистов. Выступали соло и с оркестром.
Замечательно исполняла концерт для голоса с оркестром Глиера певица из радиокомитета Ревека Пасвольская – маленького роста женщина с хорошим колоратурным сопрано. До сих пор я помню эту музыку – она очень мне нравилась. Жаль, что сейчас это произведение редко исполняется. Выступал и баритон Туполев, но с оркестром в концертах он выступал редко, по радио же он пел частенько. Был замечательный скрипач – Лев Юрьевич Рештейн (первая скрипка) – концертмейстер оркестра, играл он иногда и соло. О музыкальной жизни, в частности, об оркестре и солистах иркутянах и приезжавших на гастроли – я ещё буду писать и дальше я вернусь к этой важнейшей теме, т. к. это веха в культурной жизни Иркутска, это большой труд коллектива филармонии, руководства города в деле культурного воспитания иркутской молодёжи. Кстати, студентам музыкального училища преподавателями рекомендовалось посещение всех концертов филармонии, для чего выписывались пропуска.
Несколько слов об Иркутской филармонии. Посещение этого культурного заведения въелось в мою память на много лет до конца жизни. В юности и зрелые годы мы с Нелей посещали концерты очень часто. Я помню, что однажды в день рождения моего отца, мы тихонько улизнули из дома на час, в филармонии давал концерт какой-то известный скрипач из Москвы, исполнялся концерт Бетховена. Конечно, наше исчезновение было замечено, но мы успели вернуться и присоединиться к празднеству.
Запомнился концерт Святослава Рихтера (где-то в 80-х). Он играл много вещей, одна из которых соната Прокофьева (6-я или 7-я). Это была необычная и страшная музыка. После концерта мы зашли в комнату, где находился Рихтер, с группой детей 12–15 лет. Они спросили Святослава Теофиловича, о чем говорит эта музыка. Рихтер ответил: «Дракон пожирает детей!».
Познакомился я с некоторыми дирижёрами из других городов. Например, с Мартыном Сааковичем Нерсесяном. Не помню, как это получилось. Он был известным музыкантом, дирижировал многими оркестрами, в т. ч. в 70-х годах дирижировал оркестром кинематографии в Москве (который участвовал в музыкальном сопровождении известного фильма «Семнадцать мгновений весны», 1973). Я пригласил его посмотреть окрестности Иркутска, и в свободный для него день мы с Нелей повезли Нерсесяна по Култукскому тракту. Это было зимой, дорога в горах была очень красива. Вдруг машина забарахлила на перевале через Саяны, и я решил не рисковать-дело было уже к вечеру, и мы развернулись в обратном направлении. Дома нас ждал накрытый стол. В то время в стране был безалкогольный год, но я как-то умудрился достать (тогда все что-нибудь где-то доставали) пару бутылок коньяка. Я этим гордился: «сумел достать»! Но какое же это было пойло! Мне перед Нерсесяном было стыдно…Потом, через несколько лет приехав в Москву, я попал на концерт, где дирижировал Мартин Саакович. После концерта мы встретились, поговорили о жизни и о музыке.
Ещё одно знакомство – с Павлом Арнольдовичем Ядых, Народным артистом РСФСР, известным в стране дирижером, он руководил Государственной филармонией Осетии в г. Владикавказе (г. Орджоникидзе в советское время) с 1959-го до своего ухода из жизни в 2000 м, много гастролировал по стране. А познакомился я с ним так. В то время в нашем мединституте на кафедру факультетской терапии подал на конкурс на должность заведующего доктор медицинских наук Леонид Михайлович Мосин. Он прошел по конкурсу, получил звание профессора, мы как-то с ним сдружились, но вскоре он уехал обратно в родной Владикавказ. Ядых лечился у Мосина и как-то в разговоре сказал, что едет дирижировать в Иркутск. Мосин обрадовался и передал с Ядых сувениры для меня. Несколько раз Павел Арнольдович бывал у нас дома, мы ходили в ресторан, ездили на нашу дачу, на Байкал, поднимались с ним на пик Черского в посёлке Лиственничном, говорили о музыке, обсуждали Московские новости – в те дни Ельцин демонстративно вышел из КПСС, и начался распад Советского Союза. В дальнейшем Ядых еще несколько раз приезжал в Иркутск, и мы его с радостью встречали. Он был старше меня, я его запомнил, как умного и очень любящего жизнь и музыку человека.
Запомнились мне гастроли пианиста и международного гроссмейстера (!) Марка Тайманова и Лидии Брук на двух роялях. Они блестяще исполнили несколько произведений, среди которых сверкнула «Бразильера». После концерта я поехал с Таймановым в телецентр на передачу «Телевизионный шахматный клуб», где выступил Марк Евгеньевич, т. к. в ближайшие дни он улетал в Ванкувер, где должен был сыграть матч претендентов на первенство мира по шахматам с восходящей звездой Робертом Фишером. Для любителей шахмат в Иркутске это было событием – встреча с таким человеком. (О телевизионном шахматном клубе я расскажу позднее).
Был ещё замечательный иркутский пианист Михаил Леонидович Клейн. Он закончил Московскую консерваторию и вернулся в Иркутск, был солистом Иркутской областной филармонии. Клейны – известная семья в Иркутске. Отец Миши был заместителем директора завода тяжелого машиностроения имени Куйбышева. На этом заводе делались драги для золотопромышленности (я помню времена, как раздавался гудок на весь город о начале рабочего дня и об его окончании). Теперь этого завода уже нет, корпуса снесли, на их месте вырос большой торговый комплекс, и он продолжает разрастаться. Наши отцы дружили, и я был хорошо знаком с Михаилом. Я с грустью узнал о трагической смерти музыканта в 2017-м. Михаил Клейн выступал на творческом вечере в органном зале филармонии, и у него случился инфаркт прямо во время концерта. Его пытались спасти, оказывая первую помощь, присутствовавшие на концерте врачи, но скорая ехала слишком долго, помочь не удалось. Михаилу Леонидовичу было 71 год. Он очень любил профессию. Я помню, что он рассказывал в молодости, что его учитель Мержанов очень просил военкомат дать ему отсрочку от армии, т. к. Михаил учился в консерватории. Но в армию пришлось идти. Когда его забрали в армию, он там упражнялся на столе, на доске за неимением инструмента, чтобы не растерять навыки.
Несколько слов о лекторе филармонии Владимире Фёдоровиче Сухиненко. Это был «человек-гора» – так его называли за огромные знания музыки во всех её сферах. Он был пианист, отличный преподаватель, великолепно знал музыкальную литературу и теорию музыки, знал всё обо всех инструментах оркестра. Работал на иркутском радио главным редактором музыкальных программ. Его пояснения к исполняемой музыке перед концертами всегда были интересны и поучительны.
Однажды в филармонии летом 1974 мне удалось попасть на выступление Вольфа Мессинга, известного телепата, я и я написал ему записку с заданием примерно такого содержания: «Подойти к шестому ряду, третьему месту, взять сумку у женщины, которая сидит на этом месте. Открыть сумку и взять купюру 50 рублей. Подойти к четвертому месту в седьмом ряду, разменять деньги на пять по десять рублей и вернуть их первой женщине в шестом ряду». Ассистент Мессинга взял эту бумажку, прочитал, положил в карман, но Мессингу не передал. Так я не смог проверить чудесный дар артиста.
В последние годы войны я с мамой часто ходил в театры – юного зрителя, музыкальной комедии, драматический театр. В то время в Иркутске работал эвакуированный из Украины Киевский оперный театр. Мы с мамой слушали в нем две оперы: «Запорожец за Дунаем» и «Евгений Онегин». Замечательные оперетты мы смотрели в театре музыкальной комедии – «Марицу», «Сильву», помню забытую сегодня оперетту композитора Рябова «Коломбина». В ТЮЗе мы смотрели отличные постановки: «Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Тайна острова Блюменталь» и др.
Музыкальное училище и детская муз. школа – находились по ул. Степана Разина в двух зданиях – деревянном и каменном. В деревянном доме была детская музыкальная школа, а в каменном – музыкальное училище. Директором этих учебных заведений был мужчина по фамилии Беляев. Я его видел редко, видимо, ему хватало административных забот. В детской музыкальной школе командовала весьма пожилая женщина – Ольга Эвертовна Сиббуль. А в училище – Елена Владимировна Савинова: средних лет женщина, достаточно требовательная и строгая. В училище она вела предметы: гармонию и сольфеджио. В муз. школе со мной «мучилась» очень симпатичная Нина Михайловна Полякова. Уроки, как правило, проходили у неё дома. Жила она на ул. Халтурина, недалеко от нашего дома. Она была спокойной женщиной. Её муж работал фотографом. У них росла дочь Марина, в которую я был немного влюблен. Марина была старше меня на один год и на меня не обращала никакого внимания. Моя влюбленность быстро прошла, у Марины уже была своя компания, и я её видел редко. После окончания средней школы она уехала куда-то на запад – в Москву или Ленинград, и мы практически не виделись.
Учился я игре на фортепиано плохо. Нина Михайловна оставила меня в шестом классе на второй год. В это лето на каникулах я познакомился с Ниной Болеславовной Игнатьевой, которая совершенно перевернула моё отношение к музыке. Вот всё, что я могу написать про учебу в музыкальной школе.

