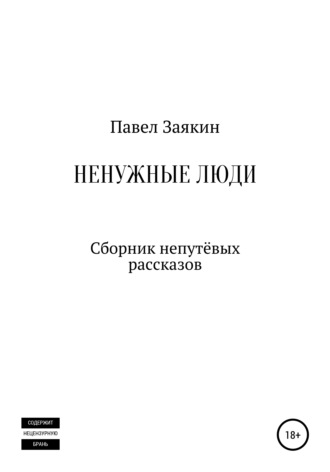
Ненужные люди. Сборник непутевых рассказов
Я не выдержал и перебил Берту Яковлевну: «Вот это да! На скалах надпись о смерти Сталина – дело рук Иссы? Она до сих пор отлично видна! Только там не «сдох», а «умер» ведь». Берта Яковлевна усмехнулась, достала вторую папироску, прикурила от зажигалки, выдохнула с дымом: «Это я его уговорила так написать. Сказала, если кто увидит, можно сказать, что мы так скорбь выражали. Но видели бы вы наши лица! Какая там скорбь? Даже я упросила Иссу дать мне выбить одну буковку. Самая кривая и маленькая, зато потом, когда я приходила туда на надпись посмотреть, всегда эту букву узнавала: как мучилась, её выбивая, и как нож вниз уронила, когда по пальцам себе камнем попала, а Иссе пришлось вниз лезть и нож искать».
Мы опять посидели в молчании минуту. «А… дальше что было?» – не выдержал я.
«Дальше было ещё три года. Где-то что-то, наверное, и происходило, в городах больших, но не в Красных Камнях. Тут время застыло, как сливки под сепаратором. Мы, конечно, ждали реабилитации. Отца уже не ждали – поняли, что он не вернётся. А реабилитации ждали, хотели уехать отсюда, вырваться из этих сливок. Фрида школу закончила раньше на год, в доярки пошла. И стала к тёте Марте всё чаще бегать, помогать ей хоронить да иногда крестить, да молитвы читать на праздники. А бабушка Эмма умерла вскоре после товарища Сталина.
А мы… Учились. Потом работали на ферме. Исса освоил трактор и грузовик. Когда были танцы в клубе, мы стали туда ходить с ним, но там его всё время задирали, редко без драки обходилось. И на скалы мы, конечно, ходили всё время лето за летом. Лежали на камне, смотрели в небо, мечтали о будущем. Исса мне всё рассказывал про свои горы, как он дом нам построит, как мы жить будем в нём. И мне так хотелось верить в это всё, что ещё будет время для жизни. Для счастья. Но что мы о счастье знали, бесправные?
Знаете, пастор, немцы говорят: Ein Staat ohne Recht ist wie ein Leib ohne Seele. – Государство без права – что тело без души. А может быть государство не только без права, но и без души? Иногда мне кажется, что это государство всё время питалось нами. Требовало и требовало жертвы – сначала сожрало где-то отца, потом мать с маленькой Ренатой, потом пожевало сестру Фриду. Сломало жизнь тысячам семей, немцам, чеченцам, ингушам… А я… Я жила в ожидании своей очереди. Всю жизнь ждала, когда же придёт время и мне лезть на лопату к злой ведьме в этом совсем не пряничном доме. Боялась смотреть людям в глаза, боялась любить, боялась жить. Всё ждала своей «трудармии». Оглянулась – а всё и закончилось, жизнь прожита…»
Мы опять замолчали под потемневшим небом. Солнце совсем закатилось за скалы, после жаркого дня пришла благословенная прохлада. Я знал, что в пятьдесят шестом чеченцам и ингушам отменили все ограничения, правда, без права возвращения. А в пятьдесят седьмом они смогли поехать на Кавказ. Берта Яковлевна кивнула, когда я сказал об этом.
«Да, так и было, в пятьдесят шестом. И бабушка Билкис сказала дочери и внуку, что хочет умереть на родине. Что там сделал Исса, в какие он кабинеты сходил, но бумагу на возвращение получил, еще за год до того времени, когда ингушам разрешили ехать на Кавказ обратно.
А потом было начало сентября. Красиво, как всегда здесь ранней осенью. Было очень тепло, по-летнему. Мы с Иссой в последний раз взобрались на тот «сундук» на скалах, смотрели на заходящее солнце. Он говорил, что обязательно за мной вернётся, сделает и мне документы и увезёт меня к себе в деревню. Говорил, что раз их отпускают, то скоро и нас реабилитируют.
А наутро он уехал. Со всей своей семьей, с мамой Зарой и бабушкой Билкис, которая хотела умереть на родине. А мы с Фридой остались вдвоём в нашей землянке. А ближе к зиме я замуж вышла, за Ваню Марьясова, нашего одноклассника. Очень он меня любил, ещё со школы. Исса его ревновал жутко ко мне, даже подрались они раз, но потом друзьями стали. Часто мы даже втроём гуляли. Да, жизнь такая странная штука…
А потом всё было, как у всех, ничего интересного. Иван забрал меня к себе в дом, а Фрида переехала к тёте Марте в её развалюшку, и Иван всё время её чинил. А в мае родилась Вера – так моя жизнь здесь и сложилась. Работала: то на ферме, то, вахтой, в ваших Шахтах, поварила, и каждый свой отъезд из Красных камней отмечала у комендантов. Уже все смеялись: мол, какие вы фашисты, давно пора всё это отменить. А отменили только в семьдесят втором, мне тогда было… да, тридцать пять. Повёз нас с Фридой муж Ваня на следующий год на нашу родину, в Карпёнки. Волновались мы очень, когда ехали, ведь так далеко никогда не выезжали, с тех пор как нас выслали. Веру, конечно, с тётей Мартой оставили. Приехали поездом, да на перекладных от Саратова добрались до села, до речки Ерусланки. Ходим по селу и не узнаём ничего. Дошли до речки Ерусланки, сели на бережку, плачем. Фрида и говорит мне: «Поехали, Берта, домой?» Так я и поняла, что дом наш уже тут, в Красных Камнях. Вернулись и больше туда не ездили.
Вы, пастор, наверное, хотите меня спросить про Иссу? Ничего я о нём не знаю, кроме того, что он добрался до своего Кавказа. Писал он мне. Да только замужем я уже была. И Верочка… В общем, не сложилось. Дом мой теперь здесь, и мама тут похоронена с Ренатой, и Фрида. Да, Фрида умерла в восемьдесят восьмом. Пневмония, осложнения. Замуж она так и не вышла, схоронила всех наших бабушек, потом выучила Отто Францевича, который вернулся с «трудармии», молитву служить; он стал нашим первым старостой общины. А я уже учила Генриха… Так что – не всё зря, да пастор?»
6.
«Всемогущий Бог возродил тебя водою и Духом Святым для жизни вечной. Да завершит Он дело, начатое в святом крещении…» В моих руках небольшая фарфоровая чашка с отбитой ручкой, в ней вода. Я кроплю тело Берты Яковлевны из этой чашки, пальцы мои дрожат. Холодно. Капли ложатся на её лицо, собираются в морщинах, похожие на слёзы. А ведь я ни разу не видел, как она плачет. Как шутит и смеётся – видел; как хлопочет у плиты, как сидит на лавочке задумчиво с папиросой – тоже. А вот слёз на её глазах не видел никогда. Даже когда её парализовало после инсульта.
Я отхожу в сторону, давая людям проститься. Бабушки, кряхтя, встают со своих нагретых мест, идут ко гробу, трогают Бертины руки, сложенные на груди, кто-то целует её в лоб. Вера, в сером пальто и чёрном платке, задумчиво смотрит в окно, затянутое снежным узором. На подоконнике цветок алоэ в горшке совсем замёрз, я выливаю в него оставшуюся в чашке освящённую воду, верчу чашку в руках, мелькает золотистый ободок и розы, крест-накрест. Когда все выходят, я подхожу ко гробу и кладу чашку рядом с Бертой Яковлевной, под покрывало. Коля и Саня легко поднимают деревянный ящик, обитый тканью, выносят его во двор. Там уже ждёт телега, лошадь косится на старух и фыркает белым морозным паром. Спасибо дяде Васе (нет, не тому, конечно!), что помог с ритуальным транспортом. Телега укрыта чёрной тканью, а под ней – солома. Как приехала сюда Берта Яковлевна, так и уезжает.
До кладбища недалеко, минут пятнадцать неторопливым шагом. Я надеваю пуховик поверх чёрной рясы, натягиваю шапку и перчатки, беру папку и иду вслед бредущей группе.
…Всего год спустя после похорон Генриха Генриховича мне позвонила Вера, поздно вечером. «Пастор Александр? Здравствуйте, простите, что так поздно. Это Вера Марьясова из Красных Камней, помните? У мамы удар, её парализовало. Да, у Берты Яковлевны. Её сейчас увезли в больницу, я оттуда вам звоню. Ну да, инсульт. Если сможете её посетить… Да, конечно, записывайте».
Я нашёл Берту Яковлевну в палате для инсультников средней тяжести; врач, пробегая по коридору, кинул мне на ходу: «Опасности нет, мы продержим больную здесь две недели, я дочери уже всё рассказал». Веры в палате не было, а Берта Яковлевна, в проводках и трубках, лежала на кровати: маленькая, ссохшаяся, с закрытыми глазами. Я сел рядом, тоже прикрыл веки, молитва легко родилась в голове, но не словами сначала, а образами. Я увидел четырёхлетнюю девочку, едущую вагоне, битком набитом людьми; потом она тряслась на телеге по лесным и степным дорогам, месила навоз с соломой, обнимала уходящего в «трудармию» отца, обнимала уходящую в «трудармию» мать; хоронила, ждала, пряталась от людей на скалах со своим другом Иссой… «Господи! – вырвалось у меня, наконец. – Неужели Тебе мало было Иова? Неужели недостаточно Голгофы? В чём виноваты эти люди, в чём виновата Берта? Разве что в том, что она однажды родилась?» Что-то лёгкое шершаво коснулось моей руки, лежащей на ограждении кровати, я открыл глаза. Берта Яковлевна смотрела на меня и улыбалась правой стороной лица, а её правая рука с трубками от капельницы касалась моей руки. Губы шевельнулись, но я не услышал ничего. Если это пытался ответить Бог, то Он выбрал плохой способ общения.
Через две недели её выписали из больницы, и я увёз её домой. Ей стало лучше; правда, говорить она так и не начала, но смогла писать правой рабочей рукой, крупными неровными буквами: сначала в тетради, а потом и на листах, закреплённых на картонной планшетке. Первое, что она написала, было: «Пора уже мне», при этом она улыбалась.
Я приезжал к Берте Яковлевне так часто, как мог. Служил у неё дома, причащал. Иногда она писала мне на планшетке «Спасибо», но чаще просто жала руку и улыбалась живой, правой стороной лица. Иногда я читал ей книги, подменяя Веру и Колю. Ей нравилась фантастика из Колиной коллекции, а потом я привёз ей свои книжки, и «Марсианские хроники» она слушала с особым вниманием. Как-то накорябала на планшетке в перерыве: «Это про нас», и я с ней согласился.
А потом, после Рождества, она стала уходить…
…Земля мёрзлая, сыпется плохо, летит комьями, ударяясь о гулкий гроб. «Берта, от земли ты был взята, в землю ты и возвратишься, из земли наш Господь Иисус Христос воскресит тебя в последний день». Бабушки идут мимо могильной ямы, бросают вниз смерзшуюся глину. Как будто стучатся в ту последнюю дверь, что затворилась за их сестрой Бертой. У кучи земли с лопатами ждут Коля и Саня. Я им киваю: «Пора!» Барабанная дробь по гробу становится чаще, потом затихает – земля ложится на землю. Я ставлю крест в изголовье, начинаю читать на немецком «Vater unser»63, потом бабушки затягивают какую-то свою песню, пока растёт холмик на могиле. Песня эта длинная и протяжная, я не разбираю слов, но чувствую в ней всю их жизнь и последнюю надежду на то, что она, жизнь эта, здесь, на земле, не была бессмысленной. Вера плачет, я подхожу к ней, обнимаю её за плечи. «Зайдёте на обед, пастор?» – спрашивает она тревожно, я киваю.
После обеда и кофе со всякой стряпнёй мы с Верой остаёмся одни за столом. Она машет рукой – мол, всё уберу завтра, потом порывисто встаёт, что-то вспомнив, просит меня подождать и выходит. Возвращается через минуту, в руках коробка – та самая, из времянки, откуда я достал сегодня крещальную чашку Берты. «Вот, – говорит она и протягивает мне коробку. – Здесь письма маме от… От отца. Надо было их положить в гроб, я забыла. Возьмите, я не хочу оставлять их себе». – «От отца?» – я машинально беру коробку, открываю её, вижу стопку пожелтевших от времени прямоугольников: «Село Красные Камни… Нойманн Берте…» и обратный адрес: «Назрань… Иссе Магиеву…»
«От… отца?» – я оторопело смотрю на Веру: высокую, чернявую, кареглазую, всё ещё красивую женщину за пятьдесят. «А вы не знали? Мой приёмный отец, Иван, взял маму беременной, когда Исса с семьей уехал на свой Кавказ. А после смерти отчима, в конце восьмидесятых, мама мне об этом сказала. Грех мой, сказала, Ваня прикрыл. А может, и не грех, не знаю, это ведь по любви всё было» – «Но это же ваше! – я протягиваю коробку обратно. – Ваша история». Вера мотает головой: «Нет, не моё. Я не читала и не буду. Возьмите, если хотите. Вы с мамой о её жизни говорили. И вы её проводили, так что это ваше». Я не нахожусь, что сказать, встаю, обнимаю её и иду к машине. Пора возвращаться домой, в Шахты.
…Их было двенадцать писем, все до единого запечатанные. Берта Яковлевна не читала их, но хранила. И я не стал их вскрывать. Двадцать пятого февраля я сжёг их вместе с веточками прошлогодней вербы и на службе Пепельной среды64, по традиции лютеранской церкви, нанёс прихожанам этим пеплом кресты на лбу, со словами: «Помни, человек, что ты прах, и в прах возвратишься. Покайся в грехах и будь верен Богу».
19.01.2020, Абакан
СРЕТЕНИЕ КОСТЕКА
К.В.
1.
… Костек работал на мойке контейнеров для яиц. Поддоны с контейнерами были здоровые: штук на тысячу яиц, может и больше, липкие, воняли тухлятиной, и этот запах впитывался в его одежду, волосы, руки. Даже после душа он продолжал чувствовать этот запах сероводорода, стоящий в ноздрях. Он стал чаще пользоваться одеколоном, но лучше не стало – стало хуже, и он вспомнил Шурика, его соседа по общаге ещё в Н-ске, в пединституте, когда они учились на филфаке в начале девяностых. Шурик носки не стирал, пока они не начинали рваться от старости и грязи, но по утрам, извлекая их из-под кровати и натягивая на свои костлявые ноги, он всегда сбрызгивал их «Шипром», и этот душистый «бутерброд» так же долго стоял в носу и не выветривался.
Работа Костека заключалась в том, чтобы снять с конвейера стопку яичных контейнеров и загрузить их в моечную машину. Когда машина наполнялась серыми пластиковыми упаковками, он закрывал дверцу и нажимал комбинацию кнопок: время, интенсивность мойки и подачу жидкого мыла, дальше машина всё делала сама, прямо как домашняя стиралка. А он возвращался к конвейеру, подхватывал новую стопку и нёс её в машину номер два. Когда запускал её, обычно первая машина издавала незамысловатую короткую мелодию и останавливалась. Чистые контейнеры следовало выгрузить на другой – сушильный – конвейер, уходивший куда-то в другой зал, и что там было дальше, была не его, Костека, забота.
Иногда из соседнего зала к нему в помощь приходил Мирек – высокий, нескладный, с лицом слегка уголовным, как это физиогномировал Костек, с вечными наушниками в оттопыренных ушах на коротко стриженной голове. Одет он был так же, как Костек – в спецодежду: салатного цвета полукомбинезон, куртку и клеёнчатый передник; салатную же панаму, по причине отсутствия волос, он не носил, как, впрочем, и куртку частенько не надевал: сверкал голыми волосато-татуированными руками, внося разнообразие в интерьер салатного же цвета зала. По мнению Костека, он, скорее, мешал, а не помогал, вторгаясь в устоявшийся ритм работы: снять-вложить, снять-вложить, снять-вложить, нажать, нажать, нажать, и опять, по новой… Когда темп ускорялся, Костек тоже ускорялся, а Марек путался под ногами, перехватывал стопки контейнеров, сбивал с толку. Они почти не разговаривали, во-первых, из-за гудения машин, а во-вторых – о чём? Марек, если и вынимал наушники, говорил только два слова: «курва» и «спьердалай65», вкладывая в них все возможные коннотации, которые Костек извлекал из контекста их непродолжительного общения.
Вообще, Костеку нравилось работать одному. Все движения рассчитаны, ритм отлажен, руки знают, ноги идут, голова свободна. К вони же можно притерпеться, ничего страшного. Он всегда приезжал на фабрику заранее, пристёгивал свой велосипед под крышей на стоянке, шёл, не торопясь, к своей кабинке, где переодевался, попутно выпивая чашку крепкого кофе, сваренного утром, в коттедже–общежитии, где он жил. Не этой, заваренной кипятком бурды, что называлась «кофе по-польски», нет. Кофе он варил, как привык ещё в Израиле, по-восточному, в медной джезве, из только что смолотых зёрен. Не на песке, конечно – на плитке (откуда в общаге раскалённый песок, смешно), но подходил к процессу очень тщательно, добавлял немного перца и корицы, тут же помолотой в кофемолке, после приготовления выпивал маленькую чашечку жгучего чёрного напитка в два глотка, а остальное сливал в маленький термос, укладывал в карман своей куртки и только потом шёл умываться и чистить зубы. Допивал уже на работе, у кабинки, переодевался, сворачивал в курилку, где скручивал сигаретку, так же тщательно приготовленную (бумага, табак, фильтр, движение языка, выверенное движение пальцев – и готово!), и потом уже шёл в привычную вонь моечного зала. Через час привычных движений он будто впадал в транс, как он сам иронизировал, «становился танцующим дервишем», лишь иногда выныривая в реальный мир, на обед, да «на покурить». Его движения и впрямь напоминали танец по залу: четкий, лёгкий, с элементами импровизации – когда не было Марека, он мог, двигаясь от конвейера к машине, крутнуться, держа контейнеры на вытянутых руках, вкладывая их в мойку, мог, наклонившись, откинуть ногу назад, как в балетном па. Правда, к концу десятичасовой смены сил на такие импровизации уже не оставалось, и он, услышав, как смолкает жужжание конвейера, выключал гудящие машины и, как в подушку, погружался во вдруг наступившую тишину, оскверняемую лишь отдалённой польской речью из соседних залов или даже пробивающейся из Марековых наушников музыкой. Казалось, если напрячься, он сможет услышать разогревающиеся машины на стоянке, но так далеко он не устремлялся, слушать тишину ему нравилось больше.
Фабрика была на окраине маленького голландского городка M.; общежитие для польских, преимущественно, гастарбайтеров находилось в соседнем городке, F., в сорока минутах езды на велосипеде. Впрочем, Костек тратил на обратную дорогу больше часа, потому что ещё минут сорок у него уходило на купание в стремительной, загнанной возле моста в бетонные берега, речке. Отъезжал от моста и бетона по просёлку к травянистому, будто специально коротко стриженному берегу, бросал велосипед, стаскивал с себя всё, включая трусы (не ехать же ему потом с мокрым задом), с разбегу влетал в холодную воду, боролся с течением, согреваясь в судорожном барахтанье, потом выскакивал на берег, мчался к сумке за полотенцем, обтирался, курил, сидя на берегу, и двигал дальше, домой.
…Костек предпочитал ночные смены, с десяти вечера до восьми утра. Ночью работников на фабрике было поменьше, не такой напряжённый темп, и Марек не вторгался в его отлаженный ритм. Двигаясь на фабрику, можно было искупаться в вечерней воде, ловя закатное – и оттого более тёплое, ласковое, как махровое полотенце – солнце. Но главное – ночью он яснее и чётче слышал разговор своих моечных машин. Днём они тоже говорили, но смысл их фраз он не всегда улавливал, а вот ночью… Ночью они вели диалог вовсю, и он хорошо слышал их, каждую фразу, которую они повторяли многократно.
Нет, они не разговаривали с ним, с Костеком, они вели беседы между собой. Костек был лишь их невольным и постоянным свидетелем. Случилось это через неделю после того, как он вышел на эту работу. Сначала, когда он только приехал и жил ещё в другом общежитии, в М., его поставили на подачу уже упакованных контейнеров, с яйцами. Их нужно было снимать с погрузчика, проверять целостность упаковки и складировать перед отправкой. Он справлялся; правда, было тяжеловато возиться с серыми блоками, но он справлялся, боя почти не допускал, до того момента, когда бестолковый наркоман Витек, управлявший погрузчиком, не успел довезти до его конвейера поддон готовых контейнеров, и все они рухнули на блестящую белую плитку пола, с кряхтением лопаясь и заливая белое прозрачным и жёлтым. Он тогда ещё подумал, пятясь от стремительно растущей катастрофы: «Вот это была бы яичница!» В тот день встала почти вся фабрика, и часа три убирали эту несостоявшуюся яичницу с пола. На следующий день Витек куда-то исчез, а его переселили в городок F. и перевели на мойку. Ну и ладно. Пахло здесь, конечно, похуже, но работа была полегче, и он втянулся. А потом услышал эти голоса.
Сначала подумал, что кто-то зашёл и говорит тут, в зале. Заозирался испуганно, даже заглянул за конвейеры и машины, но там было пусто, только блестела плитка пола в свете люминесцентных ламп. Когда начал искать, разговор вроде прекратился, а потом, когда занялся работой, опять услышал, ясно и чётко два голоса – мужской и женский. Мужской ругался по-английски: «Fuck you! Fuck you! I'll fuck you now!66», а наглый – женский – отвечал ему по-польски: «Po prostu spróbuj! Po prostu spróbuj! Spróbuj, sukinsynu!67» И так по кругу, без конца. Его тогда чуть не завалило грязными контейнерами, пока он бегал по залу и искал источник этих голосов. Ладно, он поднапрягся, отвлёкся от этих бесконечных повторений, стал загружать в машины больше и заметил, что, когда он суёт контейнеры в правую машину, звучит только женский голос, а когда в левую – мужской. Так он понял, кто это тут с ним разговаривает. Вернее, не с ним, конечно, ведь машины болтали друг с другом.
На следующий день машины вроде молчали, гудели только, постукивая моющимися контейнерами, но, как только он прекратил прислушиваться, как услышал опять эти голоса. Тема разговора почти не сменилась, в отличие от языка. Обе машины перешли на немецкий, и «он» теперь лязгал «Раммштайном»: «Komm zu mir! Komm zu mir! Nun, jetzt komm zu mir!68», а «она» отвечала ему тихонько: «Komm selbst her! Komm selbst her! Hilf mir bitte, her!69» Голоса эти звучали то один за другим, вразнобой, то дуэтом, и он измучился полсмены, слушая эти бесконечные призывы, пока не уловил вдруг в звучании машинного диалога мелодию, под которую начал двигаться в своём первом танце в этом зале. И всё! Уставшие руки и ноги обрели второе дыхание, а голова превратилась сначала в пустой и звонкий резонатор, а потом – в подобие микшерского пульта, на котором он варьировал эту речитативную мелодию, добавляя тот или иной музыкальный инструмент. После обеда, когда он уходил из зала, а его подменял Марек, болтовня машин в его голове стихала, а когда он возвращался – возобновлялась снова на те же слова.
Машины не повторялись, каждый день выдавали что-то новенькое, и он стал записывать эти фразы в свой блокнот в конце рабочего дня. За лето там скопилось много записей, большей частью эротического, иногда философского, иногда просто житейского толка, а иногда они были просто бессмысленными. Ну как понять, например, такую пару, исполненную на русском: «Задай им жару! Задай им жару! Просто задай им жару!», – «Еду домой! Еду домой! Скоро приеду домой!» Или такое: «We will all die, we will all die, and after that we will not die!70» – «Dance, circle! Dance, circle! Tomorrow will be the day!71 »
Сначала Костек пытался как-то это понять, осмыслить, но потом, одной августовской ночью, проснувшись и ощутив сильное желание покурить, он вдруг выдал сам себе на автомате: «Закурю я, закурю я, табачку сейчас скручу я!», и расхохотался, напугав соседа, толстого Мариуша, подскочившего на своей кровати. Он успокоил Мариуша и пошёл на улицу курить. Скрутил сигаретку, затянулся, взглянул через табачный дым на луну и сказал ей: «Ну что, сестрица Луна! Вот и моя очередь настала, вслед за святым Франциском, разговаривать с собственным подсознанием… Или бессознательным? Только времена сменились: уже не птички, волки и планеты, а машины служат нам посредниками в разговоре с собой, да…»
2.
В Голландии ему нравилось. Работа приносила чуть больше тысячи евро в месяц, и он отправлял половину в Польшу, в городок L., жене и сыну, с которыми не жил уже года два. И семья – не семья, и развод – не развод. Но с Сашкой – сыном – он общался постоянно. Звонил ему по скайпу, говорил «за жизнь», всё больше про музыкалку и про будущее. Сашка учился в школе искусств, через пару лет должен был поступать, а вот куда – это был вопрос, потому что он, Сашка, разрывался между классической гитарой и математикой, которые обожал одинаково, и в этом противоречии – разрыве между «алгеброй» и «гармонией» – никак не мог определиться. Впрочем, одну из зачётных работ посвятил именно математическому символизму Баха в эпизоде несения креста в «Страстях по Иоанну», чем поразил не только его, Костека, но и более музыкальную мать.
А еще Голландия, казалось Костеку, пропахла поздним средневековьем, и дух Тиля Уленшпигеля витал над каждой черепичной крышей, изумрудной травой, шпилистыми соборами и ветряными мельницами и стучал в его, Костеково, сердце. Месяц назад, в одну из нерабочих суббот он, ранним утром оседлав свой велосипед, помчался в городок D-B, где полдня провёл в музее Босха. Строго говоря, музеем назвать это было нельзя, поскольку в старом церковном здании не хранилось ни одного оригинала картин великого голландца. Но это никак не испортило его настроения, то был как раз тот случай, когда репродукция лучше оригинала, особенно, когда ты можешь, стоя у огромного экрана, двадцать раз открывать и закрывать триптих «Сад земных наслаждений», переходя от хмурых и скупых сумеречных красок сотворения земли к буйству собственно самого сада в его хронологии: от рая к аду через жизнь. Он рассматривал каждую деталь картины, наслаждался всеми этими таинственными мелочами, будоражащими воображение и заставляющими думать. В общем, «Сад» отнял у него тогда половину экскурсии, и он решил, что непременно повторит этот свой культпоход.
Да, в Голландии всё было как-то компактно и концентрировано, в отличие от Германии, где Костеку пришлось проработать в прошлом году. Там он жил в маленькой деревеньке с единственным магазинчиком, и оттуда до культурных мест было катить и катить, за день точно не успеешь добраться. Впрочем, тамошняя работа тоже нравилась Костеку; пожалуй, даже больше нравилась, чем эта. В Германии он работал и жил на частной конюшне в совершенно шикарных отдельных апартаментах с душем, кухней и спальней и был предоставлен себе и двум десяткам лошадей, за которыми он убирал навоз, которых он выгуливал, чистил и кормил. Его напарник сбежал, уйдя в отпуск и не выйдя из него, но он справлялся, хоть и было тяжело физически, особенно махать лопатой и вилами. Там он и заметил, что животные его прекрасно слышат и, кажется, понимают. Когда он на рассвете, очищая стойло, читал стихи Мандельштама, кони никак не реагировали, а когда он решил завести чин «утренней молитвы» на латыни, то увидел любопытство в глазах Карего, самого капризного и непослушного жеребца. Читая литанию, он уже был окружён сопящими мордами, повёрнутыми к нему, и впервые возблагодарил тогда святого Франциска за его дары.

