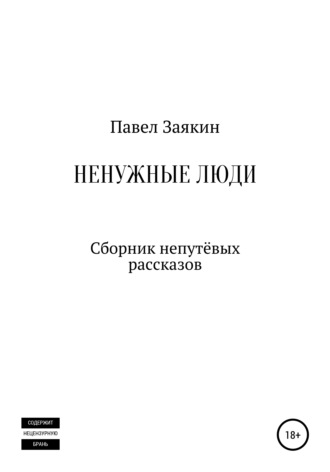
Ненужные люди. Сборник непутевых рассказов
Да только счастье наше, нойманновское, длилось недолго. Только мы в баньке обустроились и перезимовали, как хозяин, дядя Вася, выгнал нас оттуда, аккурат после Пасхи. Бумагу принёс от коменданта, у которого все мы отмечались раз в неделю, что нам надел земли даётся на окраине: всё, мол, идите и там стройтесь. Отец в комендатуру бросился, а там руками разводят, говорят: приказ такой – селить отдельно. И снова всё лето ушло на труды. Отец ведь ещё и на станции работал, а по вечерам землянку копали, одну на двоих с семьёй дяди Отто. Мы с Фридой кизяк сушили, мама устроилась на пилораму и оттуда приносила обрезки досок всякие – вместо зарплаты – так за лето и построились, кое-как успели до холодов. Печку такую же сложили, как в бане, даже лучше; отец говорил, что печка в доме – главное, особенно, если в Сибири живёшь.
Только справили новоселье, только мама договорилась, чтобы Фрида в школу начала ходить, как грянула мобилизация – всех мужчин-немцев обязали явиться на призывные пункты с вещами. Помню этот октябрь очень хорошо: холодно было и дождливо, на входе в нашу землянку лужа образовалась, отец принёс большой камень, положил его в эту лужу; это, сказал, последнее, что я могу сделать для вас, завтра меня увозят в «трудовую армию». Мама в слёзы: «Какая армия? Мы же немцы, нам в армию нельзя!» Отец говорит: «Это воевать нам нельзя. А работать можно и нужно, чтобы Гитлера разбить. Собери мне, Фрида, вещмешок, а продуктов не надо: продукты вам нужнее, а я как-нибудь прокормлюсь».
Утром рано я проснулась в полумраке – кто-то меня целует и щетиной колет; испугалась, заплакала, а голос в темноте смеётся: «Доченька, это я, папа. Я ухожу на фронт трудовой. Это ненадолго, вот скоро война кончится, и я вернусь». И прижимает меня к себе крепко, а я носом уткнулась в его фуфайку, и слёзы текут у меня по щекам… Я этот запах старой фуфайки отцовской помню до сих пор – лицо его забыла, а запах помню. Кажется, сейчас закрою глаза – и вот он, рядом. Я ведь его с тех пор больше и не видела, не вернулся он с того «трудового фронта»».
Туман прибил дым к поляне, где мы сидели у костра, защипал в глазах у всех троих. Берта Яковлевна и не скрывала слёз, всё смотрела в угли, словно они подсказывали ей ту далёкую историю про семью Нойманнов, обычную семью советских немцев, которым посчастливилось жить в самой лучшей стране мира. Слёзы текли по морщинистым щекам, а голос оставался прежним – ровным, сильным, уверенным. Голос хрониста, диктующего своему помощнику рассказ о событиях. Вот тогда я впервые подумал: как жаль, что я не записываю эту историю на диктофон.
«…Отца забрали на строительство железной дороги в район Сталинска, так тогда назывался Новокузнецк. Мы радовались, что недалеко, что, может быть, будут отпускать его иногда домой, но от него пришло только два письма, где он писал, что живут они в лагере, за колючей проволокой, в бараках и под охраной, и что работа каторжная. В общем, он прощался, но только мы тогда не поняли этого. А спустя три месяца, в самый разгул январских холодов сорок третьего, мобилизовали и маму. Тогда оставляли только тех, у кого детям было до трёх лет, а у нас таких в селе не было. Так что забрали всех, кроме совсем старых и таких, как мы. На маму смотреть было страшно, когда она собиралась на сборный пункт в Сырах: она и так худая была, а тут и вовсе истаяла. Почернела, круги под глазами страшные. Фрида маму обнимает, успокаивает. Ты, говорит, не бойся, мамочка, я за Бертой присмотрю. И бабушка Эмма, мама дяди Отто, за нами будет смотреть, мы же в одной землянке живём, а там и вы придёте с папой. Мама гладит Фриду и меня по голове и повторяет: «Я обязательно вернусь, девочки, я вам обещаю. Обязательно вернусь, ждите…»»
Снова пауза. Даже хронисты, бесстрастно пишущие историю народа, хотят иногда перевести дыхание. Хроника семьи Нойманнов глазами четырёх-, а потом пяти- и шестилетней девочки Берты спустя столько лет звучала у костра в затихшем детском лагере, и темнота, что окружала наш костёр, казалась нам темнотой той землянки, где оставались вдвоём две маленькие девочки. Одни на всём свете. Без мамы и папы. Посреди огромной стылой зимней Сибири.
«Мама сдержала своё обещание, она вернулась. Спустя год, в феврале сорок четвёртого, она ввалилась в нашу землянку – незнакомая, в кирзовых сапогах, в рваных ватных штанах и фуфайке, с огромным животом, только глаза на лице были её, мамины. Мы с Фридой сразу облапили её, а она стояла посреди комнаты, гладила нас по головам и только повторяла: «Девочки мои… Девочки мои…», а с её безобразных сапог таял снег и стекал по утоптанному земляному полу к жарко горящей печке с кизяками, и бурая её одежда воняла креазотом.
Мама тоже была на строительстве железной дороги, но её определили в рабочую колонну наркомата путей сообщения; их не селили в ограждённой зоне, как папу, который работал в колонне от НКВД, но расквартировывали по местным, по нескольку человек, иногда давали выходные даже, и в эти редкие дни она пыталась найти отца. Писала письма по инстанциям, даже ездила в Сталинск, от которого жила совсем недалеко, но – ничего. Глухая стена. И отец молчал, не отвечал на письма ни ей, ни нам. Мама работала на пилораме, как и здесь до этого, на пропитке шпал, и этот запах пропитал не только её одежду, но, кажется, всю её насквозь – и волосы, и кожа: всё пахло креазотом. Вечером мы нагрели воды и налили полную ванну, которую попросили у дяди Васи по старой памяти, и мама с трудом залезла туда со своим здоровенным беременным животом, и мы с Фридой тёрли её вехоткой, пытаясь отмыть этот страшный запах, а мама, согнувшись в три погибели в этой маленькой ванне, молча плакала. И это было хуже всего – её покорное безвольное тело и тихие слёзы на впалых худых щеках.
Мы ничего не спрашивали у мамы о беременности, но потом Фрида подслушала разговор с бабушкой Эммой на её половине и рассказала мне, что маму отпустили с «трудармии» только потому, что обнаружилась, что она ждёт ребёнка, и срок уже такой, что работать ей нельзя. Про отца ребёнка все молчали и мне запретили спрашивать, а мне это было непонятно: как это – у нас будет братик или сестричка, а папы нет и нет? Мне ведь тогда было семь лет, и я ещё не понимала, что женщина-немка бесправна вдвойне…
Маму взяли на прежнюю работу, ведь надо было как-то жить и получать паёк, и в марте, на распиловке, у неё начались схватки. Её повезли в соседнее село, где был фельдшерский пункт, но фельдшера не было на месте, она уехала в район по делам. Помощник фельдшера не справился с родами, и мама истекла кровью и умерла. Умер и ребенок при родах, девочка. Их привезли на следующий день обратно к нам в землянку, и бабушка Эмма выгнала меня на свою половину, а они с Фридой и тёткой Мартой, которую в «трудармию» почему-то не взяли, снова, уже втроём, мыли маму и малышку в той же ванне дяди Васи. Потом позвали меня, ещё бабушек, что оставались в селе. Мама лежала на нашем топчане босая и такая красивая, в своём единственном белом платье, что она привезла с Поволжья, а девочка тоже была вся в белом и лежала у мамы на груди, и они выглядели так, будто спали. Тётка Марта сказала, что обычно так не делают и имена детям дают при крещении, но лучше, если у девочки будет имя, и пусть она будет Рената. Все старухи закивали согласно, а Марта продолжала говорить что-то про венчание и про Христовых невест, и я совсем запуталась, и Фрида, наклонившись, объяснила мне на ухо, что есть такой старый обряд, называется «венчание покойников». Обычно он служится по умершим девочкам, но Марта хочет, чтобы этот обряд был проведён и для нашей мамы. Тут Марта запела какой-то гимн, и старухи подхватили, и это была радостная песня, и так страшно было видеть улыбки на лицах старух, что я заплакала и убежала на другую половину, к бабе Эмме, и там, накрыв голову её подушкой, я всё равно слышала эти песни и молитвы на своём родном языке, и слушая, повторяла их: сначала про себя, а потом и вслух, прощаясь с мамой и с маленькой сестричкой Ренатой…»
… Я вёз Берту Яковлевну и Колю домой, и мы молчали. Что было сказать после всего сказанного? Только когда заскрипели тормоза возле дома, Коля выскочил первый, открыл дверцу машины и сказал: «Баб, давай руку, я помогу», и я понял: он, как и я, слышал эту историю впервые, и она его ошеломила не меньше моего, и он не знал, как это выразить.
Я тоже вышел, обнял Берту Яковлевну осторожно и сказал, прощаясь: «Спасибо вам!». Она встрепенулась, улыбнулась в свете фонаря: «За что же?» – «За ваш рассказ. За то, что помните и делитесь. За доверие». Она тронула меня у калитки: «У нас у каждого здесь в общине такие свои истории, как у Иова. И вам спасибо, что слушаете. И за внука спасибо. Не забывайте нас. Приезжайте!» И исчезла в темноте двора, как её и не бывало.
5.
История девочки Берты из Красных Камней, возможно, так и осталась бы незаконченной, если бы не смерть старосты общины, Генриха Генриховича. Я давно уже не бывал в Красных Камнях – с тех пор как общину начал посещать пастор из Германии, живший в Енисейске. Спорить о правах на общину было глупо и как-то даже подло, словно люди были товаром или разменной монетой церквей разных юрисдикций, я просто уступил. И поэтому, когда мне однажды позвонил этот самый енисейский пастор Бремер и спросил, помню ли я краснокаменскую общину, я удивился. «Ну да, – сказал я, – конечно, помню. Вы лет пять назад попросили меня туда больше не ездить». Он помолчал немного, потом сказал: «Там умер староста, Генрих. Но я никак не могу там быть на погребении, я в отъезде. Можете приехать на похороны? Они сами споют, вы только скажите молитву и слово. Можете?»
Так летом две тысячи восьмого я снова оказался в Красных Камнях, в той же времянке, где до сих пор собиралась община. Гроб стоял на том самом столе, вокруг которого все собирались молиться, петь и пить чай. Генрих Генрихович, ещё более огромный, чем раньше, лежал там, со сложенными на груди ручищами. Я вспомнил, как он при первой наше встрече осторожно пожал мне ладонь, и сглотнул комок.
Бабушки собрались ко времени. Кого-то не было уже в живых, кого увезли дети в Германию, но те, что пришли, казалось, не изменились вообще, словно время для них остановилось однажды. А вот Берта Яковлевна постарела. Ссохлась, уменьшилась в и без того невеликих размерах, покрылась более густой сеткой морщин, но, кажется, стала более подвижной, несмотря на свою хромоту. Она улыбнулась мне печально, я подошёл, обнял её виновато, сказал только: «Вот ведь… А так, когда бы встретились?»
Вечером, после похорон и поминок, где бабушки всё пели свои грустные песни, от которых скребло в горле и в носу, я подвёз Берту Яковлевну к её дому. «Зайдёте, пастор?» – спросила она, заглядывая мне в глаза снизу вверх, и я не смог отказать. Мы сидели в пустом зале, куда теперь переехала из времянки хозяйка, за круглым столом, пили чай со штруделем, который она испекла утром, и молчали.
«Вы поседели, пастор, – сказала Берта Яковлевна наконец. – А приезжали сюда в первый раз совсем молодым, почти мальчиком. Без вас тут стало грустно. Пастор этот, Бремер, приезжает, конечно, но вы ведь детей привозили. Они нам хоть немного напоминали о будущем. О том, что есть смысл в нашей вере. И лагеря… Коля до сих пор вспоминает, а ведь ему же двадцать три, мужчина совсем…» «Берта Яковлевна, – я поставил чашку на стол, откинулся на спинку стула, который подо мной опасно заскрипел, – я тоже помню наши поездки сюда. Жалко, что всё так… Вот и Генрих Генрихович ушёл, кто теперь будет вас собирать?» – «А сами и будем собираться, как собирались. Петь и молиться все умеют, Библию читать тоже сможем, пока глаза буквы различают. Как говорят немцы, Übung macht den Meister, «упражнение делает умельца», так мы тут все уже умельцы».
Я вздохнул, потом вдруг вспомнил, наклонился вперёд: «Берта Яковлевна, а можно попросить вас дорассказать, ну… про вашу жизнь. Что было потом, после сорок четвёртого?» Та улыбнулась грустно: «Коле я уже рассказывала. Он после того вечера у костра всё допытывался: мол, расскажи да расскажи, бабушка, интересно ему было. Ну, коли вам тоже интересно, слушайте…»
…Их похоронили на краю сельского кладбища, того самого, где я хоронил старосту Генриха. Теперь там много могил, и эту часть местные называют «немецкой». Но первыми там были они, Фрида Нойманн и мертворождённая Рената, похороненные в одной могиле. Берта с сестрой каждый год приходили к ним на День всех святых, на первое ноября, когда обычно падал уже снег и укрывал холмик саваном, как белым платьем, в которые Эмма и Марта обрядили их, «Христовых невест», перед погребением.
«В селе не знали этот праздник, День всех святых, это наша, лютеранская традиция. Да и вообще, с праздниками, особенно религиозными, было сложно: могли донести. Война ведь шла, не до праздников. Даже Пасху боялись отмечать. Но на девятый день после Пасхи народ стягивался на кладбище. Убирали могилки, поправляли памятники, поминали умерших. Мы с Фридой тоже пошли – кажется, в конце апреля сорок четвёртого. Тепло было! Мы могилку подсыпали, она просела сильно: в морозы ведь хоронили; поправили крестик, посидели молча. Фрида глаза закрыла и только губами шевелила, молилась, наверное. А я… Мне так хотелось к маме, и только мысли о том, что папа, может, скоро вернётся, удерживали меня от рыданий. Помню, подошла одна женщина, местная, присела рядом со мной на корточки, погладила по голове и пирожков из корзинки в подол насыпала. «Ешьте, – сказала, – мой сынок на фронте погиб, у него даже могилки тут нету. А ваша мамка тут, с вами». А когда мы вернулись домой, в землянку нашу, смотрим: а там стоит повозка дяди Васи, который нас привёз в Красные Камни. У меня сердце чуть не выскочило, а Фрида как закричит: «Папа! Папа!», и в двери, а я за ней. Влетаем в потёмки, и я носом прямо утыкаюсь в чей-то тулуп, и этот тулуп меня отталкивает и ну ругаться на непонятном языке, гортанном таком, я никогда такого не слышала. Присмотрелись мы в свете лампы и открытой двери и видим – стоят трое, женщина высокая такая, в платок чёрный закутанная и в длинном платье, старуха, тоже в платке и фуфайке, и мальчишка, лет десяти, в тулупе овчинном: тот, в который я носом ткнулась. На топчане дядя Вася сидит, кнут в руках вертит. И ещё баба Эмма – она, видимо растерялась совсем и по-немецки что-то лопочет, я разбираю только: «Wo werden wir leben?», мол, мы где будем жить? Оказывается, в село привезли три подводы ингушей депортированных, как нас когда-то, и вот этих к нам велели селить. Слушал-слушал дядя Вася бормотание Эммино, потом рукой махнул и – в двери, а мы остались, смотрим все друг на друга и молчим. Потом Фрида обняла бабу Эмму, шепнула ей что-то и говорит: «Ладно, давайте селиться будем. Вы на той стороне землянки, а мы на этой – что делать-то?» Так к нам заселилась семья Иссы Магиева, с его мамой Зарой и бабушкой Билкис».
Берта Яковлевна замолчала, задумалась, потом хлопнула по карману и вытащила оттуда папиросу. Виновато посмотрела на меня: «Пойдёмте ко времянке, пастор? Простите мне мою слабость, курить хочется». Мы вышли на двор, и я увидел, как закатывается солнце за скалы: красный шар над красными камнями… Хозяйка проводила мой взгляд, прищурилась: «Красиво, да? Я помню, как первый закат тут увидела, с телеги дяди Васи, когда мы подъезжали только к селу, в сорок первом. И мама была ещё жива, и папа был с нами…» – «Да, я помню, вы рассказывали. И вправду красиво».
Она затянулась едким «беломором», выпустила дым в безоблачное небо, села на лавочку, я опустился рядом.
«Красиво… А там, на скалах, вообще красота. Недаром говорят, что древние люди здесь наблюдали небо: восходы и закаты, и через это вычисляли дни, когда весна началась, когда день пошёл на прибыль. Так говорят. А меня на эти горы вытащил Исса. Мы вообще подружились с ним в то лето. Сначала он дичился нас, девчонок, а потом ничего, привык. Мы идём за дровами с Фридой, и он с нами: топор за пояс заткнёт и идёт, глазами сверкает; смешной такой, чернявый, глаза коричневые, как пуговки сверкают. Мальчишки местные только издали дразнились, кричали нам вслед: «Во, смотрите! Фашистки и людоед! Людоедов нам с Кавказа привезли и с фашистками поселили!» Почему-то в селе считали ингушей дикарями, будто их с островов каких завезли. Ну а про нас-то понятно, мы уже почти свои, местные фашистки, нас уже и бить-то не интересно. Иссу попытались было побить, но он, как собачонка, бросился на главного обидчика, вцепился в него железной хваткой, ногами обхватил, зубами впился – тот испугался, еле его оторвал. «Ну его, – сказал, – бешеный какой-то. И впрямь людоед – пошли, пацаны». А с топором его так за версту обходили, боялись. Ну и нам с ним стало как-то… надёжнее: какой-никакой, а мужчина. И дров нарубит, и тачку утащит, полную навоза. Вот месить овечий навоз для кизяков никак не хотел: не мужское, говорит, это дело. Мы с Фридой смеёмся: «Ну тогда солому иди собирай, джигит!» Правда, потом он уже и месил с нами навоз вовсю, и лопатой его в тачку кидал. А как выпало время ягод, он меня и привёл на те скалы впервые. Ушли мы от села, через каналы переправлялись вброд, по болоту тропинки искали и под скалами нашли большие поляны клубники. Тёплая она была, красная – как сами скалы, – сладкая… Никогда до этого я не ела такой вкуснятины. Местные там, конечно, тоже собирали, но мы уходили дальше их, набирали полные корзинки и сами наедались, и валялись в траве рядом, под солнышком, как медвежата. Там Исса и рассказал мне о себе. Ему не нравилось, когда я называла его ингушем. «Мы – мелхи, – говорил он, – мы не ингуши и не чеченцы, мы – народ мелхи». Он рассказывал, что он и его семья происходили из рода «джархо», что в переводе значит «крестоносец». Были они мусульманами, но бабушка Билкис говорила, что все они, «мелхи», были когда-то давно «горными христианами», и с тех пор мелхи, даже приняв ислам, не враждуют ни с кем, помня свои корни. «Бабушка говорит, что её имя, Билкис, как у той царицы, что приходила к еврейскому царю Соломону слушать его истории и стала его женой», – рассказывал из травы Исса, а я, раскрыв рот, слушала. Я ведь не умела читать и никогда Библию не видела, а только слышала до этого истории – от мамы сначала, а потом и от бабушки Эммы об Иисусе и Его чудесах. А ещё он меня научил лазать по скалам. Все эти камни мы тогда с ним облазили. Рисунки древние находили. Исса говорил, что у них тоже встречаются на скалах в горах такие рисунки. И надписи древние на незнакомых языках. Мне семь тогда было, а Иссе – девять, но сдружились мы с ним сильно – времени больше вместе проводили, чем с сестрой Фридой.
А осенью мы пошли в школу, нас взяли в один класс – Фриду, Иссу и меня. Не очень нас там любили, дразнили, но благодаря «бешеному» Иссе от нас быстро отстали одноклассники. От старших, бывало, перепадало всем, и Иссе тоже, но старшим мы были не очень интересны. Так, плюнут вслед «предателям» и «фашистам», ну камень кинут. Больше нам доставалось от учителей. А директор нас вообще ненавидел. Придёт, бывало, после уроков, и рассказывает, какие мы уроды, как ингуши и чеченцы фашистам помогали, а мы, немцы, до конца жизни не отмоемся за Гитлера. «Скажите спасибо товарищу Сталину, что он вам дал возможность жить! – кричал он, глядя на нас, а слюни из его рта летели в разные стороны. – Надо было вас, щенков, сгноить заживо за предательство ваше, но товарищ Сталин добр к вам, и вы даже учиться можете в школе». Я видела, как белеет лицо у Иссы и сжимаются кулаки, и мы с Фридой трогали его тихонько, отвлекали, чтобы он не вспылил.
Так мы год прожили. А в сорок пятом, в мае, когда мы были дома, прибежала тётка Марта и закричала радостно: «Победа!», и мы тоже побежали в село. Бежим и видим, как к администрации народ собирается, все радостные, старики-старухи ковыляют – прямо как я сейчас, – детишки бегут, мужики, кто в селе были. Подбежали мы к столбу с громкоговорителем, а там объявляют, значит, о капитуляции, и музыка играет. Дети кричать «Ура!» стали, и мы тоже кричим. Я даже подпрыгивать начала от радости. И тут меня увидел наш комендант, ну тот, к которому мы отмечаться приходили каждую неделю. Он изменился аж в лице, пошёл на меня, а сам ремень с гимнастёрки снимает на ходу, и на кулак наматывает. Я как увидела, смехом своим поперхнулась, а убежать не могу: ноги ослабли, как ватные стали. Тот подходит ко мне, замахивается, глаза белые, шипит сквозь зубы: «Радуешься, гнида немецкая? Не твой это праздник, а наш!» Тут вижу: кто-то сбоку прыгнул на него, вцепился в руку с ремнём, повис, а меня Фрида за руку тянет, бормочет: «Пойдём отсюда, Берта, пойдём отсюда…» Комендант Иссу (а это он был) с себя стряхивает и давай его ремнём охаживать, а тот не сдаётся, в крови весь, пряжкой посечён, а прыгает на него, еле оторвали их друг от друга. Иссу кто-то из соседей к нам привёл, мы его умыли, баба Эмма примочки ему сделала, а мы к себе ушли, на свою половину. Я говорю Фриде: «Мы же свои! Мы не за Гитлера! За что они так нас ненавидят?», а Фрида гладит меня по голове и говорит: «Ничего. Они не понимают этого. Мы для них не свои. И для немцев мы не свои». Я говорю со слезами: «А для кого мы свои?» Она серьёзно так на меня посмотрела и говорит: «Для себя. Мы ведь знаем, какие мы? И для таких, как Исса, мы свои, потому что они такие же, как мы. И для Бога». Я заплакала, говорю: «Я тогда к маме хочу и к Богу, не хочу здесь жить, среди этих…» А Фрида по-взрослому отвечает: «Когда надо будет, тогда и мы будем со своими у Бога. А сейчас мы тут нужны друг другу. Вон как Исса за нас вступился. Значит, и мы ему нужны».
А через неделю кто-то коменданта нашего зарезал. Вечером постучали в дом, он вышел на крыльцо в темноте и получил удар ножом в сердце. Забрали всех мужчин чеченцев и ингушей, их было-то четверо, и Иссу забрали, в район увезли допрашивать. Его выпустили на следующий день, а остальных увезли совсем, оставили семьи без мужчин. Но больше нас местные вообще не трогали.
А мы всё папу ждали – когда он после войны вернётся. Уже несколько мужиков из «трудармии» приехали в сорок седьмом, но они отца не видели и не знали, что с ним. Так что мы ждали, каждый день. Сорок седьмой был самый тяжёлый год. Голодно было очень, я в обмороки голодные падала на уроках, не могла ходить за дровами, только лежала на топчане на своём. Потом заметила, как стали появляться продукты – то сала кусочек, то яйца, то, совсем редко, пахло куриным супом. Ах, какой это был божественный запах – варёной курочки! А Фрида всё чаще исчезала ночами, и потом, под утро, у нас появлялась еда, а Фрида ложилась на свою половину топчана, утыкалась лицом в стенку и лежала так – то ли спала, то ли плакала. Я тогда маленькая была, не понимала ничего, пока слухи по селу не пошли, что Фрида по ночам бегает к геологам в посёлок, он от нас был километрах в десяти. И к «фашисткам» всё чаще вслед звучали оскорбления похуже, а ведь ей всего пятнадцать было.
Но дальше стало легче, голодный год прошёл, и геологи уехали, и только пацаны в школе презрительно сплёвывали, когда мы шли на занятия.
А мы с Иссой сдружились, стал он нам, как брат. Каждое лето мы с ним уходили на скалы, искали рисунки, собирали грибы и ягоды, ловили рыбу. Рыбаком он был знатным, хариуса из Белой тягал так, что и на уху хватало, и даже продавали что-то на станции. Да, станцию открыли у нас на железке, и мы теперь туда по вечерам бегали, провожали единственный поезд, он ходил раз в три дня – в одну сторону и в другую. Продавали на станции пассажирам ягоду, рыбу солёную и копчёную, сушёные грибы. И отца ждали.
А шестого марта пятьдесят третьего (мне только исполнилось шестнадцать) мы в школу пришли, а там вместо занятий всех построили во дворе. Мы с Фридой и Иссой опоздали немного, все уже стояли. Вклинились мы в толпу – видим, все плачут: учителя, ученики, директор, а мы ничего понять не можем. Директор выходит на крыльцо, рыдания прерывает и объявляет, мол, – так и так, вчера скончался товарищ Сталин. И тут все в голос зашлись. А мы не плачем. Я смотрю – у Иссы нехорошая такая улыбка на лице появилась, чёрные усики над его верхней губой закривились. Я его хватаю, разворачиваю к себе, рожу страшную корчу и прижимаю его голову к своему плечу, а сама тыкаюсь лицом ему в грудь и удержаться не могу от смеха, потому что видеть эти плачущие лица было испытанием ещё тем. Короче, истерика у меня, я тоже рыдать начала, но не от горя, и Исса напугался, схватил меня в охапку и повёл от школы и Фриду толкнул в бок, – мол, домой иди. А мы помчались к скалам, через каналы, через болота, по тропкам нашим. Забрались тогда на самый верх, там ещё огромный камень такой стоит, как зуб, местные его прозвали «сундуком», говорили, что там, в глубине, сокровища всякие древние спрятаны. Мы залезли на самый верх, ветер там еще холодный совсем, а камень уже тёплый, от солнца нагретый. Мы легли на этот камень, лежим рядом, за руки держимся. Исса мне и говорит: «Как думаешь, что сейчас будет? Дадут нам домой вернуться?» А я думаю совсем о другом: «Ты, когда вернёшься, будешь мне писать?» Он голову поворачивает, смотрит на меня и отвечает: «Зачем письма? Я тебя замуж возьму и увезу к себе, в горы. Родишь мне дочку и сына?» И я заплакала. А он растерялся, привстал на колени, и говорит: «А давай на память об этом дне выбьем надпись тут, на этом камне? Мол, такого-то числа и года сдох наш вождь. Я испугалась, говорю ему: «Не надо, Исса. Посадят тебя за это. Он засмеялся и нож достаёт из кармана. Пойдём, говорит, я знаю одно место, оттуда хорошо видно будет. Я пошла за ним. Спустились немного на уступчик, он меня посадил, а сам камень подобрал и по рукоятке им давай выстукивать, цифру за цифрой, букву за буквой».

