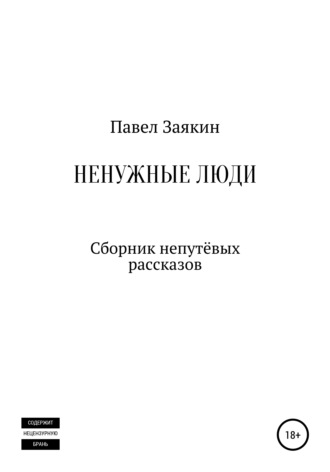
Ненужные люди. Сборник непутевых рассказов
В общем, повернул я тогда не налево, а направо, прихватив незадачливого рыбака с собой. По пути он провёл мне обзорную экскурсию: и когда мы ехали по тряской раздолбанной дамбе вдоль идеально ровных каналов, и когда слева от нас пошли скалистые обрывы густо-кирпичного цвета красного песчаника – те самые, где находились рисунки, – и потом, когда мы ехали мимо фиордов карьеров, где застывшая вода отблёскивала то там, то тут между покрытыми деревьями и кустами берегами. Наконец, показалось село, начавшееся с руин коровника. Парень уверенно показывал мне путь: «Вот «мехколонна», тут на тракторе батя работает… а это школа, тут бабуля полы моет, ну, когда учимся… а вон в том магазине мамка торгует…»
Неподалёку от центральной площади, где имелась тенистая аллейка с поваленной изгородью, свежими коровьими лепёшкам и совершенно зеленым, включая лицо и руки, сжимавшие гипсовый автомат, солдатом–памятником, находился Колин дом, большой, на двух хозяев, с палисадником, заросшим акацией. Мы вышли, я пискнул брелоком сигнализации и неуверенно посмотрел на Колю. «Пойдёмте к бабуле, она в этой половине живёт», – сказал он, потянув калитку, и оглянулся. – «Собак нет, не держим». И вошёл во двор.
Невысокая, худенькая пожилая женщина выглянула нам навстречу из белёной одноэтажной пристройки к дому, заторопилась, прихрамывая и улыбаясь: «Здравствуйте-здравствуйте! Господь с внучком послал гостей, как раз к гренкам! Проходите! Коленька, проводи мужчину во времянку…» И, повернувшись ко мне, немного виновато: «Уж извините, что не в дом, мы сейчас живём во дворе, да во времянке».
Времянка (в Шахтах такие пристройки называли «летняя кухня») была просторная, с большим круглым столом и старыми гнутыми стульями вокруг него. Пахло здесь, как ни удивительно, кофе – не химическим порошком из банки – настоящим варёным кофе, а ещё чем-то сладковато-жареным. Мы воспользовались рукомойником и сели за стол; возле нас моментально появились большущие чашки с дымящимся кофе, банка с домашними сливками, а затем из сковородки на блюдо посреди стола переехали гренки – хлеб с яйцом, посыпанный сахаром. «Ну», – сказала хозяйка, шлёпнув по нырнувшей было к блюду Колиной руке, – «давайте скажем молитву?» И уставилась на меня испытующе. Я склонил голову: «Очи всех уповают на Тебя, Господи, и Ты даёшь пищу им в своё время, открываешь щедрую руку Свою и насыщаешь их по своему благоволению…»
Пили кофе с гренками, и сияющая Берта Яковлевна («Да зовите меня просто Бертой!») всё расспрашивала меня об общине в Шахтах и иногда ворошила Колину шевелюру: «Вот как Господь приводит в дом Своих. А я, как услышала нашу застольную молитву, так и поняла, что вы служитель Божий!» Потом я стал узнавать у неё об общине в селе, а она махнула рукой: «Да что рассказывать! Man glaubt einem Auge mehr als zwei Ohren56. Сегодня у нас молитва вечером, сами всё увидите». На том и порешили. Я сходил к соседям, у которых был телефон, позвонил в Шахты жене, предупредив, чтоб не волновалась и что, скорее всего, задержусь до завтра, побродил по посёлку, лежащему в вечернем зное, и вернулся в уже знакомый мне дом.
«Сегодня молитва до коров», – загадочно сказала Берта Яковлевна, – «так что идёмте пораньше, побеседуете с нашим старостой Генрихом до служения». И стала собирать в пакет оставшиеся гренки.
Решили прогуляться пешком. Берта Яковлевна сразу взяла меня под руку («Такой молодой кавалер не откажет престарелой даме пройтись с ним под ручку?»), и мы отправились дальше по улице, в другой её конец. Пока шли, я выяснил, что моей спутнице шестьдесят лет, что она из переселённых немцев, сосланных в эти места сразу после войны. «Да все у нас в общине из немцев: весь десяток старух и наш Генрих, и за каждым история; да и Шахты многие знают не понаслышке…» Она помолчала, задумавшись, потом тряхнула головой: «Да что о грустном говорить? Наше время ушло, ваше – молодое – время приходит. У нас-то нет молодых, а у вас, вы говорите, и школа детская в Шахтах, и церковь большая в Новосибирске, вам и дорога. Вот ведь как замечательно, пастор! Столько лет я прожила здесь – да, считай, всю жизнь – и не думала даже, что у нас, лютеран, тут есть будущее – думала, вымрем мы, как мамонты, и всё. А вас вот увидала и как-то легко так стало, будто эстафету передала. Спасибо вам, что приехали!» Она сжала мой локоть своей худенькой, но сильной ладонью, и у меня зачесалось в носу от нахлынувших чувств. «Только, Берта Яковлевна, я не пастор ещё, я дьякон…» – «Да неважно!» – перебила она меня, заглядывая снизу вверх в мои глаза. – «Служитель Божий, пастырь овец? Значит, пастор!»
…Беседовали с Генрихом Генриховичем, старостой краснокаменской общины, в такой же времянке во дворе большого добротного дома, разве что стол – огромный, деревянный, самодельный – занимал почти всё пространство, да стулья и лавки вокруг него и гипсовое распятие на стене намекали на что-то большее, чем просто застолье. И пахло тут соответствующе – старыми книгами, что стояли на полках вдоль белёной стены, а вовсе не едой.
«Да можно просто Андрей Андреевич, если так удобно, – я привык, с детства так звали», – он протянул мне свою огромную ладонь, большой – нет, не толстый, а именно что большой – под два метра ростом; и как он не набьет шишек своей седой головой о потолок и притолоки? Я опасливо ответил на рукопожатие, и он хохотнул коротко: «Бог силой не обидел, это правда, да и годами тоже, уже ведь под семьдесят!» Выслушал мой рассказ о церкви в Шахтах, покачал большой головой: «А мы вот доживаем тут, стариками. Кому почти девяносто, кому восемьдесят, одни мы с Бертой молодые, да Mädchen57?» – И бережно приобнял смеющуюся Берту Яковлевну своей медвежьей лапищей за худенькие плечи. – «Старуха моя померла уже лет как десять назад, дети и внуки в Германию уехали, как и у остальных. Отто Францевич, что служил тут до меня, уже тоже в лучшем мире, и это я не про Германию, как ты понимаешь… Ну, наши девочки собрались и сказали мне: мол, Андрюха, придётся тебе молитвы читать, Gottesdienste58 служить. Я отпираться стал, да куда там с ними спорить! Сейчас соберутся, всё сам поймёшь. Вот и служу тут, по старым книгам, уже лет… шесть?» – он повернулся к Берте Яковлевне, и та кивнула: «Почти семь».
Я взял с полки песенник – старый, ещё довоенный, двадцатых годов – открыл, с трудом начал было продираться сквозь колючий готический шрифт, потом удивлённо поднял глаза на хозяина, а Генрих-Андрей кивнул, улыбнулся грустно: «Сейчас придут, принесут свои тетради, увидишь. Они ведь этот песенник от руки переписывали, а начинают петь – и даже не заглядывают, всё и так помнят». Он ласково провёл рукой по корешкам старых книг, собранных на одну полку: «А эти книги как сохранили? Может даже кто-то и умер из-за них, застрелили или в лагерь отправили, запрещено ведь было такие книжки держать! А сейчас уже можно, да кто их прочитает, кто разберёт? Только песни и остались в памяти, да ещё Der Kleine Katechismus59 да Агенда60 частями: как служить молитву, как крестить и хоронить; а что мы ещё можем?»
…Ночью я ворочался, долго не мог уснуть, вспоминая необычную для меня службу в доме Генриха–Андрея. Как собирались старухи со всего села: кто с палочкой, кто под ручку друг с дружкой; как рассаживались они за столом: каждая на своё место, – строгие, с острыми чертами, нездешние какие-то. Как нараспев тянули они песни на своём языке, будто русские народные, заглядывая иногда в свои тетради. Как пытались говорить со мной по-немецки и удивлённо задирали брови, когда я виновато говорил им, что да, я лютеранин, но по-немецки не говорю. Как слушали молча, с невыразимо усталыми отстранёнными лицами мой рассказ о нашей молодой общине в Шахтах, а потом спрашивали меня о своих родственниках и друзьях, что жили когда-то в Шахтах, да никого-то из них я не знал… Как самая старшая из них, в конце концов, что-то сказал резко по-немецки, и все стали шуршать-собираться, жать руку Генриху Генриховичу и мне и уходить, и Берта Яковлевна, привстав на цыпочки, шепнула мне на ухо: «Коровы пошли. Надо встречать идти, Анна сказала, что время коров». Пошли и мы с Бертой, так же, под ручку, но уже молча, думая каждый о своём.
И вот теперь, ворочаясь на толстой перине на скрипучей кровати, я опять думал об этих людях, почти проживших жизнь и сохранивших веру так, как они сумели, как смогли. Между нами и ими была пропасть, и я не знал, как её одолеть. Разве что принять всё, как есть? Я понял, что не усну, встал, натянул брюки и вышел во двор. Луна заливала дом, двор и постройки призрачным светом, но я не сразу увидел Берту Яковлевну, сидящую в тени на лавочке возле времянки, пока маленький красный огонёк не осветил её лицо. Она вдохнула дым, окликнула меня: «Что, пастор, не спится вам? Присаживайтесь тогда рядом, коли дыма не боитесь». Я опустился рядом, она виновато отодвинулась, пустила дым в сторону: «Курю, вот… Дочке не нравится, говорит, что это грех большой. У них, в баптистской вере, с этим строго. А я не могу бросить. Как втянулась на лесозаготовках, ещё в пятидесятых, так и курю. У вас, кстати, в Шахтах и работала, сразу после школы». – «Да меня не смущает, Берта Яковлевна, что вы курите, по себе знаю, как трудно бросить. Лучше, если не спится и время есть, расскажите о себе? Как вы сюда приехали, когда? Как жили здесь, в этих местах? Как… ну, в церковь пришли?» Она вздохнула, вытянула худые короткие ноги в калошах, выпустила дым вверх, прямо в лицо луне. «А никак я не пришла в церковь. Меня туда мама с папой принесли, когда крестили, еще в Поволжье. Слышали, поди, про республику немцев? Вот, и я слышала. И даже, наверное, видела. А вот не помню почти. Я ведь родилась в тридцать седьмом, в Карпёнках, большое село – мама говорила – тысячи три человек там тогда жило, если не больше. И речка там красивая, Ерусланка, да только ничего этого я не помню, всей той счастливой жизни…»
3.
Маму звали Фридой, как и бабушку, как и старшую сестру Берты. А крестила она Берту потихоньку от отца, в молитвенном доме, в Красном Куте, райцентре. Собирались там тайно лютеране, несмотря на то что всех пасторов посадили до этого. Так же, как здесь, собирались вечерами, молились, пели. И – крестили, когда приносили деток. Отец Берты, Якоб Нойманн, был партийный и идейный. Но мать Бертину, жену свою, любил до беспамятства, всё ей прощал. Только когда узнавал про её поездки в молитвенный дом, хмурился и говорил: «Ох, доиграешься ты в религию, Фрида! Молодая, комсомолка, а всё туда же, к бабкам молиться бегаешь. Выпрут тебя с работы, а меня из партии, вот увидишь!» Не выперли, не успели.
«Когда меня крестили, маме чашку подарили, фарфоровую, из которой меня поливали. Такая была традиция – поливать при крещении из ракушки или из чашки, а потом дарить её на память. Чашка эта до сих пор сохранилась, хотите посмотреть?» Я кивнул молча, Берта Яковлевна потушила папиросу в консервной банке на земле и поковыляла во времянку, где она постелила себе. В окне было видно, как она потянулась к запертому на торчащий ключ шкафчику в углу, достала оттуда коробку, поставила её на стол, открыла, стала ворошить какую-то связку бумаг, похожих на письма. Рука её замерла над этими пожелтевшими листами, потом нырнула вглубь коробки, достала что-то. Вышла из времянки, протянула мне: «Вот…» Я бережно взял в руки, поднёс к освещённому окну, стал рассматривать. Обычная чайная чашка из тонкого фарфора, ручка отбита, по краю – выцветший золотистый ободок узором, по бокам – розы, крест-накрест. «Розы», – сказал я, чтобы что-то сказать. – «Как у Лютера на эмблеме». Она кивнула, забрала у меня чашку, унесла, спрятала в коробке, вернула всё на место. Потом, погасив свет, прихромала к лавочке, виновато вытянула из кармана халата папиросу: «Еще одну…»
«Ничего не помню из тех времён, как не было ничего. Только ощущение осталось как бы рая – речка, зелёный двор, яблони во дворе с вот такими яблоками огромными, августовскими… А может, это от маминых рассказов осталось? Не знаю. Первое, что помню – это поезд. Огромный такой состав из одинаковых теплушек. Гомон, бабы галдят-плачут, а мне интересно – я ведь столько людей вместе разом никогда не видела. Вон знакомые наши, вон друзья мои-подружки по Карпёнке – как звать, не помню, а лица их помню отлично. Маму и папу помню только по фотографиям, а эти лица – помню…»
Берта Яковлевна затянулась сильно, выпустила дым в лунный свет, невидяще посмотрела сквозь него, будто заглянула в те годы. А может, и вправду заглянула?
«А ещё помню солдатиков. Они стояли вдоль толпы на перроне: цепочкой, с автоматами; такие зелёные, как этот, наш солдат на памятнике в центре села, видели, наверное? Вот и те такие же, зелёные, одинаковые. Вот я и отошла от своих, на них посмотреть. Молодые… А лица у них – никакие. Словно они не на людей смотрят, а на насекомых. Это помню. Помню, как стрелять начали, и все завыли сначала в голос, а потом затихли, прижались к земле, а я смотрю, мне же интересно, как стреляют. А это какой-то офицер в воздух палил, чтобы все успокоились, значит. Тут меня мама нашла, схватила, прижала к себе, а глаза у неё – огромные: испугалась, наверное. Не знаю – может, это тоже не всё я помню, а мешаются мои воспоминания с мамиными рассказами?
Потом ехали в вагоне. Сначала ничего, только в туалет хотелось, и меня в угол относили – после перрона мама меня вообще не оставляла одну, только с ней или с сестрой Фридой, той десять тогда было. В том углу все в туалет ходили в вёдра, а потом – на остановках – выливать выпускали. Фу, какой там запах стоял! Я сейчас думаю, что это не запах мочи был, а запах страха.
Я лежала на каких-то мешках: то, что из дома взять разрешили, наверное. Мешки на полу, а поверх их одеяла, пальто, папин тулуп. Я в самом углу лежала, смотрела в щель, как рельсы бегут, и на соседний вагон, на солдатика с ружьём: знаете, в конце вагона каждого они стояли, да. Из щели еще так сквозняком приятно дуло, а в вагоне жара, крыша нагревается под солнцем, народу набито – кто сидит, кто лежит, а кто у стен дышит, у таких же щелей. Только возле вёдер поганых мало людей.
На остановках хоть двери открывали, легче было дышать, но не выпускали – только дежурных: помои вылить, да за водой сходить. Еду, вроде, давали – мама говорила, – да я этого не помню. Помню точно, что есть и пить хотелось всё время, запах от вёдер помню, лежанку из мешков и эту щель, куда смотрела».
Берта Яковлевна замолчала, пепел сорвался с кончика папиросы, опустился бесшумно на залитый бетоном пол двора, разлетелся. Я тоже молчал, я не ждал такой истории, и мне сказать нечего. Да, я слышал, конечно, о депортации немцев, но всё это было как-то книжно-статистично, наподобие статьи из журнала: типа, сколько жило, сколько переселили, сколько погибло. И вот рядом со мной, бок о бок, сидит живой участник этих событий, пожилая шестидесятилетняя женщина, она же – маленькая девочка Берта, четырёх лет от роду. Действительно, что запомнишь в четыре года? Нужно сильно постараться, чтобы в память врезались воспоминания в таком возрасте…
Моя соседка по лавочке вздохнула судорожно: «Но ещё одна картинка оттуда мне до сих пор снится иногда. Я на своих мешках лежу в уголочке, смотрю в щёлочку, как мы трогаемся со станции какой-то, а вдоль вагона бежит мужик с ведром; из ведра вода плещется, а он бежит – опоздал, наверное. А потом смотрю: а это же дядя Готлиб из нашего вагона! И борода у него такая смешная, на две стороны разметалась, и бежит он смешно – подпрыгивает, запинается, сапоги водой облил. Я смеяться стала, а солдатик из соседнего вагона, на которого я всю дорогу смотрела, тоже засмеялся и ружье с плеча снимает. Дядя Готлиб уже и ведро бросил: бежит, руки тянет к солдатику, а тот, не целясь, почти в упор – бах! – и дядя Готлиб упал, тоже так смешно свалился, как куль… А в вагоне, слышу, кто-то воет, в двери стучит: наверное, тётя Марта, жена его – ну, дяди Готлиба».
Выкуренная папироса исчезла в жестяной банке, морщинистые руки трут одна другую, будто замёрзли, а в лицо я заглядывать боюсь. Боюсь увидеть там что-то нездешнее, из тех времён, вроде смеха той девочки у вагонной щели.
«Долго ехали, но это я уже не помню, мне сестра Фрида рассказывала, что долго. Съели, говорила, почти все запасы, хоть и экономили. Наконец, рано утром двери открыли и стали нас выгонять. Мама меня в охапку схватила, я проснулась и давай орать. Мама мне рот закрывает, чтобы услышать, что говорят, отец с Фридой мешки тащат, солдаты подгоняют, нас всех собирают в большую кучу, и оказывается, нас всего два вагона доехало, а остальные где-то по пути в другие места отправили. «Ужур… Ужур…» – по толпе ползёт непонятное слово, и как доползает, так люди плакать начинают, словно сказали какое заклинание страшное. Мама тоже заплакала и говорит нам с Фридой: «Ужур – это Сибирь…»
Потом нас по подводам развели, мужик там был хмурый такой, неразговорчивый, не помогал мешки грузить с вещами, мама с папой и Фрида их таскали, а меня посадили на телегу. Запах помню этот утренний – конского навоза, креазота от шпал и ещё чего-то – наверное, осени? Уже деревья золотились, когда мы ехали на этой подводе, но было тепло ещё, и я смотрела по сторонам. Господи, как красиво! Дорога то в гору, то с горы, лес кругом, иногда дома начинаются – сёла, наверное, – и опять лес и дорога. Так полдня было. А потом степь пошла с перелесками, тоже жёлтая, выгоревшая, и к закату показались эти скалы, Красные Камни. Небо тёмно-синее, горы уже солнце заслонили на горизонте – красные, трава и деревья – жёлтые кругом, а от реки туман поднимается белый – я такого тут потом никогда не видела, ну а может просто некогда потом было смотреть на всю эту красоту? Нас несколько подвод ехало друг за другом, в селе все разъехались кто куда, ну а нас привезли на окраину села – сейчас там скотомогильник, а раньше дома были. Мужик, что нас вёз на подводе, дядя Вася, к дому подъехал, заселил нас у себя в бане, на огороде. Он себе другую срубил, новую, а в старой нас поселил, всех вчетвером. Так и жили там первую зиму. Отец трубу поправил, печку сложил из плитняка – там до этого «по-чёрному» топилось, всё было в саже; мама и Фрида отскоблили стены, побелили, крышу утеплили, нормально получилось. Отца взяли на моторно-тракторную станцию, он в машинах разбирался, а мама нигде не могла долго работу найти, они до снега ходили с Фридой по степи, собирали кизяк, чтобы им печку топить. Меня часто с собой брали. Я бегала за овечками, а они в мешки навоз набирали, потом солому, всё это месили вместе и сушили, если дождя не было, под солнцем. И в тележке домой привозили, складывали под навес. Меня сверху везли, на этом кизяке. Едем по деревне, а мальчишки камни кидают и кричат вслед: «Фашисты идут! Фашисты! Готовьте гранаты!»
Рука Берты Яковлевны дёрнулась к голове, прошлась по редким волосам, седина засеребрилась под луной. «Вот так я и получила своё первое ранение, в битве под Красными Камнями», – усмехнулась она. – «Шрама уже нет, а голова помнит. Мама тогда меня прикрыла, рану зажала и бежать к дому, а Фрида тележку с кизяком потащила, ей тоже досталось здорово!» – «Сколько же вы пережили, Берта Яковлевна! Да ещё совсем ребенком!» – «Это цветочки были», – устало произнесла она и опять потёрла ладони друг об дружку шершаво. – «Как у немцев говорят: «Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg» – «Где есть воля, там есть и путь», а у нас не было ни воли, ни пути. Были мы кто? Фашисты. Диверсанты и шпионы, как о нас писали тогда. Ну, я-то не понимала этого, слушала только разговоры с открытым ртом. Фрида большая уже была, одиннадцать почти лет, ей и прилетало от местных девчонок и мальчишек больше, а меня почти не трогали. Так, догонят, повалят, потыкают лицом в навоз; я плачу, а они смеются… Ладно, пастор, хватит на ночь историй, спать пора. Простите старую дуру за эти рассказы – кому они нужны, кроме нас?»
Я взял её за руку осторожно, как хрупкую фарфоровую чашку; рука лёгкая и холодная, наверное, что-то с сосудами. «Берта Яковлевна, спасибо вам за рассказ. Может, Бог даст, расскажете продолжение ещё когда?» – «А вы заезжайте, пастор. Не оставляйте нас, стариков, навещайте. Может, наконец, и Abendmahl61 нам дадите, у нас ведь очень давно не было вечери. Ну всё, Gute Nacht62, пастор».
И она похромала во времянку, забрав свою руку из моей, как будто разомкнула цепь, и на меня навалилась вдруг усталость, и я тоже побрёл к своей перине и, утопая в ней, провалился в сон, где мелькали шпалы сквозь узкую щель и человек, бегущий с ведром, упал под градом пуль и встал и снова побежал за удаляющимся поездом…
4.
Наезжали мы с того времени в Красные Камни не часто, но регулярно: то на Рождество, то в Пасхальные дни, то на другие праздники. Я служил Abendmahl, дети выступали: то сценки показывали, то песни пели – в общем, связь была. Единственное, чего не было – это времени поговорить с Бертой Яковлевной с глазу на глаз, услышать продолжение истории её жизни. Каждый раз, когда ехал, думал: ну вот, найду возможность – посидим, поговорим; ан нет, не выходило никак. И за годы я видел, как старела община, исчезали бабушки – кого забирали внуки, обустроившиеся в Германии, кого уносили на кладбище; видел, как сгибался под весом лет Генрих–Андрей, и как ссыхалась, становясь всё меньше, Берта Яковлевна. Зато Коля рос, от приезда к приезду вытягиваясь в подростка-акселерата.
В тот год – кажется, в две тысяче первом, – когда мы решили провести детский лагерь на карьерах у Красных Камней, Коле было уже шестнадцать, и он провёл с нами в тот год всю смену. Здоровый, крепкий парень, белобрысый, совсем не похожий на того шкета, что встретил я однажды у моста на речке Белой, он-то и вытянул бабушку Берту к нашему лагерному костру. Это был последний костёр, назавтра нам предстояло уезжать: кому в Шахты, кому в Абалаково, где я уже к тому времени служил, кому в Новосибирск. Шутки и песни мешались со слезами, как это водится во всех подростковых лагерях, потом все расползлись по палаткам спать, а мы остались сидеть у костра – Коля, я и Берта Яковлевна, которую я должен был отвезти домой на машине. Я открыл было рот, чтобы предложить ей собираться, как она сказала, не отрывая взгляда от огня: «Хорошо тут у вас. Давайте ещё посидим немного? Я тут вот так, безо всяких дел, в последний раз была в его возрасте», – и она кивает в сторону Коли. Я соглашаюсь и тоже смотрю на огонь. Он пляшет синими сполохами, иногда посылая в черное небе, усыпанное звёздам, снопы искр, словно пытается добавить на тёмном бархате ещё огня. Он, костёр, словно живой, словно четвертый наш участник, рассказывающий свою историю на своём языке. Мы молчим и слушаем костёр, а потом я говорю: «Берта Яковлевна, а что было дальше? Помните, вы начинали как-то рассказывать о себе. Вас привезли сюда и поселили в старой бане, которую вы превратили в свой дом. А дальше?» Она вздыхает, всматривается в меня, потом смотрит на Колю. Тот заинтересованно придвигается на бревне, обнимает колени, басит: «Баб, расскажи?»
«… Баня дала нам выжить в ту зиму – самую тяжелую зиму сорок первого. Холодно было сильно, мы не привыкли к такой зиме, а вот снегу совсем мало было. Овец совхозных пастись выгоняли всю зиму, они ходили по степи и копытили, сено на корню подъедали. А мы кизяка заготовили много и дров тоже, и папа паёк получал, худо-бедно жили: в тепле, в этой самой баньке. Вечерами мама забиралась на наш с Фридой топчан, прямо напротив печки, которую папа сложил из плитняка местного и обломков кирпича, и рассказывала нам истории на нашем языке. Когда сказки, а когда из Евангелия – всё у меня перемешалось. То Гретель и Гензель прячутся в пряничном домике в тёмном лесу, то четвёртый мудрец, отбившийся от трёх других, тридцать лет ищет Иисуса, чтобы Ему поклониться, а мы слушаем все – даже папа – и на огонь сморим, как кизяки горят. Так и перезимовали. Рождество отметили тихо, мама песни пела вполголоса, и отец даже подпевал, на Пасху осмелели настолько, что собрались вместе, во дворе у тётки Марты – той самой, у которой дядю Готлиба тогда, в дороге… Ну, все наши, кто зиму пережил и в Красные Камни был определён на поселение. А сколько нас было? Человек двадцать, наверное, если с детьми считать. Марта тогда жила на самом краю села, в завалюшке, домике брошенном. Отец ещё осенью приходил помогать ей этот домик к зиме подготовить. Стена там ещё одна была совсем кривая, так наши мужики брёвнами её подпёрли, чтоб не упала, и когда ветер был, она, стена эта, шевелилась и скрипела, будто плакала. Вот у тётки Марты, на отшибе, и собрались на Пасху сорок второго, да…»
Берта Яковлевна умолкла, глядя в огонь и улыбаясь. Коля шевельнул палкой дрова, те затрещали, стрельнули искрами в небо, и наша рассказчица встрепенулась, продолжила.
«Тётка Марта придумала, что у неё день рождения, вот и позвала всех. А когда собрались, достала невесть как сохранившийся песенник с молитвами. После службы строго наказала всем, чтоб никому не говорили, а если надо кого отпеть или крестить, то она готова это делать, потому что кому-то же надо? Все тогда разошлись счастливые, будто дома побывали, да…

