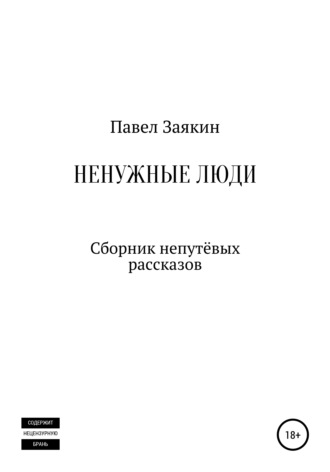
Ненужные люди. Сборник непутевых рассказов
… Хмурый не спал, когда он вернулся со сходки, сразу сел, вынул из-под подушки пачку «Луча», мотнул головой на дальняк, к туалету: «Покурим?» Курили у окна, молчали. Потом Хмурый улыбнулся вдруг: «Что, определили47 Хмурого на сходняке? Сказали тебе, что я честный люд в запутку48 втравил?» Лёха сказал устало: «Ты же знал, что так всё кончится, Хмурый?» Тот кивнул. «И зачем?» – «Что «зачем?», Лёша? Есть вопросы, которые не имеют ответов. Ты мне их сам задавал, помнишь? Про крест, про любовь к врагам. Кому принёс чашу со Своей кровью Христос? Блатным? Мужикам? Ворам в законе отдельно, в рюмочке? Тот, Кто ходил с мытарями и блудницами, делил ли людей? Отвергал «петухов»? Если священник, пьющий чашу после всех, не осквернён, то почему нельзя мне? Мы придумали кучу законов человеческих, которые нас разобщают, и хотим втиснуть в них Бога. А Он не влазит в эти бл@#ские рамки». Лёха молчал, глядя в пол. Плитка под умывальником потрескалась и требовала замены. Из какого-то крана всё время капала вода. Хмурый вздохнул: «Ладно, не плачь, Лёха, а то заржавеешь. Кому назначено быть Гвоздём, тот торпедой49 не станет. Три дня мне дали? Ну вот, значит, есть еще время, как раз в воскресенье успею причаститься». Он загасил в умывальнике бычок, устало потёр колени со звёздами и пошёл по коридору, шаркая тапочками, а Лёха смотрел ему в спину и думал, как же им быть…
… Через два дня, в воскресенье, Лёха на службу не пошёл. Пока народ болтался по территории, он вскрыл свою нычку с заточенным гвоздём и грел его теперь в кармане. Он ничего не решил – убьёт он Хмурого или кого-то из быков Носа, которые придут за ними, а может, вскроется сам – только отчаяние билось в нём, как океан из пиратского романа. Он то порывался бежать к дежурному, чтобы сообщить о грядущем ЧП, то думал, как принудить к этому кого-то из известных стукачей, чтоб Хмурого закрыли хотя бы в ШИЗО в одиночке, а потом перекинули в другую зону, но всё было как-то эфемерно и фантастично, как в фильмах или дурных книжках про зону. На Лёху зыкали из блатного угла, но ничего не говорили, ждали развязки, да Лёха и сам ждал. Ждал, когда вернётся из церкви Хмурый, чтобы хоть что-то, хоть какой-то намёк увидеть в его глазах, хоть какую-то подсказку. Но время шло, а Хмурого не было, и это было невыносимо.
…Сирена пронеслась над зоной внезапно – давно так не горланила, Лёха уже и забыл её тревожный вой. Все бежали на плац, орали отрядники, считая людей. Никто ничего не понимал – зачем тревога, что случилось. Бежал и Лёха, скинув по пути у клумбы свой гвоздь от греха подальше, воткнув его в мягкую чёрную землю, представив при этом на миг, как гвоздь проходит Хмурому под ребро. На отрядном построении Хмурого тоже не было, и отрядник, капитан Агарович, был весь потный и злой, как собака. Доложились, разошлись, менты кипишились, а Агарович погнал пятый отряд на шмон, и среди зэков пронеслось слово «побег». Пока трясли барак, Эдик Баптист подошёл к ничего не понимающему Лёхе и сказал: «Ну, красава Хмурый твой! Не зря у него, говорят, красная полоса50 в деле была! Как сквозь землю провалился после службы. Поп Василий забеспокоился, доложил о пропаже, вот тревогу и подняли. Землю роют, а найти не могут, вот чудеса Господни! Не вознёсся же он на небеса живым, как Илия или Енох?» И Лёха, вслед за Эдиком задрал голову в голубое, как глаза Хмурого, небо.
Рука была готова, когда солнце взошло над Шахтами, залив красноватым светом припорошённый снегом посёлок. Отец Алексей сидел на заднем крылечке церкви и курил, пуская вверх дым и пар, а рука расположилась рядом на ступеньке. Рядом лежал большой гвоздь.
Только что отец Алексей аккуратно, чтобы не расколоть руку, просверлил ладонь дрелью, диаметром чуть больше гвоздя. Оставалось только собрать фигуру на кресте, проверить ещё раз, как всё подходит друг ко другу. Затушил бычок, встал, потянулся навстречу солнцу, хрустнув всеми суставами, постоял так, блаженно щурясь и греясь теплыми уже мартовскими лучами, потом, прихватив руку и гвоздь, вернулся в зал, где стояли небольшие ящики, полные стружки, и на полу лежал большой крест. Стал извлекать из ящиков части тела, раскладывать их по местам – сведённые вместе ноги, щуплое тело в набедренной повязке (пальцы наткнулись на дырку в боку, дёрнулись), ещё руку, голову в терновом венце. Глаза были закрыты, но он знал, какого они цвета. Глядя на разобранную фигуру размером с ребёнка, он почему-то вспомнил слова Спасителя про отсечённую руку и ногу, а вслед за этим: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Бережно свёл все детали фигуры в пазы, взял гвоздь и молоток, примерился в трёх местах, надсверлил крест, вставил гвозди. Они вошли в древесину плотно. Потом разобрал фигуру, сложив всё обратно в ящики, похожие на маленькие гробы, прошептал: «Ничего, скоро уже Пасха…». Раз уж был тут, в пустом зале отслужил утреню, постоял на коленях перед алтарём, потом запер двери и пошёл домой: позвонила жена, позвала завтракать.
Чуда не случилось: Хмурого подстрелили на другой день в тайге, когда отправили на его поиски чуть ли не всех канских ментов и вояк. Всю зону перевернули вверх дном: искали подкоп или перелаз, хоть какую-то щёлочку, через которую мог наружу просочиться Хмурый, но ничего не нашли. Трясли пятый отряд, дёргали на допрос всех, а его, Гвоздя, на всякий случай определили на кичу, как самого близкого Хмурому человека, но он ничего не знал, сам был в ах@е от произошедшего, и его, наконец, отпустили, списав эти дни в зачёт срока. Отец Василий упросил хозяина отпеть Хмурого в церкви, тот разрешил, но чтоб без заключённых, и отец Василий согласился, отпел и освятил могилу на местном кладбище – у Хмурого не было никого из близких, некому его было забирать. Зону полихорадило ещё недели две, а потом всё встало на свои места, только зэки шептались, всё еще отыскивая «тайный ход», да Жора Енисейский хмыкнул, проходя мимо Гвоздя: «Красиво соскочил, прям хоть роман пиши».
Вскоре зазвенел Гвоздю звонок, и мама, приехавшая с братом Димасом на раздолбанной «шестёрке», встретила его у выхода, накормила, и они поехали в Шахты. Мать всю дорогу без умолку трещала о новой лютеранской церкви, об отце Александре, о том, как они молились о нём, Лёхе, всё это время, а потом вдруг охнула и дёрнулась к сумке: «Лёшенька, я совсем забыла передачку оставить! Может, вернёмся?» – «Какую передачку, мам? Я уже тут», – усмехнулся он. «Ты-то тут, да я не тебе, я другу твоему собрала. Он же мне писал про тебя последний год чуть ли не каждый месяц». Лёха оторопел: «Ка… какому другу? Кто писал?» – «Ну вот же, – запричитала мать, – просил он меня, чтоб я тебе ничего не говорила, а я… Да щас, погоди…» Она принялась рыться в сумке, вытащила несколько замурзанных конвертов, близоруко прищурилась на аккуратно выведенные буквы: «Вот… «Илья Владимирович Хмунин». Я и собрала ему передачку, раз он о тебе так заботился. Ну давай вернёмся, недалеко же отъехали?» Димас обернулся: «Так что, возвращаемся?» Лёха тронул его за плечо: «Нет. Уже без надобности. Откинулся Илья Владимирович…»
…Письма Хмурого матери он читал всю ночь, когда тормознули за Старосёлово в придорожной гостиничке и решили по темноте уже не гнать, заночевать тут. Мать тоже не спала и молчала, только вздохнула, когда он вышел покурить, прихватив со стола мятые листочки, усеянные округлыми убористыми буквами – плотно, одна к другой. Он сидел в холле в кресле под лампой, читал о себе, какой он, Алексей Михайлов, пытливый и ищущий, и как в нём сильна вера в Бога, и как он меняется в лучшую сторону, и как Господь хранит его и оберегает от зла, и слёзы, которые все шесть лет он прятал под камнем, текли по его худым щекам, по упрямым морщинам, что прорезали лицо, будто гвоздём процарапанные.
В последнем письме, что было отправлено месяца три назад, Хмурый писал: «Лариса Ивановна, Вы пишете, что уже год как у вас в посёлке появилась лютеранская церковь, и Вы туда ходите и не нарадуетесь тому, что стали верующей. Я, хоть и православный, тоже радуюсь за Вас и молюсь, чтобы церковь Ваша росла. Не так важно, кто ты по исповеданию, важно прилепиться ко Христу и не отрываться от Него. Слышать Его каждый миг своей жизни. Ваш сын услышал Его, я это знаю. А ещё мне кажется, что у него большое будущее, у Алексея. Почему-то я думаю, что он станет священником. Может, это мои фантазии, но я верю, что так и будет. Приведите его в церковь, пусть Ваш батюшка с ним поговорит. Может, направит его куда учиться. Ему нельзя сейчас останавливаться на достигнутом, ему нужно двигаться вперёд. Потому что (я верю в это), Христос открывается ищущим, как сказано в Евангелии. Спасибо Вам за сына, берегите его…»
7.
Машина тряслась по ухабам, расплёскивая грязь из весенних сверкающих луж. В кабине пахло бензином и немного стружкой, запах которой просачивался из багажного отсека «газели». За долгую дорогу от Шахт уже наговорились вдосталь, и отец Алексей пытался поймать сигнал, чтобы позвонить Инне, поболтать с детьми, но связь была плохая, только пришла эсэмэска от старшей, Людочки: «Пап, я уже в Енисейске, в общаге, добралась нормально. Тебе хорошей дороги, не скучай. После сессии приеду; свозишь меня на рыбалку на озеро, как в прошлом году?» Он улыбнулся смайлику в конце сообщения, стал корявым изрезанным пальцем набирать ответ.
Водитель Толик скрипнул тормозами, выругался вполголоса, встал у обочины. «Чего ты?» – оторвался от экранчика отец Алексей и увидел «гайца» с автоматом, бредущего к машине. Толик полез за документами, скрипуче опустил стекло, впустив свежий ветер, изобразил улыбку. «Инспектор ДПС… План «Перехват»… Разрешите документики? Что везём? Откройте, пожалуйста, заднюю дверь…» Толик, кряхтя, полез из машины, загремел дверью, открыл «газель». «Что в ящиках? Можете показать?» – «Ловите кого, что ли? Тут не спрятаться никому…» Толик заскрипел монтажкой, и отец Алексей расслышал отчётливое «Б#я!» и характерный щелчок предохранителя, вжал голову в плечи по старой лагерной привычке, в мыслях пронеслось: «Что там?..» Откуда-то снизу забухтел Толик: «Да ты чо, начальник? Это же распятие, просто разобранное. Вон в кабине священник сидит, у него все документы есть!» Напряжённый голос сотрудника затребовал от отца Алексея «выйти аккуратно, руки на виду, документы в руках». Тот вышел, усмехнулся, подошёл к распахнутым дверям, протянул папку, заглянул в «газель». Из открытого ящика из стружки выглядывала пятка. Сотрудник, не отводя автомата, недоверчиво тронул пятку рукой, ворохнул стружку, расслабился: «Ну вы даёте! А я уж чёрте-что подумал про расчленёнку! Что, реально распятие?» Отец Алексей протянул папку: «Да. Вот бумаги, в церковь везу» – «Да ладно, – махнул рукой «гаец», потом прищурился на отца Алексея. – А ты точно священник? Что-то у тебя все пальцы синие, в «гайках»» – «Наследие прошлого, старший лейтенант, – хмыкнул отец Алексей. – Преданья старины глубокой. Тебе и на меня документы показать?» – «Да не надо, чего там. А вот остальные ящички вскройте, пожалуйста». Толик встал с земли, отряхивая брюки, ворча полез отрывать ящики. «Гаец» заглянул везде, поцокал языком, выражая восхищение: «Прямо как настоящее. Вы уж простите, мужики, работа такая…» – «Да ничего, – отмахнулся отец Алексей, заколачивая ящики, – без проблем. Ты только свой автомат на предохранитель не забудь вернуть, командир, а то ногу нечаянно отстрелишь».
…В Канске, на окраине, они ушли по объездной в село Прибрежное, тормознули у небольшого храма. «Посиди, – сказал отец Алексей Толику, – я сам схожу». И спрыгнул в блестящую грязь, пошёл к резной старенькой калитке.
Ворота были открыты; он вошёл, обстучав ноги, осенил себя крестным знамением на алтарь. Оттуда уже спешила хромая сгорбленная фигурка в подряснике и ватной безрукавке, подслеповато щурясь на вошедшего. «Мир вашему дому, отец Василий! Сколько лет, сколько зим!» – «С миром принимаем, сын мой… Только не пойму я, знакомы ли мы?» – «Да знакомы, отец, только не виделись давно. Ещё с тех пор, как вы служили в колонии, а я с той стороны был. И резал вам в церкви подсвечники да оклады на иконы». Отец Василий ахнул, повернул его к окну, всмотрелся в лицо, узнавая: «Кажется… Алексей?» – «Точно! Лёха-Гвоздь когда-то. А сейчас вот отцом Алексеем прихожане называют, служу в лютеранской церкви, так уж сложилось. Почти ваш коллега» – «Чудны дела Твои, Господи…» Помолчали, разглядывая друг друга, потом отец Василий вздохнул: «Тебя Илья ведь привёл тогда в храм? Вспоминаю я его часто». – «И я вспоминаю, отче. Спас он меня тогда, дважды спас. И от греха, и от меня самого. А я тут что приехал-то? – Он отстранился, махнул в сторону ворот. – Я распятие сделал для церкви в колонии. Может, оно и не совсем по канонам православным, но от души. Я знаю, вы всё ещё там служите иногда, может, завезёте? Не в алтарь, а сбоку, за «канон»51 поставите? Я бы сам привёз, да нас, сектантов, туда не пускают сейчас» – «Сектантов… – усмехнулся в усы отец Василий. – Поделить землю не можем, а и небо делим тоже. Конечно, сынок, доставлю. Заноси сюда, посмотрим твоё распятие…»
8.
«Человек не властен над снами», – думал отец Алексей, прислушиваясь к сопению детей и тихому дыханию жены. – Что им снится сейчас? Какие обиды переживают они, какие радости, что вспоминают, когда нет контроля и из-под душевного камня выходит наружу всё, что на сердце – и хорошее, и плохое?» Он тихо разулся, снял куртку, поставил в угол сумку. Жену будить не стал, лёг у детей в зале, раскатав в углу спальник. «Через две недели – Пасха, в этом году она общая: и у православных, и у лютеран. Отец Василий обещал к празднику установить распятие. Обещал – значит, сделает».
Он закрыл глаза и уплыл – сразу, без сновидений – в мягкую тьму, абсолютно непроницаемую, какая бывает только безлунной ночью перед рассветом. Почему-то он знал, где восток, чувствовал его, повернулся к нему лицом и ждал – без страха перед тьмой, без суеты, без мыслей даже. А ещё он знал, что в этой предрассветной тьме он не один.
15.02.2020, Абакан
ЧАШКА С ОТБИТОЙ РУЧКОЙ
Ф.Ф., Ф.Я., Б.Е., Л.Н., З.Ф. и многие-многие другие – мы вас помним…
1.
«Мы собрались, чтобы попрощаться с нашей сестрой Бертой, чья смерть наполнила скорбью её семью и всех близких. Мы соболезнуем им и хотим быть с ними в этот трудный для них час, чтобы помочь им пережить это горе. Мы знаем, что для верующих смерть становится началом новой, лучшей жизни, а наша разлука с усопшими не вечна. Как говорит нам Святой Павел в Первом послании к Фессалоникийцам: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним».52 Поэтому и мы уповаем на то, что вновь встретимся с Бертой в доме нашего Небесного Отца. А сейчас – помолимся… Господи Иисусе, смертью на кресте искупивший наши грехи, помилуй нас!»
Все начинают шелестеть распечатанными мной листочками с текстом службы, сморкаются в платочки, гудят в ответ: «Господи, помилуй!», а я, всматриваясь в литанию53, ловлю глазами черные буковки, складывающиеся в слова и, скорее, угадываю, чем прочитываю их. Они, будто червячки, ползут друг на друга и путаются в тумане, заставляя меня подносить папку-служебник всё ближе к глазам.
«Иисусе Христе, Своим воскресением вернувший нам жизнь вечную, помилуй нас». – «Христе, помилуй». – «Господи, Своим вознесением во славу открывший нам путь на небеса, помилуй нас». – «Господи, помилуй».
Берта Яковлевна лежит в маленьком, будто бы детском гробике, стоящем на двух разнокалиберных табуретах, в центре зала в её доме. Вера, дочь Берты, занавесила трюмо с зеркалами и телевизор новыми простынями, будто боится, что мать выглянет из зеркальных отражений или экрана и помашет маленькой сморщенной рукой, усмехаясь из своего зазеркального далёка: «Что такие скучные, ребята? И как вас много собралось с такими грустными лицами? Zu viele Köche verderben den Brei54, вы забыли? Ну-ка, улыбнулись!»
Я представляю это так живо, что улыбка сама наползает на мою физиономию, а слова-червячки в папке успокаиваются и покорно укладываются в свои строчки: «Боже, открой наши сердца навстречу Твоему слову, чтобы мы во тьме обрели свет, в наших сомнениях – уверенность, исходящую из веры, нашей печали – утешение…»
Я оглядываю зал – вдоль побеленных стен, на лавочках, стульях и табуретах сидят бабушки в фуфайках и куртках, кто-то в шубе, большинство – в валенках с калошами, а кто-то и просто в калошах на толстые вязаные носки. Платки на головах или серые шали, в руках дрожат листочки и комкаются одинаковые носовые платки – Вера раздавала их при входе: «Так положено…» Изо ртов поднимается пар: в доме не топили с вечера и с утра, а на улице – минус двадцать. И человек тоже около двадцати: остатки немецкой общины, соседи, Вера да несколько её подруг из баптистской церкви. Из молодых – только Коля, Верин сын, внук Берты Яковлевны, да его друг Саня – здоровый такой тракторист, уже подогретый самогонкой; они будут выносить гроб, и на кладбище помогут.
На стене – отрывной календарь, да только там не сегодняшнее хмурое одиннадцатое февраля две тысячи девятого года. Там ещё январь, солнечный морозный день позапрошлой среды, двадцать восьмое число. Я помню, как сам ободрал лишние листочки, когда приехал сюда и в последний раз причащал Берту Яковлевну.
Уже тогда она лежала маленькой мумией на своей кровати, сейчас по-армейски ровно застеленной, с кучей подушек в изголовье – одна на другой, от большой к самой маленькой. В доме тогда было жарко натоплено (Вера всё бегала со своей половины дома в материну и подбрасывала дрова в русскую печку), сладковато пахло лекарствами и близкой уже смертью, но мне не хотелось тогда даже думать об этом, хотя уже месяц, с Рождества, она почти ничего не ела, перестала общаться с близкими, как она до этого делала, по-своему – улыбкой, слабым рукопожатием хрупкой морщинистой ладошки правой руки, или, как еще раньше, каракулями на листе бумаги, укрепленной на картонной планшетке, что соорудил для неё Коля. Да, раньше она писала, крупными неровными буквами, иногда путая слова – русские с немецкими – и это было её окном в наш мир, а после Рождества она словно ушла на другую сторону, только шевелила губами, что-то повторяя про себя, а глаза у неё запали и смотрели в потолок, редко фокусируясь на Вере и Коле, что убирали за ней, меняли простыни и обмывали её ссохшееся тело. Она была словно космонавт, что уже покинул орбитальную станцию, но всё ещё привязан к ней пуповиной троса и кабелем связи.
Когда я служил ей Причастие, – в тот день, двадцать восьмого – я видел, как она с большим усилием возвращается к моим словам, узнаёт меня с трудом, на своем безмолвном языке проговаривает «Отче наш» и открывает иссохшие губы, чтобы принять в себя и проглотить облатку из пресного хлеба, что я окунул в чашу и поднёс к её лицу. «Аминь» – озвучиваю я движение её губ, и она облегчённо закрывает глаза. Я смотрю на неё и не узнаю. Передо мной – словно личинка человека, готовящаяся к переходу в бабочку. А потом она открыла глаза и усмехнулась мне – правой, не тронутой параличом, стороной лица – и я увидел, как она возвращается в этот мир: космонавт подтянул себя за трос к иллюминатору и приник к нему, вглядываясь в эту сторону, в мои глаза, что смотрят на неё отсюда, из орбитальной станции «Земная жизнь», и эта её усмешка половиной рта… Она словно бы ободряла меня, подшучивала, как делала это всегда, когда мы встречались в лучшие времена, как бы говорила мне: «Пастор Александр, сынок, не дрейфь. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende55, а у меня конец совсем не со страхом – это вы там, на своей станции, заперты, как в консервной банке, а я-то сейчас почти свободна. Я совсем скоро отстегну трос и сниму гермошлем – и что удержит меня от полёта? Куда я полечу, спросишь ты? – Не знаю. Наверное, туда, где больше смысла и любви, чем здесь, в этой жизни. Ты же знаешь почти всё обо мне, не зря мы эти почти двадцать лет говорили с тобой, сидя на завалинке, или за чаем в «летней кухне», или даже здесь, в этой комнатке. С тобой, в этих рассказах, я заново прожила мою жизнь, и что в ней было? Боль, приправленная любовью? Страдание, приперчённое немногими друзьями, которых я теряла? Вся моя жизнь – словно ошибка, которую нужно наконец исправить. Вот я и полечу туда, где всё по-другому. Где мама и папа – живы и счастливы, где не плачет голодными послевоенными годами, отвернувшись к стенке, на своём деревянном топчане сестра Фрида, где Исса «Крестоносец» не разрывается между мной и родной Ингушетией, куда надо довезти своих родных. Где мы с ним вместе, как в те, благословенно-проклятые годы юности, идём к скалам Красных Камней, разувшись, переходим холодные и прозрачные каналы, и пахнет свежескошенным сеном, и мы хохочем, забыв о том, кто мы и где, и валимся на мягкий ещё стог, и его тёмно-вишнёвые глаза нависают надо мной…»
Я всё это увидел в её усмешке, а потом она сжала вдруг мои пальцы своей сухой и горячей правой ладошкой, посылая мне сигнал. И опять закрыла глаза, обессиленно. И я понял: всё, сеанс связи окончен. Я завершил молитву, собрал приборы для Причастия в маленький чемоданчик и тихо-тихо вышел из дома, попрощался с Верой на левой половине, сел в машину и отправился в посёлок Шахты. Мне ещё там предстояло служить вечернюю службу вместе с отцом Алексеем, а потом возвращаться обратно домой, в Абалаково.
Я помню, сказал тогда Вере: «Ну, увидимся через две недели, как обычно?», и она кивнула, деревенская женщина Вера, постаревшая, не выглядевшая на свои пятьдесят с небольшим, будто Берта Яковлевна вдруг проглянула из неё – такая, какой я увидел её впервые двенадцать лет назад.
«Через две недели…» Я старался навещать их всегда, когда ехал в Шахты, раз в две недели, по средам, раз уж двести километров до Шахт, то и тут лишняя сотня до Красных Камней не помеха. Как словом, так и делом – две недели прошло, и я тут, на отпевании. Берта отцепила свой трос и ушла в открытый космос, оставив нас на нашей станции со своими историями. С памятью о своей жизни…
2.
Я познакомился с этой семьёй в далёком уже девяносто седьмом, когда ездил по Хакасии, разыскивая лютеранские общины. Жил я тогда в посёлке Шахты; уже год, как строил там общину, но мне казалось, что этого мало, что нужны связи – ниточки, что давали бы нам, новым лютеранам, понять, что мы не одиноки в этом мире, что рядом с нами есть такие же, как и мы, так же думающие, так же верующие… Новосибирск или Енисейск были от нас далеко; хотелось найти тех, кто ближе, чьи корни глубже и чья история способна поддержать нас, только нарождающихся в депрессивных и деградирующих Шахтах, который всего полтора года назад пережил закрытие металлургического завода, дававшего посёлку жизнь. Поэтому я раз в неделю садился за руль, подсчитывал пожертвования, присланные нам из новосибирской «метрополии», и отправлялся в «свободный поиск» по ближайшим районам.
В село Красные Камни я попал почти случайно – ехал из бывшего совхоза Октябрьского по «короткой дороге» на райцентр Сыры и сбился с пути. Так бывает, когда местные, у которых ты спрашиваешь нужное тебе направление, критически оглядев твою машину, уверенно машут рукой и говорят: «Тут короче. На развилке направо, а там – с горочки. Небольшое болотце будет, но его можно объехать, там колея накатанная, все проходят…» И ты так же уверенно едешь, ну, люди же знают… А когда утыкаешься в болотистый берег здоровенного озера Палы-куль, понимаешь, что где-то ты пропустил нужную тебе развилку, и сейчас тебе нужно опять возвращаться и искать в степных травах твою колею, а солнце в зените и припекает крышу твоей «четвёрки», и надо бы выбираться из этих болот, пока ещё не буксуют колёса и пока тебя окончательно не сожрали невесть откуда взявшиеся оводы, летящие в открытые окна. В общем, приключение ещё то.
Я сжёг полбака бензина, пока, наконец, не выбрался к асфальту у моста через речку Белую. Мне нужно было налево –километров через двадцать пять я был бы уже в Сырах, а еще через десять минут уже бы вернулся в Шахты, но я решил искупаться перед возвращением. Съехал к берегу, заглушил двигатель, скинул одежду (благо, ни на берегу, ни на дороге никого не было) и, взвизгивая от ледяной воды, забежал на стремнину, где меня подхватило и понесло течение. Пока я выгребал к берегу, согрелся, потом по рыбацкой тропинке побежал обратно к машине и одежде, и там, натянув трусы и упав в примятую тёплую и пахнущую рыбой траву, раскинул руки, подставив солнцу своё незагорелое ещё тело. Сверху легла тень, я лениво развернулся и увидел пацана лет десяти – лохматый одуванчик нестриженных жёлтых волос, конопушки по всему лицу, закатанные до колен старенькие трико, в руках – удочка.
«Как рыбалка?» – спросил я, сдвигая выцветшую бейсболку на затылок и садясь. «Да так…» – серьезно махнул рукой пацан. – «Не сезон, надо с утра пораньше. А как речка, не холодная?» – «Да так…» – скопировал я интонации мальца, и мы оба рассмеялись. – «Не сезон, не прогрелась. А ты сам откуда, серьезный отрок?» Отрок был из Красных Камней, было ему почти двенадцать, и звали его Колей. «И что там у вас, в Красных Камнях есть интересного, кроме камней?» Выяснилось, что много всего. Во-первых, рисунки на скалах, «сделанные первобытным человеком». Ещё – карьеры, где вода тёплая «и прыгалка есть для ныряния». И каналы есть, «где малька хариуса можно рубашкой ловить, он, хариус, туда размножаться заходит». «Слушай, Коля, а есть у вас в селе какие-то церкви, ну, кроме православной?» – спросил я безнадёжно, натягивая брюки и футболку. «Немецкая есть», – вдруг сказал мальчик. – «Бабушка туда ходит молиться. А мамка к этим ходит… к бактистам!» «К баптистам?» – уточнил я. – «А бабушка не к лютеранам ходит?» «О, точно, лютеранцы!» – заулыбался пацан. – «А в деревне говорят «немцы»!»

