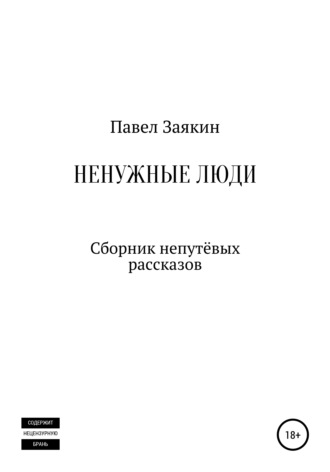
Ненужные люди. Сборник непутевых рассказов
3.
Свадьбу сыграли в общаге, которую Инна получила незадолго до этого как будущая мать и нужный работник – она тогда секретарила в Шахтинской администрации и через год собиралась учиться заочно, «как с ребёнком освоимся». Глава посёлка расщедрился аж на две комнаты, там и гуляли – на третьем этаже, человек двадцать. Мама Лора наварила-напекла всякого, Серый с Толянычем, чувствуя вину за отсиженный Лёхой срок, накупили всякого-разного бухла и разносолов и вообще суетились много. Живот у Инны уже выпирал из-под белого платья, и лицо иногда шло красными пятнами, и, когда они с Лёхой танцевали, она, прижимаясь к нему, шептала на ухо: «Лёшенька, ты же не пойдёшь опять в тюрьму?», а захмелевший Лёха гладил её спину вспотевшей рукой и, улыбаясь глупо, мотал головой – мол, нет, никогда больше. А потом, оставшись одни, они лежали прямо на полу, на брошенном в угол пружинном матрасе, и, остывая от страсти, смотрели в светлеющее за распахнутым окном июньское небо; он курил, а Инна мечтала о будущей счастливой жизни, о поездках на море раз в году и своём доме, который Лёха с Инниным отцом достроит на подаренном им участке…
Хлопотами того же Инниного отца, Петра Борисыча, пристроили Лёху в то лето в «горячий цех» на Шахтинский завод цветных металлов. Лёха весь день тянул на прокате латунный провод и пруток, домой приходил уставший вусмерть и падал на матрас, засыпая сразу после ужина. С зарплатой было никак – обещали сначала заплатить за два месяца, а потом, в августе, и вовсе скроили всем работягам кукиш и пообещали выдать заработанное фольгой и проволокой – мол, продавайте, кому хотите сами. Советский Союз, скрипя, разваливался, отвалились за весну и лето Прибалтика, Молдавия, Белоруссия и Украина, к концу лета посыпались южные республики; все наработанные связи у завода распадались, начались перебои с поставками и с отправками, и в сентябре, когда у Лёхи и Инны родилась Людочка, их цех отправили в неоплачиваемый отпуск на неопределённое время, так и не выплатив зарплату за лето. Рабочие завода бурлили и митинговали, даже побили стёкла у заводской управы, да что толку? Из ничего ничего и получишь. Выручали огороды мамы Лоры и Инниных родителей: картошки насадили в этом году много, и был шанс зиму протянуть на толчёнке и драниках, но у Инны пропало молоко от всех треволнений, и нужны были смеси и детское питание, а оно стоило.
В общем, Лёха подался на заработки, «в край», на узловую станцию Ужур грузить вагоны, и там, ужиная в одном привокзальном шалмане, встретил енисейлаговских корешей с зоны. Собственно, не то чтобы и корешей – так, с соседнего отряда, пересекались несколько раз, одному он бил татуировку, другому занимал блок сигарет. Кореша угостили Лёху, разговорились за жизнь и, узнав о бедственном его положении, обещали перетереть «за честный труд». Через неделю встретились опять, привели с собой незнакомого типа, бледного и лопоухого, но делового, отзывавшегося на «Кощея», и тот предложил Лёхе разовое дело. Суть его, если вкратце, была такая: на заводе в Шахтах есть склад готовой продукции, затаренный этой самой продукцией под крышу, и нужно этот склад разгрузить в грузовики, что подъедут ночью к пролому в заборе – всё просто, как два пальца об асфальт. «Всё заточено с начальством, – шелестел бледный Кощей, – никаких неприятностей не ожидается, нужные люди в курсах, так что дело верное». Сумма за дело тоже была вкусная, примерно в десять раз больше той, что завод был должен Лёхе за лето, и он почёл это моральной компенсацией и подписался, скрепив рюмкой гашеры13 договорняк.
Там его и взяли вместе с новыми дружками, на последнем грузовике, прямо на проломе, с вязанкой прутка. Оказалось, что в курсе были не все – сторож, который должен был закрыть глаза в ту ночь, загремел в больничку с подозрением на язву желудка, а его сменщица была не в теме и вызвала ментов, заметив движуху у склада. Чапай в этот раз даже руки не марал, только махнул: везите, мол, в Сыры сразу, оформляйте рецидивиста.
Инна не плакала, закаменела вся, говорить с Лёхой не стала, когда приехала с мамой Лорой в СИЗО, так всю свиданку и промолчала. А к декабрю, когда Лёху уже этапировали в Канск на новый срок в шесть лет по статье восемьдесят девятой, она подала на развод.
Лёха закуражился, памятуя прошлую тоску, и почти год не вылазил из ШИЗО, срываясь то на отряднике, то на отморозках, которые вдруг косяками попёрли на строгий режим и не чтили ни блатной закон, ни работягу-мужика. Тогда же, в первый год, он и получил свою вторую и окончательную кликуху – «Гвоздь». Дело было так: валандался он на распиловке, когда к нему подвалили два афганца – здоровые бойцы, взятые на мокрухе14 коммерса, осмелившегося сменить крышу, и потребовали, чтобы шёл он, Лёха, честный вор, на пилораму, а иначе они его сами туда унесут и на части распустят. Лёха закипел, но виду не подал, голову потупил и пошёл с афганцами в сторону шумящего сарая, где брёвна резали по определённой длине, а сам глазами зырк-зырк и устриг в траве гвоздь здоровенный, чуть не в палец толщиной, из рифлёной арматуры, да и не совсем гвоздь это был, а типа штырь, но Лёхе было всё равно, он нырнул в сторону и в падении подхватил железку, извернулся и саданул со всей дури одному из конвоиров в живот. Тот выпучил глаза и сел, а второй пошёл на него буром, рыча, но дворовые шахтинские разборки с поножовщиной были неплохой школой, и Лёха увернулся от кулака шурави, упал на колени и загнал свой гвоздь тому в бедро, а потом выдернул и дал дёру, по пути зашвырнув гвоздь подальше в траву.
Когда афганцев тех штопали на больничке, «чёрная масть»15 объяснила им правила, и к Лёхе больше не проявляли интереса, но кликуха прилипла, а на затылке выросли глаза. И в разных нычках – что в бараке, что тайге – стал он прятать гвозди: и не заточка16, скинуть легко, и вещь опробованная.
Когда после очередной отсидки в БУРе он потерял двадцать кило веса и отъехал в больничку с подозрением на туберкулёз, к нему пришли от Жоры Енисейского, смотрящего за зоной, принесли грев и посоветовали снизить обороты, а то не доживёт он по ментовскому беспределу и своей безбашенности до звонка на волю, а после больнички, к счастью Лёхиному «тубик» не подтвердившей, перевели его – не без помощи того же Жоры – в нерабочий восьмой отряд, где он продолжил своё ремесло: колоть татуировки зэкам да рисовать «весёлые картинки» по заказам почтенной публики. И читать книжки, сбегая в иные миры и судьбы, отличные от его, Лёхи, существования. Там, в библиотеке, и встретил он Хмурого на четвёртом году своего срока.
Хмурому было за полста уже, кликухе своей он соответствовал, и был он каким-то серым, будто присыпанным пеплом, с пегими волосами и глухим надтреснутым голосом, на пальцах – выцветшие перстни авторитетные. Только глаза у него были словно от другого человека – не мутный свинец, как у быков-афганцев, от которого холодело в животе, не юркие и наглые мышки, как у большинства блатной молодой поросли, не бритвы, вскрывающие голову, как у Жоры-смотрящего. Глаза у Хмурого были живыми, в них была мысль, был интерес к собеседнику, было небо – ясное солнечное канское небо, с редкими облачками, как в то лето. Базар зашёл за «Мотылька», книжку про французского каторжанина, приговорённого к пожизненному заключению, откуда он сбегал за одиннадцать лет девять раз: до тех пор, пока это ему не удалось. Книжку принёс сдавать Лёха, а Хмурый аккуратно поинтересовался прочитанным и позвал его в курилку. И пока Лёха взахлёб расписывал злоключения, не сломившие заморского бродягу, внимательно слушал и улыбался своими бирюзовыми глазами. Оказалось, книжку он читал, и мнение своё имел, и Лёхино стремление к свободе одобрил. «Только, брат, с этого архипелага ты на кокосах не уплывёшь. – Хмурый допинал бычок несколькими сильными затяжками, прицельно дослал его в урну и снова глянул Лёхе в глаза, как в душу фонариком засветил. – Ну а если решишься и тайга тебя не схавает, и менты не повяжут, что ты с той свободой делать будешь на… – он махнул рукой в сторону вышки и забора – …на той воле. Да и воля ли там? Ой ли? Живут там люди в такой же зоне, только охранники – они сами себе. И стукачи, и исполнители приговора. Нет воли за забором, некуда там бежать». Лёха слегка растерялся: «Как нет? Ходишь, куда хочешь, друзья, родня…» Хмурый улыбнулся: «Ну и много ты, брат, нагулялся? Там сейчас страна другая: посмотри, кто в зону идёт, что поют про тамошнюю житуху? Жрать нечего, денег нет, война в Чечне цинковые бушлаты17 пацанам поставляет… Здесь и то порядку больше». Хмурый помолчал, потом потянул из-за уха вторую сигарету, поднял на Лёху глаза: «Я сюда с Енисейской зоны прибыл, слыхал про наш кипиш18 в девяносто первом?» Лёха присвистнул и кивнул: как не слыхать было про знаменитый бунт? Сорок дней три тыщи зэков из «шестёрки» держали в напряге весь край, требуя положить конец беспределу администрации и ссученых19 блатных. Лёха уже здесь был, когда это случилось, но то, что Хмурый по этапу пришёл сюда с енисейской «шестёрки» досиживать, говорило о многом: рядовых участников бунта не этапировали – только зачинщиков и парламентёров. «Много добавили?» – аккуратно поинтересовался он у Хмурого, но тот только рукой махнул: «Все мои. Да не в этом дело. Я тебе толкую за что? Нет там ничего, с той стороны забора, понимаешь? Та же жизнь, что здесь – сучья, скотская. Зона по всему периметру страны, да и не только страны, вся земля – зона, сечёшь?» Лёха не просекал. Ему не нравилась эта мысль, и, хотя никто его с той стороны не ждал, кроме матери и братьев, думать, как Хмурый, он не мог. «Да это же… блудняк20 какой-то получается, а не жизнь? Нельзя так, когда смысла нет!» Хмурый ткнул сигаретой в забор и вышку вдали, потом поднял глаза к небу, затянулся, выпустил дым вверх, понаблюдал, как он растворяется, поднимаясь вверх и вдруг сказал: «А помнишь, как Мотылёк с товарищами на острове у прокажённых прятались? Этакий тюремный лепрозорий, и их трое, здоровых, живых, на рывке, на нерве? Я сразу вспомнил тогда стихи, но ты, наверное, их не знаешь… Там про самолёт, который летит на запад, а поэт смотрит в окошко и видит зону. Как, бишь, там? «На лесах, полях, жилье, точно метка на белье. Эта тень везде, хоть плачь, оттого, что просто зряч. Частокол застав, границ, – что горе воззреть, что ниц, – как он выглядит с высот лепрозорий для двухсот миллионов?» Бродский… Тоже бродяга». Лёха вдруг разозлился: «И что получается? «Весь мир бардак, все люди – б@#ди?» Укрыться простынёй и ползти по тихой на третий участок21 – так, что ли?» Хмурый хмыкнул и опять посмотрел на небо: «Есть выход, парень. Только не все его видят. Вот, как этот воздух. Дышим мы им, а не замечаем. А отними его у нас – и задохнёмся сразу, так ничего и не поняв, почему и как. Мне, когда это кололи, по третьей ходке, (он неторопливо расстегнул на груди рубаху, оттянул вниз майку, явив синее распятие во всю щуплую грудь), я тогда даже не думал, что это. Типа – так положено, по понятиям. Только понятия приходят и уходят, а мы тут остаёмся. И если Его с нами нет, то и смысла нет: ни там (он махнул рукой в сторону вышки), ни здесь. Тогда мы только пыль под кумовскими сапогами, да и кум с хозяином тоже – пыль». Хмурый встал, оправил одежду и пошёл по дорожке, к воротам, ведущим к его бараку. Потом обернулся, обжёг взглядом: «В воскресенье в храме служба будет, приходи?»
4.
Резать по дереву всякие фигурки и шкатулки Лёха начал на пятом году отсидки, когда его перебросили опять в рабочий барак, и он стал со всеми выезжать в тайгу. На работы он не ходил, а опять сидел в бытовке, и там стал резать из кусочков дерева – от нечего делать, резачком, который сам же заточил себе из гвоздя на пилораме. Жил он в пятом отряде, встретил там Хмурого, кивнул, как старому знакомцу, тот ответил кивком, вот и поговорили. Место Хмурого было через шконку от него, среди мужиков, и на работы он выходил по-честному, что Лёху удивило. Но вопросов он не задавал: знал, что любопытство наказуемо. Хмурый подошёл сам однажды вечером, присел на кровать, протянул кулёк с конфетами: «Ландирки22 к чаю?» Лёха взял, не отказался, дают – бери. «Ты же расписываешь деревяшки, Гвоздь? Есть предложение: надо для храма сделать подсвечники, мы блок сигарет дадим – сделаешь?» Лёха вскинул брови: «Подсвечники? Так на токарном тебе сделают какие хошь. Говорил с токарями?» Хмурый улыбнулся краем рта: «Токаря-то сделают, да без души. Что там на станке можно накрутить, кроме фигур шахматных? А у тебя рука от сердца режет. Если возьмёшься – свисни, заготовки принесу». И встал, давая понять, что разговор окончен.
Лёха взялся. Резал неделю, весь извёлся, потому что всё получалось не так, как задумывал, а когда получалось, понимал, что неправильно это для церкви – правда, не понимал, почему. Испортил пару заготовок окончательно, но Хмурый терпеливо принёс ещё пару, молча отдал, хлопнув по плечу: «Надоест – скажи», и ушёл. Лёху это закусило, он сделал наброски, принёс Хмурому, показал: «Пойдёт?», тот пожал плечами: «А я знаю? Ты мастер, тебе виднее». К воскресенью подсвечники были готовы. Лёха хотел их заморить или покрыть лаком, но Хмурый сказал, что не надо: мол, пусть дерево дышит – чего его одевать не в свои одежды? Так прям и сказал, и это понравилось Лёхе, он тоже любил ощущать изрезанными пальцами фактуру, вдыхать запах дерева, видеть его слои. У каждого дерева был свой характер: хрупкий у кедра, мягкий у сосны, у берёзы – твердый, как кость, а у лиственницы – упрямый и вязкий. Ни с кем Лёха до этого не говорил про дерево, как он его чувствует, а с Хмурым вот получилось. «Дерево честное, никем другим не прикидывается, но можно и его обойти – выварить, нагреть, даже обжечь. И сделать то, что ты хочешь. Главное – не переть против его природы буром», – втолковывал он Хмурому в курилке. Тот улыбался, пыхтя сигаретой и разглядывая Лёхину работу, потом сунул ему подсвечники обратно, мазнул своим ясным взглядом по его лицу, спросил коротко, скорее утвердительно: «Сам принесёшь? Отец Василий будет рад получить это от тебя». И Лёха почему-то согласился.
Пришёл в воскресенье в лагерную церковь, куда ни разу до этого не заглядывал, втянул носом запах ладана, хрустнул пакетом с подсвечниками во вспотевших ладонях… Церковь была хороша – и внутри, и снаружи, построенная из кругляка, как теремок из Лёхиного детства – из книжки, что ему читала когда-то мама Лора. Служба уже шла, и он встал у входа, всматриваясь в полумрак небольшого зала, где горели свечи и нараспев на полузнакомом языке что-то читал священник, стоящий к нему спиной; а когда он повернулся, повернулся вместе с ним и невысокий человек в парчовом стихаре, и Лёха узнал Хмурого. Тот хрипловато-негромко заговорил, заглядывая в большую книгу, и голос его, отлетая от деревянного свода, напомнил Лёхе золотистую стружку, снимаемую им с заготовки: «На гору идёт облистати славы солнца Христос и свыше сияющую денницу омрачити светом…» Лёхе вдруг показалось, что глаза Хмурого загорелись, как свечи, и смотрит он будто бы прямо ему в душу этим самым светом.
…После службы Хмурый нашёл Лёху, провёл его в маленькую комнатку сбоку от алтаря, втолкнул его навстречу усталому бородачу, который ещё не успел разоблачиться, представил: «Это отец Василий, а это…» – «Гво… Алексей, то есть», – Лёха машинально пожал протянутую руку, потом вспомнил, что вроде руку надо было поцеловать, смутился, но отец Василий не обратил внимания, ответил Лёхе неожиданно сильным пожатием и сказал: «А мне Илья про тебя много рассказывал. Говорил, что ты мастер от Бога. Режешь по дереву, рисуешь…» «Илья?» – Лёха растерялся было, потом сообразил, что это он про Хмурого говорит. Достал из пакета подсвечники, неловко сунул их в руки попа: «Вот, возьмите…» Тот близоруко поднёс их к лицу, огладил пальцами, повертел под лампой: «Хороши… Слава Богу! Действительно, талант у тебя, Алексей. А можешь оклад для иконы сделать? Я с начальником колонии поговорю, чтобы в зачёт работы, и вообще…» Лёха хмыкнул, услышав про работу и начальника, сказал: «Даже не знаю. Я ж неверующий, это ничего?» Отец Василий отдал подсвечники Хмурому, повернулся к Лёхе, всмотрелся в него, улыбаясь: «Ничего. Как говорил мой учитель, людей неверующих не бывает. Бывают ещё не верующие, до срока. А срок тут у вас у всех разный, вам ли не знать? Так что, показать тебе икону?»
5.
Библию Лёха читал трудно – не походила она совсем на «Наследника из Калькутты» или на пиратские романы Сабатини. Царапала старым корявым языком мозг, раздражала непонятными историями, отталкивала описанием странных обрядов. «Прямо как на малолетке23, – думал он, – закон на законе сидит, шаг вправо-влево – попытка к бегству». Помог Хмурый – открыл на Евангелии, ткнул пальцем: «Отсюда читай…» Евангелие зашло, стронуло что-то в душе – тяжёлое, как камень, и из-под камня хлынули вопросы.
Говорили с Хмурым теперь часто: сначала в курилке, вечерами, потом тот попросил соседа Лёхиного, Колька Лысого, безобидного мужика, поменяться с ним шконками, переехал к Лёхе соседом через тумбочку, и стали базарить допоздна, шёпотом.
Лёха никак не мог догнать, зачем нужна была эта жертва на кресте. «Ну, Он же мог чудеса делать, по воде ходил, воду в вино превращал. Когда Его брать пришли, мог приказывать ангелам, чтобы за Него впряглась небесная братва. И если, как ты говоришь, зона кругом и на воле тоже, то почему бы тогда Ему не разморозить24 эту зону? Тупых этих фарисеев – к ногтю, ментов-римлян – под нож, и гуляй, босота, в Царствие Божие? Зачем эта любовь к врагам?» Хмурый терпеливо объяснял понятными Лёхе словами, но тот не хотел принимать, чуял здесь несправедливость, а Хмурый кивал: мол, да, несправедливость и есть, а если по справедливости, то к ногтю тогда всех надо, потому что «нет праведного ни одного». «Ну я понимаю, – горячился Лёха, – вот может нормальный пацан зафоршмачиться25 не по своей воле, по беспределу на пресс-хате26 или по незнанию. По понятиям такому нет пути назад, но по высшим законам, положим, можно его и простить. А как с чепушилой27-стукачом быть? Он же закладывает по своей воле, чтоб себе сделать хорошо. Или с ярыжником каким, который детей дуплит? Какое им прощение?»
Иногда, стараниями громкого Лёхи, в их дискуссию вторгались другие сидельцы, подсаживался Эдик Баптист, подходил, щёлкая чётками, Реваз, тыкал пальцем в Коран, и вся компания уходила за пределы поднятой темы, оставляя ещё больше вопросов. Хмурому это нравилось, он любил вопросы, а Лёху злило и выводило из себя; но, чем больше он читал Новый Завет и книжки, что подкладывал ему Хмурый, тем более непонятным становился для него Этот Бог, Которому он резал из дерева подсвечники и иконные оклады.
С отцом Василием было проще: тот, хоть и не давал ясных ответов, но успокаивал взбудораженного Лёху, и вообще – на службах Лёха переставал чувствовать себя Гвоздём и начинал понимать Того, с Кем боролся, но не умом, а сердцем принимая эту Его странно-непонятную всеобщую любовь ко всякой твари.
В девяносто шестом, когда ему оставалось сидеть пару месяцев, и он затихарился совсем, не желая отдалять свой звонок отсидками на киче, пришли к нему с угла барака от смотрящего с требованием прийти на сход28 во второй отряд: мол, Жора его кличет. Пришлось идти. Пока шли с братвой, гадал, чего это он понадобился пахану, которому по рассказам лучше было на глаза не попадаться. Может, по скорому Лёхиному освобождению хотел Жора на волю с ним маляву29 заслать или дачку передать на волю или в тюрьму какую? В общем, Лёха-Гвоздь напрягся. А Жора считал это, когда тот вошёл, усмехнулся, чифирбак30 подтолкнул по столу. Сидели в кандейке в бараке, где Жора себе хатку обустроил. Собрались смотрящие почти со всех отрядов, а это двенадцать человек, кроме Вовы Хромого – тот был на киче, – да Черепа из первого отряда, что слёг с пневмонией на больничку, но и эти двое отправили делегатов. Кроме смотрящих еще человек шесть авторитных сидели – базарили, по всему видать, уже давно, и запах самогона из кружки подсказывал, что не только с чифирём.
«Ну что, Гвоздь, как дышится перед звонком?» – взгляд рябого низенького Жоры резанул Лёху по лицу. – «Ты пей, пей чаёк-то» – «Благодарю, Жора, – Лёха аккуратно сцедил зубами густую горькую жижу, поставил кружку на стол. – Чего звал-то?» – «Торопишься, штоль, куда? – поднял редкие седые брови Жора. – С людьми просто посидеть западло? Да не кипишуй, сейчас Нос тему скажет, а потом тебя послушаем». Витя Нос, смотрящий с Лёхиного, пятого отряда, откинулся на стуле, набычился на Лёху: «За корешка твоего, Гвоздь, побазарить надо, за Хмурого. Ты же с ним давно кентуешься31, знаешь за ним всё, так?» Лёха кивнул, сглотнув комок, чуя недоброе. Нос продолжал исподлобья: «И в церкви вместе вы трётесь, и живёте рядом, и базарите на свои темы на всю хату, аж в моём углу слыхать. Не отрицаешь?» – «И чо? – оскалился Лёха. – Предъявить мне что-то хочешь, Нос? Так не тяни, предъявляй, только обоснованно». «Ша, ша, братва! – засмеялся Жора хрипловато, только глаза его не смеялись, зыкали с одного на другого. – Нет предъяв к тебе, Гвоздь, пока. Есть интерес. Вот ты по жизни пацан вроде правильный, хоть и из молодых, живёшь по масти32. А Хмурого как давно знаешь? Года полтора всего, ну два. А я встречал его лет пятнадцать назад, и был он уже тогда честным вором, спору нет. Только в енисейской «шестёрке», ещё до разморозки, на сходняке, он головняк33 устроил. Сказал тогда всей честной компании, что идёт в завязку, ну и хлопнули его тогда по ушам до мужика34, пожалели, на пику не посадили35 и к опущенным в угол не послали. Были заслуги, было за что. Так и жил бы Хмурый тихо-мирно в треугольнике36, ломом подпоясанный37, никаких вопросов бы не было. В церкви бы служил даже, у всех свои тараканы, тоже без вопросов. Зачем форшмачиться было? Такое братва не прощает».
Лёха молчал, ждал. Понимал, что эта Жорина речь была для него, что остальные в курсах и даже уже решили чего-то, вот только – чего? Спросить хотелось, но он знал – скажут и так. Раз начали говорить, скажут всё. И если нет здесь Хмурого, значит, предъявят ему.
«Кури!» – очкастый, незнакомый Лёхе вор протянул ему косячок, тот взял, пыхнул. Очкастый наклонился над столом вперёд, заглянул в Лёхины глаза: «Кореш твой на службе допивает из чаши последний, с попом. Когда причастие заканчивается. Сечёшь? После Гниды, Мухи и Сопли. И сколько там ещё в конце очереди петухов38 стоит? А это не просто косяк пустяковый. И по понятиям – законтаченный39 он, Хмурый твой».
Лёха сидел, как оглушённый. Он, хоть и не принимал причастия на службах, но видел, как становилась очередь к отцу Василию у алтаря – сначала воровская масть, потом мужики, потом козлы40 и прочие шныри41, и в самом конце подходили опущенные. Все знали своё место, никто не лез вперёд, и, опоздав, не шёл за не своими. Так было установлено когда-то, и даже поп не спорил с порядками. Но – Хмурый?! Неужели он так делал?
Он затянулся, положил косяк на банку, глянул в глаза очкастому, потом Жоре: «Если и так, чего мне предъявляете? «Каждый за себя, один Бог за всех»: так, кажется, старые сидельцы говорили? Предъявляйте Хмурому, я причём?» – «А притом, мил человек, – вздохнул притворно Жора, – что вы с Хмурым кенты, чуть не в дёсны целуетесь, а он тебя не уведомил о своей оплошке, а? И что получается, Гвоздь, какой выход из блудняка?»
Лёха молчал, чувствуя, как пот ползёт по его спине. В этой шахматной партии ходов у него не было, как и у Хмурого. Тенью мелькнула молодая стриженая голова, разливая по кружкам самогон из грелки. Налили и ему. Жора устало прикрыл глаза: «Ты, Гвоздь, прав, предьява главная не тебе. И Хмурый уже в курсе вопросов к нему. У него нет вариантов, и по чесноку вскрыться ему было бы лучшей дверью, только он ведь не выйдет сам, не положено это ему по заповедям его. А у тебя выход есть. Ведь ты же, Гвоздь, правильный вор и понятия чтишь? Потому сход и доверил тебе прикрыть косяки42 Хмурого». Лёха взял кружку, уставился в мутную жижу на дне, потом посмотрел на собрание. Кто пил, кто уже закусывал, только Нос внимательно смотрел на него, да очкастый поглядывал. Лёха выпил, не чувствуя вкуса, поставил кружку на стол, сипло сказал: «Бабочку крутить и по бритве канать43 я не буду, Жора. Только как мне эти косяки прикрыть? Храпок задавить44 Хмурому, что ли? У меня звонок зазвенит не сегодня-завтра, а ты мне мокруху подкидываешь. Я же не мясник, я вор…» – «А нам без интереса, как ты кореша исполнишь, братишка, хоть заточкой, хоть гвоздём, хоть зубами рви. Пригорела колбаса45, сам думай за свою жизнь, нам оно без надобности, – разозлился Жора. – Всё, харэ. Иди, три дня тебе. Проводите его, пацаны…»
6.
Стружка ложилась под ноги, освобождая руку из кедровой заготовки, локоть был чуть согнут и выпирал, уже освободившийся от окружавшей его древесины. Отец Алексей крутнул винт, освободил заготовку, перевернул ладонью вверх, снова зажал, вспомнил, как такими же тисками на промке46 дробили пальцы Сёме-рукоблуду за то, что тот чуть не зафаршмачил Блондина, корефана Носа, и его затошнило; он встал, вышел в другую комнату, щёлкнул чайником. Пока вода закипала, насыпал в чашку кофе, три ложки с горочкой. Потом досыпал ещё две. Залил кипятком, втянул носом запах, отпил осторожно. Смесь вони крови и кала и Сёмины вопли отползли обратно, под тот камень, что однажды сдвинулся с места в его душе, наводнив его вопросами. Вопросов стало меньше, а всякая гниль пёрла, заставляя его всё чаще опускаться на колени перед алтарём в пустой церкви. Исповедь давно стала для отца Алексея не делом прихожан, а его личным делом. С чашкой он вернулся обратно в «пасторскую», и запах кофе причудливо смешался с запахом кедра. Рука смотрела на него из тисков протянутой ладонью со слегка разведёнными пальцами, и отец Алексей чувствовал судорогу, что эту руку сейчас скручивала. Оставалось немного снять с ладони, чтобы освободить морщинки, которые видел только он, все эти линии – жизни, судьбы, чего там ещё? В хиромантию он не верил, будучи лютеранским священником, а вот как идут эти линии, почему-то представлял ясно. Резак ходил, снимая совсем тонкие слои, очерчивая бугорки и чёрточки, делая их яснее и чётче. Рука проступала вместе с напряжением, которое передавалось и ему, и он, наконец, отложив работу вместе с резаком, щёлкнул выключателем и откинулся на кресле, глядя покрасневшими глазами в окно на светлеющее небо.

