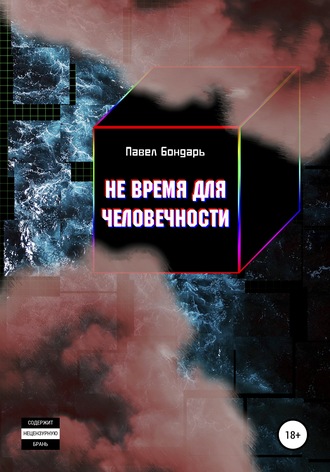
Не время для человечности
Все еще улыбаясь этому небольшому эпизоду – одному из тех, что могли выдернуть меня из ощущения болезненной рутины и зацикленности, понемногу крепнущего всегда, когда я был предоставлен сам себе – я зашел в паб и заказал большую картошку с апельсиновым соком. Через пару минут мой скромный обед был готов, и я занял место в углу, где сходились две затемненные поверхности витрин. Я кратко записал случай с псом и змеей в заметки на телефоне, куда частенько заносил всякие интересные происшествия, которые наблюдал вокруг, наряду с разными мыслями и идеями. Давно пора было как-то разобрать их и рассортировать по разделам, но мне никогда не хватало терпения, чтобы взяться за это.
Перечитывая заметку, я задумался о том, что змея, как считают некоторые – символ перерождения. Но откуда это взялось? Была ли змея всего лишь внешним символом (как тут не вспомнить о том, что эти существа сбрасывают шкуру, а свернувшаяся кольцом змея – это уже считай уроборос, цикличность и перерождение), или люди действительно полагали, что змеи сами перерождаются? Но ведь змеи сбрасывают шкуру исключительно в силу ее износа, ради обновления покрова. Это и есть именно обновление, а вот настоящее перерождение – это к другим. К фениксу, например. Ведь фениксы возрождаются именно после гибели, и в этом их бессмертие? Была кучка пепла – и вот уже из нее вновь появилась птица. Да, фениксы мне куда больше нравились как метафора своеобразного респауна, существа, которые тоже могут как бы сохраняться в пространстве и времени, а потом возвращаться к последней точке. Вот только фениксов, в отличие от змей, не существовует. Я взглянул на часы, время – 15:07, таймер на 1:40. В голове мелькнула мысль “я что-то забыл”, но желания опять рыться в памяти совсем не было, и я отмахнулся от нее.
Пролистывая заметки вверх, от старых к новым, я наткнулся на одну довольно пространную мысль, такую тяжеловесную и мрачную, что посреди жаркого дня мне на пару секунд стало холодно, будто вернулся утренний озноб. “Почему я боюсь смерти? Неужели я настолько дорожу существованием, пусть даже таким бессмысленным и жалким, что просто не могу от него отказаться, как торчок за гранью спасения, который уже не может не зависеть от дерьма, на котором сидит? Так и мы, ни во что не верим, где-то глубоко уже мысленно сдались и поняли, что ничего хорошего впереди не ждет, что дорога к счастью – не к удовольствию, не к благосостоянию, не к развлечениям – для нас почему-то закрыта. Из-за нашей природы, возможно. В тот момент, когда мы обрели самосознание, началась самая грустная история во всей вселенной: история взаимоисключающих чувств, история познания, которое в конечном счете приносило только боль, и чем дальше мы продолжаемся, тем мы ближе к безумию. История о том, как кто-то не выбирал, но получил ответственность за то, чего не может даже понять в полной мере, будучи вынужден тысячелетиями бороться с собственной сущностью, рвать на куски самого себя без какой-либо на то причины. Разве я хочу быть собственным заложником? Разве я не хочу хоть что-то в жизни выбрать самостоятельно, даже если это будет последнее, что я сделаю? Я привык считать, что такие мысли – это глупость, что такие идеи свойственны незрелым подросткам, что есть миллион аргументов против такого мнения. Но какой из них может ответить на вопрос, почему я – нет – почему мы должны оставаться рабами? Разве не рабство все вокруг так ненавидят и презирают? Ах да, конечно, рабство мы можем понимать только в очень узком смысле, оно значит для нас физическое лишение свободы и принуждение к чему-либо. С таким рабством готовы бороться все, потому что его давно не существует как общественного явления, все что осталось – это редкие случаи в современном мире да память о постыдном прошлом. Но ни у кого не хватит смелости бороться с рабством в более широком смысле, в которое мы влипли черт знает как давно. Конечно, так легко сказать, что “это другое”, что мы на самом деле свободны, мы можем делать со своей жизнью что угодно, все зависит только от нас самих, но это лишь пустые оправдания людей, которые не хотят взглянуть в лицо своей настоящей проблеме, которые не хотят признавать, что они рабы. Кто же наши хозяева? Положение вещей – вот наш самый жестокий хозяин. Вся наша жизнь чем-то ограничена: другими людьми и их правами, которые ограничены уже нашими правами, властью – от государственной и религиозной до корпоративной и экономической, моралью, законами – слишком несовершенными, чтобы гарантировать защиту от чего-либо, настроениями и мнениями других людей, нашими собственными желаниями и целями, сформированными под влиянием жизни в обществе, потребностями и нуждами, биологией и психологией, материей и идеей. Все вокруг – наши цепи, каждый из нас – тюремщик для остальных. И только две вещи могут кого-то освободить: жизнь вне человеческого мира – частично, и смерть – окончательно. Я отказываюсь бояться смерти и принимаю ее как дар”. Что ж, бывали порой и такие мысли. На самом деле спорить с тем мной, который это писал, текущему мне было сложно, ведь я так и не нашел ответ на главный его вопрос. Поэтому я решил отнестись к этому без той серьезности, которая им двигала в момент написания.
Я потягивал сок и раздумывал, как бы я это сделал, если бы хотел умереть? Наверное, имело смысл подготовиться заранее, и подготовиться так, как ни к чему прежде. Серьезнее, чем люди готовятся к свадьбе. Стоило бы подкопить денег, а лучше взять кредит – максимально возможный без поручителей. Ну а дальше план действий в целом понятен, недели две-три адского отрыва и угара, смотря на сколько здоровья хватит. Сама смерть – конечно, от передоза чем-нибудь абсолютно эйфорическим. Стоило бы также сделать все то глупое, безумное, безответственное и сомнительное, чего всегда хотел, но всегда откладывал. Уйти следовало в постели, во время незащищенного секса с какой-нибудь сочной девушкой – тут я невольно подумал об Алисе – закончив в нее на самом пике, умерев одновременно с тем, как, по мнению инстинктов, будут переданы гены, исполнено дурацкое природное предназначение, и это все вместе либо невероятно взбудоражило бы мозг и каждое чувство, либо тотально поглотило бы вообще любую мозговую активность. Но ведь есть риск, что мне этот короткий отрезок жизни так понравится, что я передумаю. Я захочу жить так всегда. Вопрос лишь в том, смогу ли я вспомнить, что единственное условие, без которого это финальное буйство было бы невозможно – отсутствие последствий. Каждое мое действие порождало бы долгоиграющие последствия, и рано или поздно мне пришлось бы держать ответ за все это – перед окружающими, перед своим здоровьем, перед кредитовавшим меня банком. И только знание, что все скоро закончится – знание, доступное только мне одному, позволяло бы не думать об этих последствиях. Уход от ответственности, ничего не дающей, бесполезной, тяжкой, проигрышной – вот что такое суицид. Отказ от участия в игре, отказ от правил, переворачивание шахматной доски посреди партии. Чем дольше я об этом думал, тем больше проникался серьезностью собственной заметки в телефоне, терял способность рассматривать ее в качестве объекта для иронии. Так я понимал ценность чего-либо: если мне было неприятно или сложно над чем-то иронизировать, значит, это чего-то стоило – среди всего вокруг, что подвергалось насмешке со стороны мира, выглядело нелепо, будто было создано для того, чтобы быть высмеянным, включенным в карнавал идиотизма, поглощенным истеричным, рекурсивным и бесконечным издевательством, в какой-то момент ставшим основой всего, что нас окружало. Глубоко внутри я понимал, что, хоть и не могу представить свою жизнь без этого ежедневного театра абсурда, развращающего все, что кто-то воспринял бы всерьез, я все же ценил – по-настоящему ценил – только то, что мне казалось неуязвимым для глумления. Вздрогнув, я нервно принялся поедать остывающую картошку. В образовавшейся в голове пустоте я отчетливо слышал, как непривычно медленно и гулко бьется сердце.
Пытаясь отвлечься от мрачных мыслей, я перенаправил внимание на телевизор, который висел над барной стойкой. Крутили какую-то смутно знакомую передачу, в которой, насколько я помню, приглашенных гостей, в основном людей искусства, просили рассказать об источниках вдохновения, разобрать концепцию их произведений, что-то анонсировать и так далее. Сейчас в кресле гостя сидел упитанный мужик средних лет в пиджаке поверх желтой майки. Лицо его разительно контрастировало с телом – оно было худое, почти иссушенное и строгое, а прищуренные глаза и опущенные уголки губ придавали ему невероятно скептический вид. Ведущий, похоже, как раз задал ему какой-то вопрос, и он собирался с мыслями, переведя взгляд куда-то вверх и вправо.
– Ну смотрите, я задумывал ее так, что на основной сюжет, состоящий из двух частей, довольно симметричных, как бы наслаиваются несколько побочных, по объему больше основных или равные им. Они дают указания на то, как можно интерпретировать часть с основным сюжетом, чем, собственно, закончилась история.
– То есть, как можно понять ее концовку? Вообще, сильно ли меняется понимание истории, если не найти никаких подсказок?
– Грубо говоря, есть десять основных трактовок, и их можно классифицировать несколькими способами. Первый интерпретирует, собственно, саму суть произошедшего, чем на самом деле являлись показанные события, включает три категории. Второй основывается на том, что какая-то из частей могла быть нереальна, то есть, происходить во сне, в иллюзии, в чем угодно, только не в реальном мире. Возможно, реальны обе части, возможно – только одна, возможно – обе нереальны. Четыре категории. И, наконец, третий способ классификации трактовок завязан на последовательности событий. Он предполагает, что события обеих частей могли происходить как одновременно, так и последовательно. Две категории. Вот, в общем-то, все. Кроме того, у каждой есть параметр цикличности и хронологического порядка.
– Вы сказали, что основных трактовок десять. Не могли бы вы…
На этом моменте я потерял интерес к их беседе, к тому же, картошка закончилась, да и время обеда тоже подходило к концу. Я двумя глотками допил сок, тщательно вытер руки салфеткой и встал из-за стола. Перед выходом я подумал, что стоит зайти в туалет. Когда я уже зашел в кабинку, к горлу подступила неожиданная тошнота, и меня вырвало – горько и коротко. Я стоял, упершись кулаком в стену, и пытался понять, какого черта происходит. Это определенно не было симптомом перепоя, ведь тогда бы меня вырвало еще утром. Я не ел ничего, кроме яичницы, тостов и картошки, и насчет каждого из пунктов этого списка мог с уверенностью поставить галочку в графе “надежность и проверенность”. Справив нужду, я вышел из кабинки, умыл руки. Когда я перевел взгляд на свое отражение, оно показалось мне каким-то бледным, но это было и неудивительно после прочих странностей. Вытерев руки полотенцем, я вышел из туалета и покинул паб, быстрым шагом направившись в сторону студии, совершенно забыв про музыку. По пути мне не встретилось ничего забавного.
* * *
Алиса сказала, что ей нужно было уйти в половину шестого, и спросила, нет ли чего такого в том, что она в первый же день уходит раньше. Я успокоил ее, сказав, что мы сегодня довольно много уже сделали, а распределение времени по большей части уже зависит от нее самой. Еще раз поблагодарив Алису за билеты и договорившись встретиться на движе, я попрощался с ней, проводил взглядом, да и сам начал понемногу готовиться к выходу. В принципе, за сегодня мы закончили три больших сценарных блока, полностью проработав диалоги и еще кое-какой текст – для первого дня неплохо. Я обошел тех из ребят, кто еще остался в кабинете, посмотрел, как идут дела у них, спросил у Л.П., что она думает насчет ворваться вечером на тусу. В прошлом году она была на “Затмении” все три раза, что его проводили, один раз даже без меня, но в этом сезоне все сложилось не так удачно – сегодня у ее парня был день рождения, и они с ним уже давно запланировали какой-то особый вечер, в который посещение тусовок не входило. Л.П. с легкой тоской в голосе пообещала, что в следующем месяце присоединится, и попросила скинуть пару видосов с места действий.
Когда минутная стрелка образовала с часовой ровную прямую, я проверил бэкап данных, сохранил базу и выключил рабочий комп. Закинув в рюкзак все, что за день разбросал по столу, я попрощался с ребятами и вышел в коридор. Там я налил в стакан холодной воды из кулера, сменил тапки обратно на кеды и собирался было выйти из студии, но вспомнил о звенящей в кармане мелочи, полученной на сдачу в пабе и уже несколько часов меня раздражающей. Рядом с кулером у нас стоял небольшой автомат в виде шкатулки, в котором можно было за гроши купить печеньку с предсказанием, а полученные деньги раз в месяц извлекались и вроде как направлялись куда-то на благотворительность. Мелочи у меня хватало на две печеньки, и я скормил шкатулке почти все монеты из кармана. Печенье было наполовину шоколадное, а на улице неплохо припекало, так что я решил съесть обе сразу. Внутри первой оказалась бумажка с надписью “Ничто никогда не заканчивается, но берегите свою жизнь!” – довольно странное предсказание, как мне показалось. Бумажка из второй гласила: “Завтра для вас станет особенным днем, вы хорошо повеселитесь!” – вот это уже что-то более привычное. Пожав плечами, я выкинул обертки в мусор и вышел из студии.
Через несколько минут я уже был в магазине, неторопливо шагал между витрин и разглядывал ассортимент, бессознательно почесывая бороду. Я остановился на паре небольших черных блокнотов и долго раздумывал, выбирая между набором гелевых ручек и шариковых, в итоге взяв гелевые. Расплатившись на кассе, я вышел из магазина ближе к половине седьмого, перед самым закрытием. Кассир, с которой я был немного знаком, вышла за мной на последний перекур – кому не было знакомо это желание хоть немного приблизить конец рабочего дня, пусть даже он вот-вот закончится сам по себе. Мы курили и болтали обо всяких незначительных мелочах, я спросил, как у нее продвигаются дела с публикациями детских историй в местной газете, она спросила, дописал ли я уже книгу. Со вздохом облегчения – не первым и не последним по этому поводу – я сказал, что сегодня отправил чистовик редактору, так что, можно сказать, дело сделано.
Попрощавшись с ней, я вернулся на ту дорогу, которой шел утром с остановки, чтобы теперь сесть на ней в уже другой трамвай и доехать до дома родителей. Туда можно было добраться и автобусом, но трамваи мне нравились куда больше. По пути мне встретилась белая кошка, сидящая на скамейке. Я машинально наклонился, чтобы погладить ее, ожидая, что животное, как это всегда бывает с бродячими кошками, отскочит с недоверием, но к моему удивлению, этого не произошло. Кошка осталась сидеть на месте, только повела ухом и зажмурилась. Отворачиваясь от нее, я как будто заметил что-то странное: мне показалось, что кошка на секунду дернулась, словно сдвинулась немного вправо и вернулась обратно. Встряхнув головой, я пошел дальше.
В плеере выпала песня Джима Стерджесса, в которой он задавался риторическим – а может и нет – вопросом, почему нельзя прожить ту жизнь, которая видится в мечтах. Надо признаться, я и сам часто думал об этом. Действительно, почему люди не умеют перемещаться пусть даже не во времени, а между различными вариантами реальности, почему им недоступна настоящая свобода, власть над своей судьбой? Если бы они могли, например, в определенный момент устанавливать что-то вроде ключевой точки, и начального пункта, после которого бы существовали в виде бестелесного сознания, наблюдая возможные варианты развития реальности. А затем, увидев достаточно вариантов – хоть два, хоть тысячу, лишь бы было время и возможность все их отследить – воплощались бы в том их них, который их больше устраивает. Это ведь совершенно безвредно для других людей, значит, с точки зрения морали вопросов нет. Да, в какой-то степени это обман и времени, и пространства, и вообще природы вещей, но раз никому от этого не плохо – и что с того, что обман? Ведь если хорошенько задуматься, то становится очевидным: все или абсолютно неопределенно, или абсолютно предопределено. Вокруг нас или хаос случайностей, или неотвратимая череда последствий. И если это череда последствий, то не было смысла вообще что-то делать. А если хаос, то его можно упорядочить, подчинить – научным путем или иными способами. Однако же не могут, не умеют.
Пока я шел от магазина, что был рядом со зданием студии, до трамвайной остановки, мне казалось, что кто-то идет за мной – не просто следует куда-то той же дорогой, что и я, а целенаправленно следует именно за мной. Сложно объяснить, почему я так подумал, но сняв наушники и остановившись у тротуара в ожидании подъезжающего трамвая, я оглянулся. Только пять человек, что были на остановке раньше меня, да женщина с собачкой, прогуливающаяся по улице – однако, в противоположную сторону. Осуждающе покачав головой своей неожиданной паранойе, я вновь нацепил наушники и шагнул в открывшиеся двери трамвая.
* * *
Когда я подходил к дому, на часах было еще без пяти семь, и я решил перекурить. У матери было сильное предубеждение против курения, особенно – на территории ее дома. Добрая половина их с отцом бытовых ссор начиналась с того, что вскрывался факт курения в неположенном месте (обычно в туалете), а дальше уже пошло-поехало. Мое курение не одобрялось даже на улице во дворе, и каждый раз мать, учуяв запах табака после моего возвращения со двора, разрождалась пространной тирадой о вреде курения, каждую из которых я помнил наизусть и иногда в превентивных целях сам произносил, что, впрочем, не помогало, и мне все равно ставили в пример сестренку, которая не курила, не пила и ела здоровую пищу. Насчет второго мама и папа, разумеется, заблуждались, просто Чу была мастером шифрования даже получше меня, и даже когда и выпивала с кем-то из своих друзей – а может, и с парнем – умудрялась не вызывать совершенно никаких подозрений по возвращении домой. Моя сестра – она была на три года младше меня – еще жила с родителями, хотя я был уверен, что Чу не продержится еще хотя бы год, уж слишком она была свободолюбивая. Пока что ее в родном гнезде держали финансы. Чу уже долго искала работу – поначалу такую, которую можно было совмещать с учебой, а после выпуска в этом году решила непременно устроиться по специальности, в компьютерную лингвистику. Я уже много раз предлагал ей работу у нас в студии, благо возможностей хватало – то кто-то уйдет, то очередное расширение случится. Но сестренка была упряма и не хотела пользоваться, как она говорила, “блатским братом”. Впрочем, недавно у нее получилось найти что-то по специальности, связанное с машинным обучением языкам, так что моя ставка – поработает с полгода, пока не соберет достаточно денег, чтобы съехать. Все-таки жить с родителями, когда ты старше двадцати, то еще испытание, пусть даже и семья нормальная. Людям вообще непросто жить с другими людьми на постоянной основе. Быт подминает под себя все прочее, выходя в любом сожительстве на передний план, тем самым доказывая, что все мы в первую очередь беспокоимся о собственных интересах, и свой комфорт ставим выше чужого.
Пока я курил, в какой-то момент на одном из столбов зеленого металлического забора возник массивный черный кот. Уже не молодой, но и пока далекий от кошачьей старости, слегка пухлый, как и многие домашние коты, с яркими оранжевыми глазами, которые при суженных зрачках даже слегка напоминали глаза рептилии.
– Привет, Кубрик. Куда-то собрался?
Кот задумался и через несколько секунд решил, что никуда пока что не собирается, и занял классическую кошачью позу – лег на живот, поджав лапы под себя. Я протянул руку и погладил его по лоснящейся спине, и кот довольно зажмурил глаза. На самом деле Кубрик не особо жаловал всякие нежности, но от меня их терпел – только я один никогда не отказывал ему в добавке и не слишком пытал тисканиями и прочими посягательствами на свободу – и когда он был еще котенком, а я жил с родителями, и сейчас во время моих периодических визитов к семье. Впрочем, кот наверняка думал, что я приезжаю именно к нему.
– Ничего у вас не меняется, а? Ни ворота гаража не починили, ни тебе ошейник не повесили, ни мелкая не съехала. – я задумчиво чесал кота за ухом, и он выражал молчаливое согласие – впрочем, отсутствию ошейника наверняка и рад был. – Это мне тут и нравится. Что всегда находишь то, чего ждешь.
Я затушил сигарету и выкинул в жестяную банку, что стояла у ворот. Открыл ворота ключом – до смешного маленьким по сравнению с массивной стальной створкой – и зашел во двор. Проверив почту и ничего там не обнаружив, я направился к входу в дом. На пороге я обернулся и вопросительно глянул на Кубрика. Тот желания идти домой не выражал, ну или ждал, пока я начну закрывать за собой дверь изнутри, как это часто бывает с котами. Я пожал плечами и зашел внутрь, закрыв за собой.
Мне нравился этот дом. Сюда мы переехали лет десять назад, когда родители продали квартиру в центре – мать постоянно жаловалась на шум и пыль (окна выходили на оживленную улицу), а отец мечтал о собственном гараже вместо забитой парковки и заднем дворе, где можно жарить шашлык летом, да и бассейн поставить. В доме был один этаж и просторное помещение под крышей, вроде чердака. Как любой нормальный школьник, насмотревшийся фильмов и начитавшийся книг, я долго упрашивал их выделить чердак под мою комнату, но все было тщетно, и это помещение стало большой кладовкой. На первом этаже находились три жилые комнаты – моя, сестры и родительская, а кухня была совмещена с залом, размеров которого вполне хватало для большого дивана, пары кресел и телика, а по праздникам, ну или когда к нам приходили гости, туда влезал еще и стол на восемь человек. В квадратной прихожей располагался шкаф, вешалка и стойка для обуви, по левую руку были помещения ванной и туалета, по правую – выход в зал.
– Привет, народ! – я разулся и зашел в зал.
На диване валялась сестра и смотрела что-то на планшете, заткнув одно ухо наушником и то и дело протягивая руку к пачке с жареным арахисом на животе. На кухне никого не было, да и вообще в доме было тихо, только многообещающе булькала кастрюля на плите и на чердаке раздавались еле слышные шаги.
– Какие люди в Голливуде. – Чу посмотрела на меня поверх планшета, продолжая поглощать арахис.
Я шагнул на кухню и заглянул в кастрюлю. Там варились макароны, а на соседней конфорке шипело на сковороде мясо. Что тут сказать, весьма удачно зашел.
– Здорово, Чумазая. Если будешь говорить такие вещи – с тобой будут общаться только пожилые. – я обошел зал через кухню и стал позади дивана.
– А ты если будешь и дальше меня называть чумазой – с тобой вообще никто не будет общаться. Знаешь, почему?
– Потому что ты меня во дворе закопаешь, ага, – я попытался стянуть у сестры пачку арахиса, но она успела среагировать. – Ну что, как оно? Чего такая тухлая?
Чу отложила планшет и села лицом ко мне, чтобы быть готовой к возможным последующим атакам. Лицо ее приняло угрюмо-задумчивое выражение.
– Вот ты к скольки на свою работу приходишь?
– Когда как. Обычно часам к десяти. Сегодня вот в одиннадцать пришел. Что, взрослая жизнь не по вкусу?
– А мне вот к восьми нужно быть как штык. Просыпаться в пять утра – ни разу не весело. Ненавижу того, кто придумал 40 часов работы в неделю!
– А зря, до этого было еще хуже. Века два назад ты бы успевала разве что поспать. Ладно, ты мне вот что скажи: сидишь вот с планшетом, телефон у тебя есть, ноут у тебя есть, работа с компами связана. Неужели ты не можешь маме ноут почистить?
Чу глянула на меня в недоумении и снова вытянула ноги, только теперь уже в другую сторону.
– Мм? А ей разве нужно было? Она мне ничего не говорила.
– Вас понял. – похоже, это была очередная ловушка с целью заманить меня домой и снова начать уговаривать перебраться обратно. – Где она, кстати?
– Да в банках копается, ищет закатку какую-нибудь. – сестра махнула рукой вверх, в сторону чердака.
Мать я встретил в коридоре по пути в свою комнату – с двумя банками закатанных помидоров в руках. Она попросила меня забрать с чердака несколько кабачков, которые оставила у входа, и я поднялся по лесенке наверх. Да, все же стоило отстоять право сделать здесь свою комнату – когда еще я смог бы пожить под крышей. Чердак был больше моей комнаты и зала с кухней вместе взятых. Крыша была треугольной, но угол наклона был не слишком крутым, и сюда вполне влезли бы пара шкафов, например. Стол можно было бы поставить у невысокого, но широко окна в торце здания. А сейчас было обидно смотреть, как такое крутое место превратилось в склад для банок, ненужных инструментов и коробок со старыми вещами. Да, у этого пыльного и захламленного помещения был когда-то хороший потенциал. Я вздохнул, прихватил у порога кабачки и спустился вниз.
На “помощь” с ноутбуком ушло минут двадцать. Туда в очередной раз умудрились пробраться назойливые недобраузеры и фуфломессенджеры – видимо, установились вместе с чем-то нужным. Я пытался наглядно объяснить матери, как удалять ненужные программы через панель управления, но она была занята готовкой и не очень внимательно следила за тем, что я показываю на экране, только рассеянно кивала. В таком обучении смысла не было, и я просто поставил на ее ноутбук удаленный контроль, чтобы в следующий раз все можно было сделать из дома.


