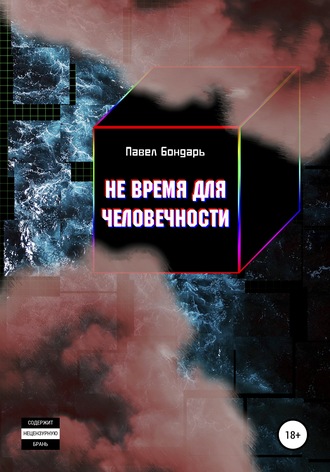
Не время для человечности
Я лежал и слушал отвратительно тупой разговор компании малолетних долбоебов обоих полов, что пришли и сели на две самые верхние скамейки. Убогие сальные шутки, глупые истории, абсурдные диалоги, бутылки в рюкзаках, сигареты и отчетливее всего – отчаянное желание убедить себя в том, что они хорошо проводят время. Я часто замечал, когда люди так делали, и мне было их жалко, но еще более жалким я казался сам себе – высокомерный циничный придурок, который ненавидел всех и вся, и при этом такой трогательно несчастный. Мой собственный тонкий изломанный образ был мне до того отвратен, что хотелось свернуть эту глупую шею.
Смех разливался вокруг, но я все дальше уплывал в свои истории в голове, и уже слабо различал происходящее, и лишь небольшая часть меня еще была на поверхности – замерла в ожидании, что телефон на животе вздрогнет и звякнет, объявляя ответ на очередное мое сообщение, которым я пытался добиться черт знает чего. Но телефон все молчал, и я все глубже погружался в жалость и презрение к себе. Зачем ты ждешь чего-то, несчастный ты придурок? Боже, прошло уже столько лет, и чем дальше, тем все становится безнадежнее, и ты сам уже понимаешь, что ничего у вас больше никогда не будет, а ты – безнадежный пожизненный пиздострадалец. Резонанс между циничным пониманием и наивной надеждой были до того противоречивы, что почти физически ощущались как разделение тела на половины. Противоречивость была такой неотъемлемой частью моей жизни, что я уже получал от нее своего рода кайф. Я все лежал, а в голове навязчиво играли попеременно два мотива: “Нахуй ты со своей проебанной жизнью нууужен” Быдлоцыкла и часть куплета одной из песен Эмптиселф. Эта группа была лучшим, что случалось с моим плейлистом за семь лет, и в каждом слове я находил себя, и от того, что подобное испытываю не я один, что подобные мысли посещают не только меня, было немного легче. Я напевал себе колыбельную со словами “Convinced of my reasoning – there is no place for me, where I belong… so this must be home”, терпеливо ждал всхлипа телефона, а потом устал сдувать с лица насекомых и уехал домой.
Уже подходя к своему подъезду, я заметил тощего серого (наверное) кота на скамейке, который лежал тут пять часов назад, когда я вышел. Приглядевшись повнимательнее и убедившись, что он жив и просто спит, я разочарованно подумал, что кот, не двинувшись с места и, может быть, даже не открыв глаз, оказался там же, где и я, совершивший кучу бесполезных движений. Я быстро зашел в квартиру, не включая свет, раскидал по столу и полу ключи, сигареты и прочую мелочевку и, прорвавшись через невероятный бардак, рухнул поперек кровати. Последнее, что я успел подумать, прежде чем заснул, было “Еб твою мать, куда я качусь, надо что-то менять…”, а последним, что я услышал, было шипение какой-то мелодии в наушниках, которое я в полусне принял за шум дождя за окном.
Я проснулся через час, за окном действительно снова шел дождь, и мне открылась природа тех вспышек на небе – гроза, наконец, пришла в город.
Бессонница – это наихудший кошмар. Я не могу заснуть. Не знаю, зачем я об этом говорю, нужно просто отвлечься от лишних мыслей, но их слишком много, и они просто невыносимы. Бог проклял меня живой фантазией, и я часами лежу, стиснув зубы, пытаясь заглушить голоса в голове и потушить видения перед глазами, но все бесполезно – тревога, страх, паранойя снедают мою душу изнутри. Мозг раскален и выстреливает тысячей образов и вопросов в секунду: “А что, если то, а что, если это?”, “Что я сделал не так?”, “Как мне жить с этим завтра, через неделю, еще год?”, “ПОЧЕМУ БЛЯДЬ ВСЕ ТАК ХУЕВО?!” Последнее стучит в голове, рикошетя от стенок черепа, словно вот-вот разорвет его. Слова, которые я слышал и пытаюсь разгадать, что они значат, лица людей, окутанные туманом, глаза, которые не смотрят, не смотрят, НЕ СМОТРЯТ, четыре стены карцера, горящая под телом постель и каменная подушка, места, которые я ненавижу – места, в которых находился всю жизнь, призраки чьих-то прикосновений, чья нереальность жжет кожу огнем, гулкий хор смеющихся голосов – так рядом, но так далеко, канат над бездной, за который я держусь зубами, то, что было моим, а теперь стало принадлежать всем подряд по очереди, обязанности и ответственность, которые давят меня гигантским прессом, пустые страницы, изорванные страницы, поток людей – слишком быстрый поток слишком счастливых людей, моя искривленная в притворной улыбке рожа… Все одно и то же, каждый день одинаково сер и уныл. Наверное, это та самая миллион раз описанная зияющая пустота в груди, которую ничем не заполнить, что в нее ни запихивай. Я пытался запихнуть многое, но так и не сумел избавиться от этого чудовищного чувства голода, чувства, что ты потерял что-то невероятно важное, и не просто потерял, а потерял НАВСЕГДА, и даже память о том, что оно было, скоро померкнет. Вдруг я очень неожиданно задумался, какое из моих ушей оттопыривается сильнее, и уже буквально через минуту я, наконец, по-настоящему спал.
Проснулся я к полудню – совершенно не выспавшийся и разбитый, более того – снедаемый ощущением того, что мне снова будет весь день нечем заняться.
Когда-то у меня была работа, и мне приходилось три-четыре раза в неделю просыпаться по будильнику, в спешке собираться и куда-то идти. Сейчас у меня тоже есть что-то вроде работы, но ее я могу делать в любой момент и не выходя из дома. Социопата внутри меня радовал такой расклад. Да, это было довольно приятно – понимать, что ты вообще никуда можешь не выходить из квартиры – работаешь дома, еду заказываешь с доставкой до порога, счета оплачиваешь через интернет, пакеты с мусором швыряешь на помойку прямо из окна – помойка в десяти метрах, и я почти всегда попадаю в мусорный бак. Разве что за очередной дозой приходится выбираться.
Семьи у тебя нет – или, скорее, тебя больше нет для твоей семьи, так что о визитах к родне по праздникам можно спокойно забыть, как и о тусах и прогулках с друзьями, которых у тебя тоже уже нет. Чем меньше в жизни людей, тем проще жизнь – я убеждался в этой теории все больше с каждым месяцем.
Иногда я все же выходил куда-то зачем-то, но каждая такая вылазка приносила не больше радости, чем бессонная ночь перед монитором – то есть, практически нисколько. Времена, когда меня мог взбодрить разговор со случайным прохожим, забавная сценка вроде танцующей подвыпившей старушки, случайное знакомство с прогуливающейся компанией, минутный флирт с симпатичной кассиршей в магазине, посещение какого-нибудь очередного клуба по интересам, попадание в обезьянник за хулиганство, поход в бар или клуб, и прочее, давно прошли. И дело не только в людях – точно так же я перестал радоваться прогулкам по ночному городу с бутылкой пива или косяком и новой музыкой в наушниках, катанию на скейте по разбитому асфальту или гладкой велодорожке, покупкам странных и ненужных мелочей в магазинах, перестал писать стихи, лежа в сугробе, на траве или на крыше высотки, бросил бродить по памятным местам и открывать новые, больше не катался от конечной до конечной, глядя в окно и думая о планах на вечер, давно не сидел на ступеньках огромного совкового здания, всю ночь переписываясь с еще одним ночным человеком.
Все это было давно, так же давно оборвалось или перестало нравиться, а память о том, как это было, тускнела с каждым днем. Иногда я ловил себя на мысли о том, что в моем теле не осталось ни одной частицы, которая помнила бы то, что для кого угодно казалось бы пустяком, но для меня было важно; то, по чему я скучал как ни по чему другому – ведь организм полностью обновляется за семь лет, а прошло уже почти восемь с тех пор, как… А, ну нахуй. Мне двадцать пять – я прожил больше половины того, что людям вроде меня стоит жить.
* * *
На столе лежит бумажка. На бумажке стоит стакан. В стакане беснуется пойманный стаканом желтый мотылек. Это насекомое залетело ко мне в комнату сегодня утром, найдя брешь в сетке, предназначенной для того, чтобы предотвращать попадание подобных вещей в помещения, в которых обитают люди, которые не терпят насекомых. Я был как раз таким человеком – насекомых я просто ненавидел, в любом виде. Любых, даже самых безобидных. Я не боялся их, я ими просто брезговал – меня отвращал уже сам их вид, эти фасетчатые глаза, тонкие длинные лапки, крылья и прочее дерьмо, из которого состоят их мерзкие тела. Больше всего мне были мерзки пауки-сенокосцы, или как там называется эта круглая дрянь на длинных тонких ногах, что обычно сидит в подвалах, колодцах, щелях между кирпичами и так далее. В детстве я развлекался тем, что поджигал лапы этим мразям и наблюдал за тем, как они корчатся. Думаю, если бы кто-нибудь это увидел бы, он бы наверняка подумал, что я какой-то сумасшедший садист, но никто, к счастью, не видел этого и не допустил эту ошибку – садистом я вовсе не был, и мне не доставляло удовольствия наблюдать за мучениями насекомых, животных или людей. На самом деле я пацифист и добрый человек. Мне просто было приятно это делать – не в смысле личного удовольствия, нет, я был рад тому, что в мире стало на одну мерзкую тварь меньше. Да, я проходил в школе биологию и знаю, что все живые организмы необходимы природе, и в биосистеме все связано, иначе ненужные виды просто вымерли бы, но я никак не мог принять мысль о том, что этому миру нужны существа наподобие комаров, медведок, мух или диких ос. Достоин ли такой мир существования, если это правда? В любом случае, пауков я сжигал, ос давил, муравейники заливал какой-нибудь дрянью, которая мне в моем детском воображении казалась ядовитой и смертельной. Возможно, человека она и убила бы – но это была бы смерть от отвращения, а не отравление. Мне тогда казалось, что я помогаю миру стать лучше. Сейчас я иногда тоже практиковал подобное, но уже чисто из любопытства и ради изучения поведения и строения тела насекомых.
Так вот, на столе лежала бумажка, на бумажке стоял стакан, в стакане бесновался мотылек. У меня было много свободного времени, и я игрался с насекомым – отдавливал краем стакана лапки, крылья, усики и прочие важные для мотылька части мотылька. С каждым разом, что насекомое теряло часть тела, оно вело себя все безумнее и безумнее – билось о края стакана так громко и сильно, что стакан от этого шатался, а звук постепенно заполнял все вокруг. Я продолжал забаву, мотылек продолжал существование, отчаянно цепляясь за свою непостижимую насекомую жизнь. Интересно, как много из текущей ситуации он осознавал? Понимал ли он, что его судьба уже решена? И вообще, мог ли он помыслить несколько часов назад, что, влезая в мелкую щель в сетке от насекомых, он подписывает себе смертный приговор? Было ли у него некое дурное предчувствие? Если и было, то он зря не прислушался к нему. Я много раз убеждался, что интуиция все же существует, но, к сожалению, почти всегда поступал ей наперекор, о чем впоследствии всегда жалел. Фактически, большинство моих проблем были следствием того, что я в какой-то момент не внял голосу, что шептал мне “не делай этого” или, наоборот, “сделай это”, а потом разгребал сложившиеся ситуации. Некоторые из них – долгие годы. Что ж, ошибка мотылька, хоть и будет стоить ему жизни, не причинит ему столько же боли, сколько мне причинили мои ошибки. Я избавлял его от возможности совершить такую ошибку, которая будет мучить его неделями и месяцами – я не помню, сколько живут мотыльки. Я творил чистейшее, небодяженное добро.
Насекомое билось о стакан все сильнее, и стол уже начинал дрожать и трястись – с него попадали разные предметы и летела пыль, и вскоре мне показалось, что даже пол уже ходит ходуном, а с потолка осыпается штукатурка. Интересно, что я скажу соседям, когда они придут разбираться, что происходит в моей квартире? Как я объясню им, что проблема в мотыльке, который упрямо не желал прекращать продолжаться в пространстве и времени и переходить в состояние трупа мотылька? Придется ли мне показать им эту сцену, чтобы они поверили, или в них не наберется достаточно доверия к ближнему, чтобы поверить мне без того, чтобы попытаться увидеть действо, что я опишу им на словах, своими глазами? Неужели в этих людях столько дерьма, что они не могут просто взять и поверить своему гребаному соседу, который уже так долго живет рядом с ними? Блядь, да что это за люди, что не способны доверять?! Достойны ли они жизни, с таким-то отношением к окружающим? Я никогда не смогу построить идеальный мир с подобными обитателями. Неужели все мои усилия по улучшению мира, наподобие того, что я сейчас делал с мотыльком, пропадут всуе, всего лишь из-за того, что какие-то мудаки не могут принять идею о безусловном доверии?! Может, мне стоило бы прямо сейчас пойти и пристрелить их нахуй, чтобы потом не возиться с ними, когда настанет время изменить мир и вступить в светлое будущее? Где мой гребаный шестизарядник?..
Я уже было рванул к тумбочке, где хранил пистолет, но тут тряска, созданная движением мотылька в стакане, достигла своего эпического апогея, граничащего с сюрреализмом – на меня упал шкаф. К счастью, шкаф был мягкий, и меня придавило несильно, но это все равно было обидно. Да, возможно, насчет пистолета я погорячился. Я все же дам этим людям шанс. Я лежал под шкафом, на содрогающемся полу, и представлял, просто представлял разные вещи, пока еще мог – с каждой секундой мозг заполнял этот ужасный грохот, что издавало тело мотылька, вновь и вновь бросающегося на стенки стакана. Боже, как громко. Звук вскоре стал единственным, что я мог ощущать помимо дрожания пола, и эти две вещи стали тем, что составляло теперь мой мир – мир противостояния пойманному мной же мотыльку. Черт, какого хера трясется все, кроме стакана, почему этот ебливый кусок пластмассы не падает и не выпускает это чудовище наружу? Что не так с этим стаканом, неужели я каким-то неведомым мне образом нашел стакан, который блокирует демонических насекомых? Сомнений в том, что это насекомое было одержимо демоном, у меня не было. Возможно, в стакане до этого была соль, и теперь она образовала круг, за пределы которого насекомое не могло вырваться. Так я и лежал, трясясь и вспоминая, откуда в стакане могла взяться соль.
Вдруг у меня случилось озарение – мне нужно просто встать и выкинуть эту полудохлую демоническую пизду на улицу. Вместе с проклятым стаканом и бумажкой. Стол я, пожалуй, все же оставлю.
Но я не успел встать – грохот стакана и хлопанье крыльев насекомого окончательно затопили мое сознание. Конечности начали биться в судорогах, глаза налились кровью и выкатились так сильно, что почти покинули глазницы, изо рта пошла пена. А потом я отрубился, еще успев удивиться, что не помню, как и чем закинулся сегодня утром.
* * *
Что было еще страннее этого маленького провала в памяти, в котором схоронилась марочка, или затаился грибочек, или закатилось колесико – я продолжал функционировать даже после того, как потерял сознание. Если, конечно, принимать разгуливание по улице в голом виде и с катаной в руках за функционирование. Видимо, кто-то из совестливых граждан вызвал легавых, те отобрали у меня катану (я бы ни за что не отдал меч и сражался бы, так что они, похоже, просто нагло вырубили меня) и вручили докторам. Впрочем, что-то из этого могло и не быть правдой, потому что у меня не было совершенно никаких сведений о том, что вооруженный стриптиз вообще имел место, как и бой с сотрудниками порядка правоохраны. Ничто на это не указывало, не было ни свидетелей, ни свидетельств, но я твердо верил, что так и было. Точно так же я был уверен в том, что наручники, которыми меня пристегнули к поручням койки, сделаны из картона. Легкий рывок руки, чтобы убедиться – и вот я снова замечательно прав, а наручники падают на пол, разорванные и пристыженные в своей жалкой целлюлозности, не могущей идти ни в какое сравнение с настоящими пластмассовыми наручниками. Игла, которая торчала острым концом у меня в руке, а другим – не знаю, как он выглядит, никогда не представлял другой конец медицинской иглы; должно быть, он существует исключительно в плане метафизического – в капельнице с к-сожалению-не-опиатами-а-какой-то-внутривенной-нейролептической-хуебенью, все никак не кончалась, хотя я доставал ее из руки уже миллисекунды две так точно. Я чувствовал, как время проносится мимо, обжигая мне лицо и смыкая веки, а в волосах начинала пробиваться седина. К счастью, в какой-то момент в палату вошел человек в костюме и благополучно вышел из двери на противоположном конце палаты. Если бы не это, я даже не представляю, сколько еще бы провозился с этой бесконечной иглой – чтобы она не мешала мне творить свои темные дела, ее пришлось высунуть в окно – она и правда была длинной. Из соседней палаты вдруг раздался чей-то голос.
– Так, пидор, не вздумай мне тут снова философствовать. Иначе тебе никогда не…
Голос вдруг захлебнулся внезапной тишиной собственного отсутствия, так жирно и томно намекающей на то, что говоривший был задушен подушкой. Очень удачно, что он не договорил. Кончились те времена, когда за меня в моей голове могли говорить другие люди – теперь я заматерел и сам говорил в головах своих внутренних голосов. Это внушало мне восхищение собой.
И вдруг. Я снова у себя дома. За окном льет дождь, вновь приветствуя меня в сером мире реальности говна. Я лежу на полу в луже собственной рвоты и задыхаюсь. Ужасно болит в груди. Глаза пересохли к херам – наверное, я долго не моргал, выпучив глаза в пустоту. Кто-нибудь знает, что самое хуевое во всей этой ситуации? Я знаю. Мне совершенно не хочется вставать и что-то делать. У меня нет ни сил, ни желания жить дальше, но нет и сил умереть – я просто устал, очень устал, как будто прожил уже миллион лет. Я лежал и вспоминал, сколько шансов в жизни я упустил, сколько всего потерял, как сумел опуститься до нынешнего уровня – пустой внутри, потерявшийся и абсолютно одинокий наркоман, у которого не осталось ничего стоящего в жизни, жалкий и разбитый на хренову кучу зловонных осколков, просто идеальный пример того, каким не должен быть человек. Мог ли я лет десять назад подумать, во что превращусь? Боже, как я был наивен и полон надежд. Я словно смотрел видеопленку со всей своей жизнью, и больнее всего было видеть те редкие моменты счастья, что мне довелось пережить, я с ужасом чувствовал, что не достоин даже помнить их, словно это все было с совсем другим человеком, а потом появился кто-то еще, кто убил меня и занял мое место – та тварь, на которую я стараюсь не смотреть в зеркало. Все люди, которых я потерял, все возможности, которые проебал, все дни, которые прожил зря – вот оно, услужливая сука-память всегда готова их подсунуть, чтобы я снова и снова ненавидел себя. Что самое обидное – в том, как все в итоге сложилось, не виноват никто, кроме меня самого, так что я просто лежал и жалел себя, жалел о том, что родился на свет, лишь для того, чтобы ненавидеть свою жизнь, и слезы сами собой лились соленой рекой из моих глаз. Какое же я ничтожество. Вот таким я на самом деле себя вижу – эгоцентричным, мерзким и бесполезным. Иногда все это остается где-то на заднем плане, а иногда, как сейчас, режет до боли, и я никак не могу этого вынести, размазываясь и расщепляясь внутри, до тех пор, пока очередная часть человека не лопается, не выдержав, оставляя все больше пустоты, которую тут же заполняет мрак – мрак чувства, которое я уже не могу описать. Знаю, это все отходос, и через некоторое время меня отпустит, и все снова вернется на привычный уровень убожества, но сейчас от этого не легче. Я хотел бы рассказать, как все это началось, но расскажу позже – сейчас я катаюсь по полу и кричу от боли, с которой из меня вырывается душа. Но, для затравки: все началось с темного омута, в котором я однажды заблудился.
XXIV. Чужой 2. Король ножей, повелитель мух
По лунному свету блуждаю, посвистывая
Но только оглядываться мы не должны
Идет, идет, идет вслед за мной вышиной в десять сажен
Добрейший князь, князь тишины
Добрейший князь, князь тишины
Наутилус Помпилиус – Князь тишиныЛюди не видят разумом, что ад такое есть, и кого дьяволом привыкли называть. Ад – не воронка в девять уровней, и сатана – не воплощенной злобы образ. Ад – не котлы и лава, не озеро во льду, и дьявол тоже вовсе не змея иль падший ангел. Ад – в ваших душах, в потаенных закоулках, скрывают что страшнейшие из мук вообразимых. И боль, страданья – все есть лишь внутри вас, а демон тот рогатый – просто-напросто вам данная свобода выбирать, в совокупленьи с тяжестью последствий.
Но люди так боятся внутрь заглянуть, что из души извечно тащат в мир все злое. И оттого им счастья не снискать вовек, что сами себе служат судьями и палачами. А кто-то все же ходит между них – быть может, то всего лишь смутная идея, безумные порывы никак подобны ветру. Подкармливая пламя внутренней ожесточенной схватки сжимает руки, холодные, как лед, на воле и на горле, их разум вводит в заблужденье и селит в душах их смятенье.
…И каждый вечер он, словно монах, подняв понурый взгляд к серому небу, угрюмо молит о прощении, о силах, чтобы новый день в отчаяньи прожить необходимых. Но глухо небо каждый раз к этим мольбам, ему лишь отвечая всполохами молний, раскатом грома, дождем и снегом, что смешаются незримо со слезами на лице сего живого трупа. И жизнь порою кажется ему чредой из циклов агонии и временного облегчения, что за собой таит припадок новый, еще более томительный.
И вы воистину забавные создания, и так же весело нам с вашими играть сердцами. Вы рождены без цели и предназначенья, но вам дана способность чувствовать и мыслить, столь редкая меж всех живущих тварей. И что же вы? А вы всю свою краткую по меркам гроба жизнь предпочитаете расходовать на то, чтобы искать того, что вам начально не было дано, и чувствовать лишь боль, и думать лишь о ней. Неужто вам и правда не по силам смириться с той чертой, что вас прервет однажды под луной? И так ли на самом деле трудно жить без тех надуманных вещей, что вы зовете именами горьких чувств? Вы созданы для покорений, войн и торжества, и ради вкуса багровой крови на губах, ради убийств, насилия, вам приносящих исподволь блаженство, ради того, чтоб у других отнять, что им принадлежит, и сжечь дома, убить детей и обесчестить женщин. Вам это мило, разве нет? Вы этим живы наконец от скуки. Вы звери, всех страшнейшие на свете. Вы живы яствами различными, с изыском, вы счастливы в хмелю, в дыму от трав, на пике наслаждения вы в совокуплении друг с другом. Кто же мне скажет, в чем я здесь не прав?
Так пусть я буду вам спасеньем, и с тем же – карой за надругательство над замыслом природы. Коль не желаете вкушать вам разрешенные услады, извечно порываетесь шагнуть за недостижимые для вас пороги, я заберу и первое, и ко второму подобраться не позволю. Вам мука такого наказания послужит впредь уроком о том, что в мире должен быть порядок заведенный. И ваши неисчислимые восстания против естественного хода жизни и судьбы лишь приближают вашу смерть как вида. Вам разум дан был для того, чтоб насладиться простыми лишь вещами. А раз вы его пользуете для столь ненатуральных целей, то будет он повернут против вас самих. Хоть поначалу эти новые миры вам будут мниться неземною негой, обман так сладок, что ни мысли о побеге. Не отличить от яви вам мои дары, однако наяву вы обратитесь в порчу, что медленно сжирает все вокруг, и не познаете вовек ничего горше этой пытки, когда сознанье с воплем будет отходить под звуки разрывающегося в муках сердца.
Здесь все, и нечего добавить. Я лишь в прелюдии к истории позволил взглянуть на все глазами “зла”, чтобы вас потом в сетях из заблуждений не неволить.
Я опустил взгляд от потолка. Так, обращение сделано, теперь можно вернуться к насущным делам. Самым важным из них было суметь прикрепить свою голову обратно к телу – как в старых играх, где ты управляешь персонажем от неподвижной камеры где-нибудь в углу комнаты, а само управление инвертировано. Через минут десять после того, как Ворон нырнул в портал, я все же сумел справиться с этим квестом и поставил башку на обрубок шеи. Теперь все довольно быстро срастется, надо только поддерживать рукой.
Трое были мертвы – лежали на полу в крови, все израненные, бедняги. А вот четвертого не хватало, и это было очень неприятным обстоятельством – он единственный из них, кто что-то понимал и даже мог помешать. Наверняка уже начал. В стене зияет червоточина, ведущая в Выворот, в одном из его отражений. Долго не раздумывая, я вошел.
В этот раз он был лесом. В том месте, где я вышел, на земле лежал телефон – наверное, его выронил четвертый. Так, собраться. Что мне нужно? Я попал сюда намного быстрее, чем думал – большая удача, хоть и не в ту часть этого места, что мне больше всего нужна. Даже не пришлось охотиться за кровью этих мешков с мясом. Теперь… найти это гребаное озеро. Я найду озеро, убью хранителя, и кое-что подправлю, и тогда будет много веселья. Мы будем долго играть в разные веселые игры. Я буду играть, пока не заставлю одного из демиургов провести половину ритуала, а потом – я расскажу ему, кто виноват во всем, я расскажу ему, кто жизнь попортил, кого надо винить, кого нужно наказать. Самое забавное, оба демиурга – неосознавшиеся. Авель что-то подозревает, а вот второй парень вообще не понимает, где находится, не понимает, кто он. Это же надо было так обнюхиваться в своем мире, чтобы не отличать реальность от сна. Хотя за это я судить не могу. Скоро у всех будет такая замечательная способность. И вот когда торчок на виду у Авеля принесет жертву огню – останется всего один шаг, а что самое главное – теперь на это вообще не уйдет нисколько времени, и для разных любопытствующих личностей все случится просто в один миг. Время и пространство, детка! Блядь, это невыносимое чувство зловещего торжества темного наслаждения, будто ты подросток и остался дома один, наедине с баром отца, журналами с порнухой, и крепкими, как твой стояк, сигаретами. И тебя уже не остановить. Нужно только найти озеро. Хотя, смотрите-ка, похоже, отыскать его будет несложно – под землей словно пульсируют сквозь почву ручейки, питающие лес водами судеб. Я разрыл землю и добрался до одного из них – вода действительно темная и более густая, чем обычная, а на вкус… ну, как будто кто-то захуярил жидкое всесилие. Неплохо, тот тип с блокнотом не обманул.


