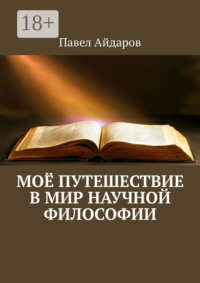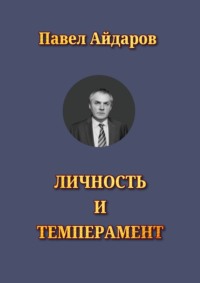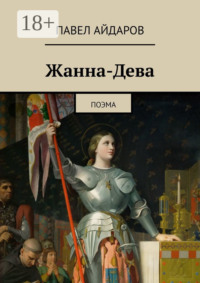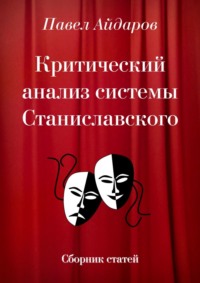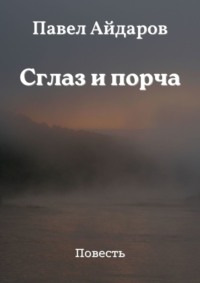Сократ. История без мифов
Получается, что Ксенофонт, в отличие от Платона, попросту плохо знал Сократа, а потому его так неудачно описал. Но всё не так. У Сократа все его ученики были одновременно его друзьями. А на «близкое знакомство» Сократа и Ксенофонта указывают, как минимум, сохранившиеся два письма Сократа, адресованные Ксенофонту. Одно письмо начинается словами: «Ты хорошо знаешь, с каким уважением я отношусь к Херефонту» [15, с. 264], а в другом Сократ пишет: «Мы же [с тобою], если уж раз отдали себя на такое дело, будем хорошими людьми, вспоминая о многом, что раньше мы говорили…» [там же, с. 266]. И как после этого можно утверждать, что «ничто не указывает на близкое знакомство Ксенофонта и Сократа»?!
Также они вместе были на войне, и Сократ даже спас жизнь Ксенофонту. Эту историю рассказывает Страбон, а вслед за ним Диоген Лаэртский: при отступлении Ксенофонт упал с лошади, потеряв сознание, а Сократ тащил его на себе. Но критики Ксенофонта и тут нашли повод усомниться. Они ставят эту историю под сомнение на том основании, что Ксенофонту якобы в это время (424 г. до н.э.) было всего шесть лет, и он никак не мог быть на войне. Они твёрдо уверены (на каком основании?), что Ксенофонт родился в 430 г. до н. э. Однако точная дата его рождения неизвестна. В пользу того, что Ксенофонт был намного старше, говорит его диалог «Пир», где в самом начале звучат слова: «Я хочу рассказать тот случай, при котором я присутствовал» [11, с. 269]. Действие этого диалога, как точно установлено, относится к 422 г. до н. э. И что получается, восьмилетний Ксенофонт присутствовал на взрослой вечеринке? Как отмечает С. Соболевский [21, с. 444], на подобных мероприятиях могли присутствовать только люди старше 20 лет. А потому сам С. Соболевский склоняется к версии, что годом рождения Ксенофонта является «444-й или ещё более ранний» [там же].
Хоть Ксенофонта и принято обвинять в том, что он не смог описать настоящего Сократа, не смог изобразить его высокую личность, сам Ксенофонт как раз был очень требователен к себе в этом отношении, что мы встречаем в его письме Кебету и Симмию:
«…но я считаю нужным заботиться о Сократе, как бы по моей вине, если плохо поведаю о нём в своих воспоминаниях, не подверглось нареканиям его высокое нравственное достоинство. Мне кажется, нет разницы в том, клевещешь ли ты на кого или пишешь не вполне достойное высоких качеств того, о ком ты пишешь. Такой страх, Кебет и Симмий, который теперь охватывает меня» [15, с. 289].
В другом же письме он пишет, что показывал написанное Аристиппу и Федону, и те сочли, что «кое-что там есть хорошего» [там же, с. 286]. Получается, Ксенофонт показывал предварительные материалы другим ученикам Сократа, и если бы там Сократ выглядел не по-настоящему, то ему бы наверняка на это указали.
Таким образом, Ксенофонт очень тщательно заботился о том, чтобы Сократ у него не вышел хуже, чем был на самом деле. И обвинения в его адрес со стороны людей, живущих спустя два с лишним тысячелетия, нельзя признать обоснованным. Такие обвинения есть попросту следствие завышенных ожиданий, порождённое выдуманным образом Сократа в платоновских диалогах.
d) Другие источники
Аристофан, Платон и Ксенофонт являются современниками Сократа. На этом свидетельства современников, дошедшие до нас, почти заканчиваются. Но именно «почти», ибо до нас ещё дошли несколько писем Сократа и его друзей. Из этих писем мы особо ничего не узнаем о философских взглядах Сократа, но многое можем почерпнуть о некоторых обстоятельствах его жизни. На некоторые из этих писем мы уже выше опирались.
Вместе с тем есть свидетельства хоть и не современников, но весьма заслуживающие внимания. Прежде всего, это Аристотель. Он жил позднее, но был знаком со многими людьми, которые лично знали Сократа, и это не только Платон. Хоть и говорит Аристотель о Сократе мало, но это очень полезные сведения, и они звучат главным образом в рамках критики. Из критики Аристотелем теории идей мы узнаём, что принадлежит она Платону, а не Сократу. Также, когда Аристотель критикует этические положения Сократа, то мы как раз и узнаём, что они принадлежат именно ему. Между тем три известных сочинения по этике, которые мы сегодня знаем под именем Аристотеля, написаны вовсе не им. Даже сравнивая стилистику этих произведений с другими трактатами Аристотеля («Метафизика», «Физика» и др.), можно предполагать, что они написаны (или, по крайней мере, отредактированы) кем-то другим. И это действительно так. «Никомахова этика» написана Никомахом – сыном Аристотеля. Это произведение заслуживает наибольшего внимания, в нём, судя по всему, представлен свод всех этических сочинений Аристотеля в обработке его сына. «Евдемова этика» написана перипатетиком Евдемом Родосским, а автор «Большой этики» неизвестен, но тоже кто-то из перипатетиков. Однако этическая система во всех трёх сочинениях изложена одна и та же – самого Аристотеля. Вместе с тем в этих сочинениях наряду с именем Сократа звучит и странное имя «Сократ-старший» – что это означает, неизвестно…
Ещё одним важным источником является книга Диогена Лаэртского. Он жил, предположительно, в конце II – начале III века нашей эры. Со времён Сократа прошло уже семь веков. И уже на основании этого можно ставить вопрос о достоверности приведённых там данных. Однако в те времена было доступно множество более весомых источников, которые до нас не дошли, но к которым имел доступ Диоген Лаэртский. Вместе с тем по психотипу он является экстенсивным позитистом, а люди этого склада в исторических материалах больше обращают внимание на поверхностные, но вызывающие интерес события, какими и изобилует его книга6. Постичь внутреннюю глубину истории они не в состоянии. Но, с другой стороны, плюс экстенсивистов в том, что они способны перерабатывать большое множество материала. И Диоген Лаэртский как раз таков – складывается ощущение, что он разыскал и ознакомился со всеми существующими в его времена источниками. И потому, при обращении к античности, его работа всегда находится в центре внимания историков философии.
О платоновском Сократе Диоген Лаэртский однозначно говорит как о литературном герое, в уста которого вкладываются различные мысли. Весьма примечателен момент в отношении диалога «Лисий», написанного ещё при жизни Сократа. Реакция Сократа на этот диалог описывается так:
«Сам Сократ, говорят, послушав, как Платон читал „Лисия“, воскликнул: „Клянусь Гераклом! Сколько же навыдумывал на меня этот юнец!“ – ибо Платон написал много такого, чего Сократ вовсе не говорил» [13, с. 146].
Платон вкладывал в уста Сократа и его мысли, и свои собственные. Но в этих «собственных» мыслях было много заимствованного у других:
«Он соединил учения Гераклита, Пифагора и Сократа: о чувственно воспринимаемом он рассуждал по Гераклиту, об умопостигаемом – по Пифагору, а об общественном – по Сократу. <…> о „Государстве“ Фаворин во II книге „Разнообразного повествования“ говорит, будто оно почти целиком содержится в „Противоречиях“ Протагора» [там же, с. 139, 152].
Вместе с тем у А. Ф. Лосева говорится, что Платон заимствовал у Демокрита учение об атомах (переработав), у Гераклита – концепцию всеобщего становления, у элеатов – концепцию неподвижного Единого, у пифагорейцев – концепцию числа [14, с. 10]. В итоге получается, что платоновский Сократ говорит сразу устами Гераклита, Пифагора, Сократа, Протагора, да и самого Платона. И неудивительно, что такого Сократа многие считают философом из философов.
Лишь в диалогах у ПлатонаОн мудрецом предстал всем нам,И все таким его возносят,Каким Платон нам описал.Платон же мысли Гераклита,И Пифагора, и Сократа,А частью – даже Протагора,Что те вещали всем когда-то,Соединил в единой связке,Добавив мысли и свои, —И то в уста вложил Сократу,Издав тогда в былые дни.Немудрено, что восхищаетСократа блеск, в конце концов,Когда из книги он вещаетУстами стольких мудрецов!Жизненный путь
Год рождения Сократа мы знаем лишь приблизительно. Известно, что когда он предстал перед судом, ему было семьдесят лет. Это был 399 г. до н. э. Но исполнилось ли ему уже в этом году семьдесят, или должно было исполниться семьдесят один – это неизвестно. А потому год его рождения обозначают лишь приблизительно – либо 469, либо 470 до н.э.
Отец Сократа был каменотёсом-ваятелем, и Сократ, судя по всему, первоначально работал в его мастерской. В различных энциклопедиях фигурирует информация, что руками Сократа даже были созданы некоторые статуи перед входом в афинский Акрополь. Она идёт от древнегреческого географа Павсания, жившего во II веке, т.е. спустя шесть веков после Сократа. Павсаний активно посещал различные исторические места, беседовал с местными жителями, получая от них разные сведения. Но насколько полученные таким путём сведения могли быть достоверными, если прошло целых шесть веков?! Когда информация передаётся устно от одних к другим, она всегда искажается, в той или иной степени, а когда это происходит на протяжении шести столетий, то тем более… Строительство Акрополя началось в 447 г. до н.э., когда Сократу было 22—23 года. Инициатором же данного строительства был Перикл, с которым Сократ в какой-то момент стал близко знаком. Тем самым он вполне мог тем или иным образом участвовать в строительстве Акрополя. Но очень маловероятно, чтобы такую знаковую, важнейшую работу, поручили начинающему ваятелю Сократу, в то время как было множество других солидных и имеющих высокую репутацию мастеров этого дела…
Работа в мастерской, похоже, оставила у Сократа не лучшие воспоминания. Он впоследствии очень негативно относился к ремесленной работе, считая, что она портит здоровье и оставляет мало свободного времени, требуемого, конечно, не для отдыха и развлечения, а для совершенствования самого себя.
К философии Сократа приобщил Критон – человек из достаточно богатой семьи. Это тот самый Критон, который, согласно одноимённому диалогу Платона, подготовив всё для побега, приходил к Сократу перед его казнью. Однако, по другим сведениям, приходил вовсе не Критон, а Эсхин. Дело в том, что (как говорит Идомений) Платон находился во враждебных отношениях с Аристиппом, а Эсхин был человеком из его круга. Избегать упоминания тех, о ком не хочется говорить, – это для Платона типично: он не говорит о Ксенофонте, с которым находился в конфликте, совсем не упоминает Демокрита, все книги которого даже пытался сжечь, стерев о нём память.
Назовём учителей Сократа. Прежде всего, это Анаксагор. Именно на его занятиях Сократ познакомился с Периклом – отцом афинской демократии, который также был одним из учеников. Позже Анаксагора будут судить за то, что он отрицал божественную природу Солнца, считая его горящим камнем (для него все небесные светила были горящими камнями). И именно Перикл на суде заступился за своего учителя, показывая на себя и говоря, что является его учеником, и по нему следует судить, учит ли Анаксагор плохому. Это возымело действие, и казнь Анаксагору была заменена на изгнание.
Близкое знакомство с Периклом привело к тому, что Сократ обрёл себе учителя риторики в лице его супруги Аспазии, которая даже писала речи для Перикла.
Также на занятиях у Анаксагора Сократ познакомился с Еврипидом. В разных материалах о Сократе периодически встречается информация, будто бы он помогал Еврипиду писать трагедии. В это охотно верил Ницше, который даже говорил, что устами Еврипида говорит Сократ7. Единственным источником здесь является Диоген Лаэртский, у которого приведены следующие строки из якобы поэмы Аристофана «Облака»:
«Для Еврипида пишет он трагедии,
В которых столько болтовни и мудрости» [13, с. 98].
При этом идёт ссылка на саму комедию, на первоисточник (даже указывается абзац). Но в дошедшем до нас варианте комедии подобных строк нет. Переводчик М. Л. Гаспаров находит два объяснения этому: либо эти строки имелись в первоначальном варианте «Облаков» (а до нас дошёл второй, более совершенный), либо речь идёт об одноимённой комедии Телеклида [там же, с. 463]. Однако трудно представить, что до Диогена Лаэртского через семь веков дошёл лишь первый вариант комедии, который оказался провальным, и который сам Аристофан забраковал. О комедии же Телеклида с таким наименованием мы вообще никакой информации не находим… Вместе с тем ни у Платона, ни у Ксенофонта нет даже малейшего намёка на то, что Сократ сотрудничал с Еврипидом… От Диогена Лаэртского мы также узнаём, что Еврипид интересовался мнением Сократа по поводу сочинения Гераклита. Если Еврипид высоко ценил мнение Сократа, то вполне возможно, что ему было интересно и его мнение о написанных им трагедиях, и он мог просто показывать ему черновики своих сочинений для предварительной оценки. Отсюда, возможно, и пошёл слух о Сократе как соавторе…
После осуждения Анаксагора, а Сократу тогда было около 37 лет, он начинает посещать занятия его ученика – Архелая. И Анаксагор, и Архелай – это «натурфилософы», а точнее – «фисиологи»: они занимались философией природы. Сократ же пойдёт по другому пути: в его центре внимания окажется моральная философия. Занятия же философией природы, как указывает Ксенофонт, Сократ считал глупостью. Он не понимал, каким может быть практическое применение этих знаний. Но это значит, что знание само по себе не представляло для Сократа ценности. Он стремился изучать лишь то, что имеет практическую пользу – но не в смысле накопления богатств или обретения власти, а в смысле совершенствования самого себя и своих отношений с другими.
Очень важно обратить внимание на то, что среди учителей Сократа были и те, кого мы сейчас называем «софисты»8. Прежде всего, это Продик. Более всего он известен как уделявший большое внимание прояснению значения слов, на основе чего определялись синонимы и омонимы. Сегодня мы открываем толковые словари, смотрим на значение слов, и почти никто не догадывается, что всё это берёт своё начало с тех, к кому принято относиться отрицательно, – с софистов, а именно – с Продика. О том, что Продик активно занимался прояснением понятий, мельком звучит в диалоге «Протагор», где Сократ обращается к нему с просьбой прояснить, является ли одним и тем же «быть» и «стать», а потом рассказывает про то, как Продик его учил прояснять смысл слов. Именно эту линию и развивал Сократ в своих диалогах, проясняя те или иные понятия. Позднее же это полностью станут считать новшеством Сократа, а о Продике совсем забудут…
Также утверждается, что Сократ учился у софиста Дамона, который был советником Перикла и его учителем.
Словесные состязания по принципу «вопрос-ответ» берут своё начало также с софистов – с Протагора. Однако, как мы узнаём из одноимённого диалога, беседы Протагора предполагали длительные речи из уст собеседников. Сократ же специализировался на беседах, предполагавших короткие вопросы и ответы. И в этих беседах ему не было равных: он постоянно побеждал в споре. Однако есть большие сомнения, что эти победы были честными, ибо он вёл их, постоянно используя софизмы, что будет в дальнейшем показано. Возможно, именно по этой причине после споров Сократа, бывало, колотили, таскали за волосы, осмеивали и оскорбляли. Диоген Лаэртский пишет, что Сократ «спорил с кем попало не для того, чтобы переубедить их, а для того, чтобы доискаться до истины» [13, с. 99]. В то же время Аристофан называет Сократа «священнослужителем речей плутовских», и очень маловероятно, что это не имело за собой серьёзного основания. Однако первый вариант9 комедии Аристофана был написан в 423 году до н.э., т.е. всего через пять лет после того, как Сократ начал свою философскую деятельность. Это ранний Сократ. Вполне возможно, что впоследствии Сократ изменился и слова Диогена Лаэртского относятся уже к позднему Сократу. А может, никакого изменения и не было…
Свою активную философскую деятельность Сократ начал примерно в 428 г. до н.э. – когда ему было чуть более сорока лет. Как утверждал сам Сократ, его к этому побудил ответ оракула его другу Херефонту, приехавшему в дельфийский храм. Якобы Пифия устами оракула сказала, что нет никого мудрее Сократа. Различные версии этой истории мы изложим позже.
Оракул возвестил Сократу,Что он мудрее всех других,Отсюда путь и начинаетОн в наставлениях своих.Суть философской деятельности Сократа можно обозначит как приобщение других к философии и наставление их на путь добродетели. Сократ, основываясь на словах оракула, стал считать, что в этом его миссия. Изначально, судя по всему, он вовсе не планировал создавать вокруг себя круг учеников, а просто заводил беседы с другими, стараясь в этих беседах исправлять представление своих собеседников о моральных вопросах, заставляя задуматься над ними. И Сократ заводил беседы с кем попало. Своих собеседников он искал главным образом там, где собирался народ: на аллеях возле мест, куда приходили заниматься гимнастикой, и возле меняльных столов на торговой пощади. Бывало, что он заводил разговор просто со встретившимся ему на улице человеком. Принимался за философские беседы он и каждый раз, бывая у кого-то в гостях.
Вот здесь уже возникает вопрос: а не принижал ли Сократ философию, выставляя её вопросы везде и всюду, даже на базарной площади? Ведь если ты что-то очень высоко ценишь, то должен относиться к этому священно, не выставляя в неподобающих местах…
Порой на площади торговойСреди торговцев и менялБесед он метод повивальныйВ различных формах применял.Мест гимнастических аллеи,Простые комнаты в домах —Бесед сократовских обитель,Идут они и во дворах.Чуть ли не с каждым он заводитСвой философский разговор,Идёт философ с мыслью в массы —Метать так бисер – не позор?Излишен на вопрос ответ,Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Виктор Гюго даже называл Вольтера «мастер дьявольского смеха».
2
Согласно моей теории психотипов, изложенной в книге «Личность и темперамент». Далее будут использоваться и другие наименования психотипов из этой теории, в которой, помимо критицистов, выделяются позитисты, экстенсивисты, интенсивисты, концентристы, созерцатели, эмпирики, имагинативисты.
3
Буквально, в русской транскрипции – «Лизис», также его называют «Лисид».
4
Не следует путать с вечеринкой, описанной Платоном в одноимённом диалоге. «Пир» Ксенофонта относится к событиям 422 г. до н.э., а «Пир» Платона – к событиям 416 г. до н.э.
5
И в эпиграфе, и здесь, и далее приводятся отрывки из поэмы «А был ли мудрецом Сократ?», написанной мною в 2016 году.
6
Особенно он обращал внимание на забавные случаи из жизни философов.
7
См. работу Ницше «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм».
8
Они и тогда назывались так, но просто это понятие в те времена означало нечто иное, нежели сейчас. Подробней об этом в главе «Был ли Сократ софистом?»
9
Дошедший до нас вариант относится к 419—416 гг. до н.э.,
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: