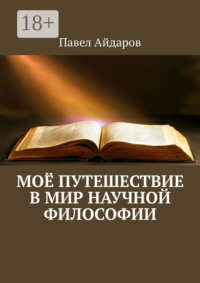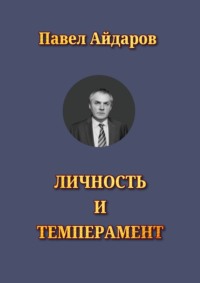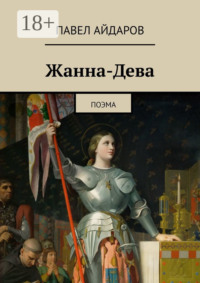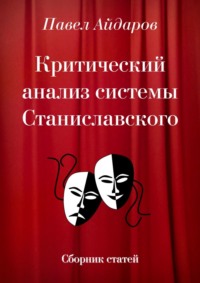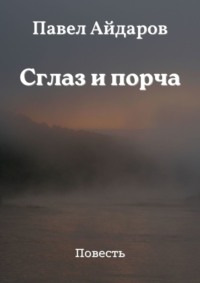Сократ. История без мифов

Сократ
История без мифов
Павел Айдаров
Взирая на истоки мысли,
Древнейших мудрецов парад,
Вопрос всё больше возникает:
А был ли мудрецом Сократ?
«Сократ – философ из великих», —
Твердит история всем нам…
Сомнений пламя возгорелось,
И тает вера тем словам…
Фотограф Павел Айдаров
© Павел Айдаров, 2025
© Павел Айдаров, фотографии, 2025
ISBN 978-5-0065-9834-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Имя Сократа для многих отождествляется с самой философией. В их представлении он считается олицетворением того, каким должен быть настоящий мудрец. Его даже считают самым великим мудрецом. Такое представление о Сократе прежде всего идёт от диалогов Платона. Эти диалоги читают, восхищаются Сократом, чаще вообще не понимая смысл его речей, и выносят из них одно – Сократ был величайшим мудрецом. Мысль о том, что платоновские диалоги являются не столько биографическими, сколько художественными произведениями, где образ Сократа создан искусственно, обычно не возникает. Лишь знакомясь со специальной литературой можно понять, что платоновский Сократ – это большей частью литературный персонаж, прообразом которого был Сократ настоящий. Впрочем, многие, восхищающиеся Сократом, и диалоги Платона никогда не открывали, а своё представление о нём имеют исходя из господствующих мифов. Один из таких хорошо распространённых мифов был посеян фильмом «Тот самый Мюнхгаузен», где говорится, будто бы Сократ сказал: «Женись непременно. Попадёт хорошая жена – станешь счастливым, попадёт плохая – станешь философом». И в то, что Сократ действительно это говорил, верят. Но нигде в источниках о Сократе нет этой фразы. Либо создатели фильма ошиблись, либо руководствовались тем, что барон Мюнхгаузен является выдумщиком, фантазёром, а значит, в его уста можно вложить выдуманную фразу. Однако позже она проникла не только в народ, но и даже в материалы по истории философии, где её стали приписывать самому Сократу… На самом же деле ответ Сократа на вопрос о том жениться или нет, присутствует только у Диогена Лаэртского, и звучит так: «Делай, что хочешь, – всё равно раскаешься» [11, с. 103]. Однако и верность этого также можно поставить под сомнение, ибо Диоген Лаэртский жил спустя семь веков после Сократа и совсем непонятно, насколько достоверным источником он в данном случае пользовался.
Мифов о Сократе много. И в их плену оказались не только простые люди, но и философы (в том числе выдающиеся), и историки философии. Во многих философских книгах мы встречаем настолько укоренившиеся мифы, что их давно уже все воспринимают за реальность. Но в науке не должно быть мифов. Из обыденного представления их также нужно изгонять. А потому попробуем взглянуть на Сократа без мифов – каким он был на самом деле. Конечно, это задача в полной мере не выполнима, ибо прошло уже двадцать пять веков. Но приблизиться к её выполнению максимально близко всё же возможно. И ответы, получаемые при реализации этой задачи, многих крайне удивят…
Откуда мы знаем о Сократе?
Когда ставится вопрос о реальности сведений о какой-либо исторической личности, то всегда уместно задавать вопрос, из каких источников получены те или иные сведения, и насколько этим источникам можно доверять. Иногда выясняется, что господствующее представление о ком-либо вообще не имеет оснований, а значит, кем-то было просто выдумано, а другие, подхватив это, стали распространять. Но и когда источник известен, зачастую он таков, что его достоверность можно ставить под сомнение.
Сократ жил в V веке до н. э. Через два с половиной тысячелетия, до нас дошли о нём не такие уж и богатые сведения. Есть всего несколько источников, и ни один из них не является в полной мере удовлетворительным. Остановимся на каждом поподробней.
a) Аристофан
Хронологически самым первым источником о Сократе, из дошедших до нас, можно считать комедию Аристофана «Облака». Но Сократ здесь вовсе не таков, каким его принято представлять. Здесь нет Сократа-мудреца, а есть комический Сократ-псевдомудрец, который обучает главным образом «речам плутовским», т.е. тому, что сегодня принято называть «софистикой». В адрес Аристофана звучало немало обвинений в том, что он крайне исказил образ настоящего Сократа. Причины этого предполагаются разные. Одни говорят, что Аристофан плохо знал Сократа и пользовался в представлении о нём какими-то слухами. Но, по любому, он знал о Сократе намного больше нас. Другие считают, что он имел, по какой-то причине, личную неприязнь к нему, и решил отомстить таким образом. Вряд ли столь весомая личность, вошедшая в мировую историю, стала бы опускаться до такого. Третьи же видят в этой комедии просто высмеивание серьёзных вещей ради забавы. Однако Аристофан вовсе не принадлежал к писателям-весельчакам, типа Вольтера1, которые способны везде искать повод посмеяться. В психологическом плане Аристофан явно был критицистом2, и свою критическую энергию направлял на выявление недостатков общества и высмеивание их в своих комедиях. Он искренне желал сделать афинское общество лучше.
Как ни странно, комедии Аристофана очень высоко ценил Платон – об этом говорит последний из его комментаторов александрийский неоплатоник Олимпиодор, живший в VI веке. Даже на смертном одре Платона были найдены книги Аристофана [16, с. 413]. Странно бы было, если бы самый преданный и ревностный ученик Сократа восхищался комедиографом, который его учителя попросту оболгал с целью выставить на посмешище…
В качестве аргумента в пользу того, что Аристофан по своему невежеству создал нереальный образ, звучит и то, что в комедии Сократ обучает за деньги, а на самом деле у него занятия были бесплатными. Действительно, в начале поэмы звучит, что в «мыслильне» за деньги могут «кривду сделать речью правою» [6, с. 159]. Однако, когда Стрепсиад и его сын Фидиппид приходят учиться к Сократу, с них денег всё же не требуют. Между тем по ходу действия звучит рассказ, как ранее Сократ украл плащ, и сам Стрепсиад тоже уходит из «мыслильни» без плаща. Возможно, это появилось на фоне слухов о том, что Сократ порой занимался воровством. О том, что такие слухи были, говорит и комедия Евполида «Льстецы», появившаяся спустя два года после выхода «Облаков», – в ней Евполид насмехается над Протагором и Сократом, которые, по его представлению, размышляя о великом, совершают низкие поступки; и как раз говорится, что на одном из пиров Сократ украл винный ковш.
В начале комедии Аристофана проглядывается его опасение в целом перед философией, которая всё более и более входила в умы афинян. Изначально в поэме высмеивается то, как философия по-другому пытается объяснять небесные явления: дождь, гром, огонь. Ранее это всё объяснялось религией, деятельностью богов. А теперь? В поэме это представлено так, будто бы Сократ вводит новые божества, а эти природные явления есть просто деятельность одного их них – «Облаков», которые вместе с Воздухом и Языком образуют «священную троицу». Только вот Сократ вообще не занимался исследованием естественнонаучных вопросов, а потому он здесь чисто символическая фигура. Однако опасения Аристофана всё же оказались верны: позднее уже совсем другие люди обвинят Сократа в непочитании богов и во введении новых, что выльется в судебное обвинение, которое будет подробно рассмотрено нами позже; а философия и возникшие на её основе частные науки в конце концов не только пошатнут религиозное представление о небесных явлениях, но и вовсе его опровергнут.
Сократ в «Облаках» представлен как софист (в нашем понимании), «священнослужитель речей плутовских». Про него говорится, что он ходит босой, в лохмотьях, «чванно и важно», «вскинув голову». Когда «Правда» осуждает стремление «на рынке… кувыркаться в словах и кривляться, и мытариться зря, извиваясь крючком в пересудах грошовых и тяжких» [там же, с. 208], то явно имеются в виду споры на рыночной площади, которые постоянные затевал Сократ, вовлекая в них других. При всём этом звучат слова, что никого так не слушают «из искусников» как Сократа, разве что ещё и Продика, который даже восхваляется: «мудрость его нас пленяет и гордые мысли» [там же, с. 174].
Аристофан выступает в этой комедии действительно против софистов, и в этом её основной пафос. Но почему же он в качестве образа, символизирующего софистов, выбрал Сократа, а не Продика? Вероятно, потому что Продик не был такой одиозной личностью как Сократ. О Сократе ходило много дурной славы, и он хорошо подходил на эту роль. Однако, скажут: он же не был софистом! От тех, кого сегодня называют «софистами» Сократ отличался. Но если говорить о «софистике», которую и высмеивает Аристофан, то Сократ вовсю ей пользовался, и стоит только удивляться, что это особо не замечалось на протяжении двух с половиной тысячелетий. Более того, нет ни одного персонажа того времени, кроме Сократа, в адрес которого бы имелось столько свидетельств того, что он вовсю использовал софизмы, и что именно к его речам более всего подходит то, что сегодня именую софистикой. Мы этот вопрос далее будем подробно разбирать…
Завершается же комедия тем, что Фидиппид избивает своего отца, и обосновывает правомерность своих действий по-сократовски. Отец в отчаянии бежит и поджигает «мыслильню»…Представим кратко аргументы сына (А) и контраргументы отца (К):
А: Стрепсиад бил своего сына в детстве?
К: Да, но бил, желая добра.
А: Так почему же сын отцу не может желать добра?
К: Но ведь бьют только детей в целях воспитания!
А: Старик – вдвойне ребёнок, а значит, заслуживает двойного наказания.
И в этом Аристофаном хорошо показан дух софистических речей, которыми Сократ как раз и побеждал своих противников в споре.
b) Платон
Главным источником, на основе которого подавляющее большинство строит своё представление о Сократе, является Платон. Однако Сократ, представленный у Платона, явно отличается от настоящего. Ещё во времена, когда Ксенофонт только призывал учеников Сократа писать о нём воспоминания, Платон (и не только он) это уже вовсю делал. И достоверность его рассказов уже тогда ставилась под сомнение. Вот что пишет Ксенофонт в письме Эвклиду и Терпсиону:
«Мне уже попала в руки подобная запись Платона, где стояло имя Сократа и его беседа, очень хорошо описанная, с какими-то людьми… Я же утверждаю [не то], что я подобного не слыхал, но что о подобных вещах мы не можем писать в воспоминаниях. Ведь мы не поэты, как он, хотя бы он и утверждал, что далёк от поэзии» [15, c. 283].
Обратим внимание, что Ксенофонт говорит не «про Сократа», а «стояло имя Сократа» – от Сократа, похоже, там одно лишь имя. Также переводчик добавил в скобках собственное пояснение «не то» – непонятно на каком основании. Если не обращать внимание на это «не то», то Ксенофонт, получается, утверждает, что не слыхал о Сократе того, что пишет Платон. При этом Платон провёл с Сократом лишь последние семь-восемь лет его жизни, а Ксенофонт – более двадцати лет. То есть Ксенофонт знал Сократа куда намного лучше, однако он ничего не слышал о той его беседе, которую описывает Платон. Если же мы сохраняем «не то», тогда становится не совсем понятен смысл этого предложения, хотя всё равно проглядывается недоверие к написанному Платоном. Ксенофонт называет его поэтом, имея в виду, скорее, что Платон рисует художественную картину, а не документальную. Придумывать о Сократе разного рода сказки – этот путь Ксенофонт отвергает, нужно описывать его таким, каким он был на самом деле, а не пускаться в выдумки.
Изображённый Платоном Сократ имеет и психологическое отличие от настоящего. Реальный Сократ был большим любителем поговорить и разговоры затевал везде и всюду, он мог болтать часами напропалую. Это явно был экстенсивист, притом ярко выраженный. У экстенсивистов эмоциональная энергия не копится внутри, а быстро выносится наружу, подталкивая этим и возникшие мысли. Тем самым им свойственно делиться своими мыслями сразу, как только они возникли, пообсуждать то, что пришло в голову, с другими. К таковым принадлежал и Сократ. А вот их противоположности – интенсивистам – свойственно погружаться глубоко в размышления и выносить на суд других только проверенные положения. В результате их изречения становятся глубоки, а не поверхностны, логических ошибок в их рассуждениях меньше. Они могут с интересом вести беседы, но лишь изредка, при этом к длинной беседе им нужно долго готовиться, после чего возникает естественная потребность в уединении – для восстановления потраченной энергии. После разговоров они склонны эти беседы бесконечно анализировать, выискивая в них и собственные ошибки, и ошибки собеседника; устранение этих ошибок позволяет к следующей подобной беседе подойти более качественно. Сам Платон как раз и был интенсивистом, и всё то, что вкладывается в уста Сократа, очень тщательно отполировывал. Но у него одновременно Сократ изображается неустанным любителем поговорить. Тем самым экстенсивисту Сократу стала свойственна большая глубина изречений, каковой любитель поболтать никогда не обладает. В его образе одновременно сочетаются черты экстенсивиста и интенсивиста, но такого в реальности быть не может, ибо одно другое подавляет. Впрочем, смесью экстенсивиста и интенсивиста Сократ предстаёт у Платона не всегда. Порой он таков, каким был на самом деле – экстенсивистом, со свойственным ему развёртыванием речи вширь, а не вглубь. Скажем, в «Апологии», в первой книге «Государства», в «Евтифроне» особой примеси интенсивизма у Сократа не наблюдается. Надо полагать, что Платон в образе Сократа зачастую изображал смесь самого себя с Сократом настоящим. Но где-то в его диалогах говорит и подлинный Сократ. И как отделить их друг от друга?..
По ходу того, как философия самого Платона всё более и более развивалась, в устах созданного им Сократа всё больше было мыслей самого Платона, и всё меньше – Сократа подлинного. Диалоги раннего периода, в которых подлинный Сократ явно преобладает, можно перечислить: «Апология Сократа», «Критон», «Протагор», 1-я книга «Государства», «Лахет», «Лисий»3, «Хармид», «Евтифрон». При этом принадлежность Платону диалогов «Критон», и «Евтифрон» ставится под сомнение.
В более поздних диалогах платоновский Сократ порой утверждает прямо противоположное тому, что утверждалось в ранних, да и круг его интересов сильно расширяется: если в ранних диалогах он занят исключительно нравственными вопросами (а подлинный Сократ только этим и занимался), то в более поздних его философские интересы сильно расширяются. Но это уже не интересы Сократа, а интересы самого Платона: развивая свою мысль он продолжал вкладывать её в уста Сократа, в результате чего платоновский Сократ стал рассуждает о таких проблемах, которые Сократа подлинного совсем не интересовали.
Как мы видим из письма Ксенофонта, Платон уже изначально стремился изображать не подлинного Сократа, а воображаемого, придуманного. Но даже если бы он перед собой поставил задачу описания подлинных сократовских бесед, то никак не смог бы её выполнить, ибо был, по сравнению с другими учениками Сократа, очень молод, и те беседы, про которые он всё же пишет, происходили очень давно. Платон родился в 428 (427) году до н. э. Из перечисленных же выше восьми диалогов раннего периода три относятся к тому времени, когда Платон либо ещё вообще не появился на свет, либо был малым ребёнком. А именно: «Протагор» – к периоду не ранее 433 г. до н.э., «Лахет» – к 424 году, «Хармид» – к 431 году. Диалог же «Лисий» относится к 409 году, а Платон пришёл в круг Сократа в 407—408 году, т.е. на год-два позже, а значит, об этом диалоге также знал понаслышке.
c) Ксенофонт
Ксенофонт, в отличие от Платона, не так плодовит в написании мемуаров о Сократе. У него лишь четыре сочинения о нём. Одно, самое большое, посвящено разным воспоминаниям, другое – суду. Кроме того, им написаны два диалога, из которых больше заслуживает внимания «Пир», где описано пребывание Сократа на вечеринке4. Другой же диалог – «Домострой» – содержит большей частью лишь пересказ Сократом того, что ему поведал один успешный земледелец.
Сам образ Сократа, описанный Ксенофонтом, несколько отличается от того образа, который был представлен Платоном. Это признаётся всеми, но трактуются различия и их причина по-разному. Например, А. Ф. Лосев видит это различие в следующем:
«Ксенофонт создал свой идеал Сократа – моралиста, устойчивого, упорного, но несколько надоедливого разговорщика, приводившего в смущение своей безупречной логикой. Платоновский Сократ – живой, задорный, любитель застольных бесед, фигура одновременно трагическая и забавная, редкостное сочетание аскетического мудреца и шутовского маскарадника» [15, с. 26].
Как минимум, мы не можем здесь согласиться с «безупречной логикой»: и у Ксенофонта, и у Платона в речах Сократа полно софистики, которая быстро открывается, как только начинаешь его речи анализировать. И это в дальнейшем будет нами показано. Вместе с тем платоновский Сократ более интеллектуален, более философичен, ксенофонтовский же Сократ больше похож не на мудреца-философа, а на бойкого учителя, преподавателя.
Совсем иначе КсенофонтРисует образ нам СократаВ беседах, спорах и речах,Где мысль не так уж и богата.Сократ друзей здесь наставляетИ ими в жизни управляет:Учит он, что им полезно,Даёт советы повсеместно,Чужие мысли обсуждает,Из них он что-то принимает.А философия здесь где же?И где та мысль, чей свет векамСияет гордо и велико,Неся почтение слогам?Ксенофонт же знал СократаМного ближе, чем Платон.И доверия тем большеЗдесь заслуживает он…Был, к тому же, удивляясь,Он Платоном возмущён:Иллюзорного СократаВыдумал поэт Платон…Помимо этого, есть письмаСократа и его друзей,Из них частично почерпнулиМы информацию тех дней.Не мудрость он, а образ жизниСвоим друзьям преподавал:Как жить, как есть, к чему стремиться…Людей вокруг с тем собирал.Быть нищим, но иметь друзей,Копить лишь разум силой дней…Такой склад жизни вёл он сам,Его советовал друзьям5…В отличие от Платона, видевшего в настоящем Сократе лишь прообраз своего литературного героя, Ксенофонт стремился быть его биографом, и описывать таким, каким тот был на самом деле. Но вот только он явно стремится представлять лишь его положительную сторону. Аналогично и у Платона Сократ лишён отрицательных качеств.
В адрес Ксенофонта со стороны разных авторов постоянно звучит упрёк, что он в силу своих способностей (не будучи сам философом и не имея большого литературного дарования) не смог описать подлинного Сократа (пусть и хотел, но всё же не смог). Зачастую звучат и очень резкие выпады. Вот, например, что пишет Е. Орлов:
«…мещанский и близорукий ум Ксенофонта, по-видимому, был не способен проникнуть за внешние покровы Сократовой души в глубь её изгибов, где билась горячей волной его великая, бессметная мысль» [22, с. 35].
Нельзя сказать, что Е. Орлов всецело ошибается насчёт «близорукости» ума Ксенофонта. Но причина этого отнюдь не в мещанстве, а в темпераменте. Судя по всему, он был экстенсивным концентристом, а представителям этого психотипа как раз и свойственна «умственная близорукость»: они хорошо подмечают то, что лежит на поверхности, но неспособны заглядывать далеко вперёд, им свойственно концентрироваться на деталях, упуская при этом целое. Однако, когда Е. Орлов говорит о глубинах души Сократа, он также ошибается. Глубина свойственна интенсивистам, каковым был Платон, а его литературный Сократ, как уже говорилось, представляет собой нереальную смесь интенсивизма и экстенсивизма. Глубина мысли раскрывается лишь в больших и глубоких сочинениях, а Сократ вообще ничего не писал – звучащие у Платона причины этого мы рассмотрим отдельно… Вместе с тем Сократ был созерцателем, а не концентристом. Созерцатели вечно летают в облаках и далеки от практических дел, в которые постоянно погружены концентристы. Проводить время в пустых разговорах – это стезя экстенсивных созерцателей, к которым и принадлежал Сократ. Можно сказать, что и Ксенофонт, и Платон дополняют психотип реального Сократа своим собственным. Все трое: Сократ, Ксенофонт и Платон, были критицистами, и здесь добавлять ничего не нужно. Одновременно Сократ и Ксенофонт были экстенсивистами, а Платон – интенсивистом. Ксенофонт и изображает Сократа экстенсивистом, а Платон прибавляет ему ещё и собственный интенсивизм. В плане же созерцательности и концентричности Сократ с Платоном были созерцателями, а Ксенофонт – концентристом. Смесь экстенсивности и концентричности как раз и рождает наибольшую «умственную близорукость». Таковой обладал Ксенофонт, и таковым у него порой выглядит и Сократ…
О писательских способностях Ксенофонта весьма нелестно отзывается и Теодор Гомперц, заключая следующее:
«В общем можно счесть счастливой и печальной случайностью в литературе, что сочинения храброго солдата, спортсмена, юмориста, ярко изобразившего пережитые приключения на войне и в мирное время, но не глубокомысленного писателя стали для нас источником истории философии» [7, с. 646].
Ксенофонт действительно не был глубокомысленным, однако свидетельства о разных исторических личностях пишут далеко не всегда глубокомысленные люди, а просто те, кто их хорошо знал. В таких свидетельствах всегда можно отыскать очень много полезного, и печалиться здесь не о чем. Ситуация, когда рядом с одним глубокомысленным человеком находится другой такой же, способный первого описать с большой точностью и глубиной, вообще маловероятна…
В качестве аргумента у Гомперца звучит, что если бы Сократ на самом деле был таким, как описан у Ксенофонта, то он «не имел бы успеха у быстро соображающих афинян, он бы наскучил им и оттолкнул от себя» [там же, с. 645]. Но с подавляющим большинством так и было: они приходили послушать Сократа и впоследствии уходили. Сколько прошло людей через беседы Сократа? Он заводил каждый день массу разных разговоров, занимаясь этой деятельностью на протяжении тридцати лет. Это десятки тысяч разговоров. Пусть многие из них были с одними и теми же людьми, но всё равно число людей, прошедших через беседы Сократа тысячи, если не десятки тысяч. А сколько у него верных учеников было? Десяток-другой… Вместе с тем у многих он оставлял крайне негативное впечатление. Скажем, Критий, когда пришёл к власти, даже хотел запретить Сократу вести беседы с молодёжью, считая, что эти беседы наносят им вред. А ведь Критий сам учился у Сократа, и не понаслышке знал, что именно он преподаёт. Другой пример – Ликон, участник диалога «Пир» Ксенофонта, выступал в качестве одного из обвинителей Сократа на суде. Аристофан своё негативное мнение о Сократе составил также отнюдь не на пустом месте – наверняка он общался с людьми, прошедшими через сократовские беседы. И это примеры, которые прошли сквозь две с половиной тысячи лет. А сколько подобных малоизвестных примеров было?.. Лишь небольшому кругу людей беседы Сократа безоговорочно нравились. Для того, чтобы сформировать такой круг, нужен не глубокий ум, а коммуникабельность, которой Сократ обладал с лихвой. Будучи большим любителем поболтать, он и собирал вокруг себя людей. Также он был очень неординарной личностью, его жизненные взгляды сильно отличались от обычного мировоззрения простого обывателя, и эта диковинность тоже наверняка привлекала – тех, кто в обывательском прозябании разочаровался. Ну и, кроме того, Сократ при формировании круга своих учеников использовал ловкий приём «доказательства» человеку, что тот ничего не знает о добродетели, а если хочет знать, пускай следует за ним – об этом подробней будет сказано позднее…
В своих конкретных претензиях Гомперц, по сути, обвиняет Ксенофонта лишь в том, что у него нет того «великого мудреца Сократа», в которого привыкли все верить.
Ох, Ксенофонту здесь досталось:Его и звали простаком,И близоруким мещанином…Ну разве, что не дураком.«Он философию Сократа,Видать, всецело позабыл,Раз на неё свой взгляд глубо́коПочти совсем не обратил…Сократ поверхностно описан!Не смог понять он мудреца…», —Кричат поклонники Сократа,И обвиненьям нет конца…А почва вся у обвинений:Сократ платоновский другой!Но где источник убежденья,Что был Сократ и впрямь такой?Они совсем не допускают,Что дух сократовских бесед:Советы жизни, наставленья,Победой в споре наслажденье…А философии здесь нет.Есть среди аргументов в адрес недоверия написанному Ксенофонту и весьма странные. Вот, скажем, что пишет Грегори Властос:
«…ничто не указывает на близкое знакомство Ксенофонта и Сократа, тогда как Платон, очевидно, был связан с Сократом самыми тесными дружественными узами, когда-либо связывавшими ученика с любимым учителем» [8, с. 138].