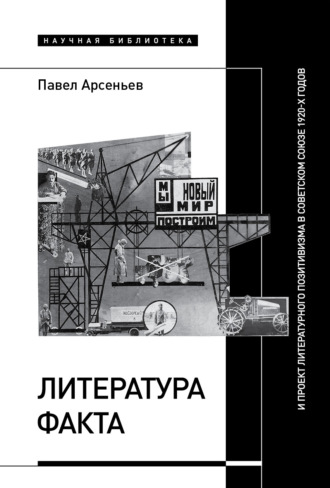
Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов
331
На заседании ИНХУКа 24 ноября 1921 года 25 художников провозгласили свой принципиальный отказ от композиционного формообразования и станковой живописи в пользу конструкции и непосредственного участия художников в промышленном производстве, подписав манифест «производственного искусства». См. подробнее о конструктивно-производственном искусстве: Заламбани М. Искусство в производстве.
332
Третьяков С. Откуда и куда // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 198. Далее страницы приводятся в тексте.
333
См. подробнее раздел I «Революция языка и инструменты социалистической трансляции».
334
Не самым очевидным претекстом может служить статья Винокура «Футуристы – строители языка», вышедшая в том же 1-м выпуске ЛЕФа и, в частности, говорившая о грамматической инженерии футуристов: Винокур Г. Футуристы – строители языка // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 204–213.
335
См. полную аннотированную библиографию поэтических книг Третьякова в: Россомахин А. «Мастер речековки на заводе живой жизни»: поэтические книги Сергея Третьякова // Третьяков С. Итого: собрание стихов и статей о поэзии / Сост., примеч. Д. Карпова. М.: Рутения, 2019. С. 775–784.
336
Дукор И. Сергей Третьяков // Третьяков С. Речевик. Стихи. М.; Л.: ГИЗ, 1929. С. 11–12.
337
См. подробнее о координации между движениями рук и лица как палеонтологической реальности у Леруа-Гурана: Leroi-Gourhan A. Le geste et la parole. T. I.
338
Дукор И. Сергей Третьяков. С. 8. Курсив наш.
339
Напомним, что статья опубликована в том же 1-м выпуске «ЛЕФа», где Винокур публикует статью «Футуристы – строители языка» и также говорит об их языковой инженерии, отказывая при этом в парадигматическом характере «заумному языку».
340
В этом убеждении мы разделяем позицию одного из редких исследований авангарда, ориентированного на материальные практики и процедуры. См.: Ферингер М. Авангард и психотехника.
341
См. подробнее эссе «Трансфер экспериментального метода от Бернара к Золя» в ЛП.
342
Тогда как в случае наук исследование направляющих познание практик уже стало довольно распространенным, литературоведение продолжает понимать материальную практику как нечто дополнительное к сохранившимся текстам, а не центральный элемент теоретических построений (которые, тем самым, включают семиотические и несемиотические элементы). См. одну из первых попыток сборки поля исследования материальности художественной коммуникации: Materialities of Communication / Ed. by H. U. Gumbrecht, K. L. Pfeiffer. Trans. by W. Whobrey. Stanford: Stanford UP, 1994.
343
Цит. по: Ферингер М. Авангард и психотехника. С. 13.
344
Эйхенбаум Б. Творчество Ю. Тынянова // Он же. О прозе: Сб. статей. Л.: Худож. лит., 1969. С. 382.
345
Психофизику делает определяющей для дискурсивной инфраструктуры 1900-х Фридрих Киттлер в цитировавшейся выше книге Kittler F. Discourse Networks 1800–1900. См. подробнее нашу аппликацию его метода к литературе авангарда в разделе «Физиологии языка и дискурсивная инфраструктура авангарда» в ЛП.
346
На психотехнике, в свою очередь, делает акцент и книга: Ферингер М. Авангард и психотехника. См. также в целом о «биологическом уклоне в литературоведении» от русских формалистов до Франко Моретти: Арсеньев П. Видеть за деревьями лес: О дальнем чтении и спекулятивном повороте в литературоведении. С. 16–34.
347
Одной из попыток придать такой ракурс исследованиям авангарда была подготовленная нами (совместно с А. Морар) конференция в Университете Женевы «От вещи к факту: материальные культуры авангарда» / «De la chose au fait: les cultures matérielles de l’avant-garde» (10.05.2019).
348
Kittler F. Zum Geleit. (Vorwort) // Foucault. Botschaften der Macht. Reader Diskurs und Medien / Hg. von J. Engelmann. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1999. S. 7–9; цит. по: Ферингер М. Авангард и психотехника. С. 22.
349
Спикер С. Сталин как медиум. О сублимации и десублимации медиа в сталинскую эпоху // Советская власть и медиа. С. 51–58.
350
«Кто знает читателя, тот ничего не делает для читателя. Еще одно столетие читателей – и дух сам будет смердеть. То, что каждый имеет право учиться читать, портит надолго не только писание, но и мысль» (Ницше Ф. О чтении и письме. (Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого) / Пер. с нем. Ю. Антоновского // Он же. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 29).
351
Как показывает Женетт, для Аристотеля повествование (диегезис) представляет собой одну из двух модальностей поэтического подражания (мимезис), тогда как вторая модальность состоит в прямом изображении событий актерами, которые говорят и совершают поступки перед публикой. Тем самым обосновывается классическое разграничение повествовательной и драматической поэзии. См. подробнее: Женетт Ж. Границы повествовательности. (Фигуры II) / Пер. с франц. С. Зенкина // Он же. Фигуры: В 2 т. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. Т. 1. С. 284.
352
В данном случае, как и выше, мы пользуемся понятиями Чарльза Пирса. См. обзор семиотики Пирса, к примеру: Кирющенко В. Язык и знак в прагматизме.
353
Под квазииндексальностью в данном контексте мы подразумеваем включение реальных физических следов, которые, конечно же, все равно оказываются знаками в рамках театральной конвенции (что и позволяет говорить в следующей главе о «постановке индексальности»), но знаками не иконического, а именно индексального типа, то есть физически (акустически, ольфакторно, etc.) связанными с обозначаемым ими: звук сирены, запах газа. Это применение классификации Пирса к театру в любом случае продолжает оставаться проблематичным, однако позволяет уловить общую тенденцию авангарда, сдвигающего характер знака от конвенционального к мотивированному физическими процессами.
354
В 1960-е годы Кристиан Метц предложит теорию кино как психосоциального аппарата воздействия, основанного на неподвижности зрителя в темном помещении и преобладании регредиентных процессов. См.: Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино / Пер. с франц. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: ЕУСПб, 2010; а также: Арсеньев П. Вообразить означающее // Новое литературное обозрение. 2011. № 109. С. 108–117.
355
В театре Мейерхольда: «Земля дыбом» (1923, адаптация М. Мартине «Ночь»), «Рычи, Китай» (1925) и репетировавшаяся, но так и не поставленная «Хочу ребенка!» (1926). В театре Пролеткульта с Эйзенштейном: «Мудрец» (адаптация Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», 1923), «Слышишь, Москва?» (1923) и «Противогазы» (1924).
356
См. об этом подробнее: Eaton K. The Theater of Meyerhold and Brecht. Westport: Greenwood, 1985.
357
Третьяков адаптирует пьесу Марселя Мартинэ «Ночь», переведенную на русский С. Городецким. По свидетельству А. Февральского, «пьеса представляла интерес как материал для создания революционного спектакля, но ее мрачный колорит и слабое построение действия расхолаживали и Мейерхольда и коллектив. По предложению Мейерхольда Третьяков взялся за переработку пьесы. Решено было положить в основу спектакля принцип агитплаката» (Февральский А. С. М. Третьяков в театре Мейерхольда // Третьяков С. Слышишь, Москва? М.: Искусство, 1966. С. 189).
358
По мнению Эдварда Брауна, экран выполнял формально-техническую функцию передних кулис, намного эффективнее и энергичнее отделяя эпизоды (см.: Braun E. Meyerhold on Theater. New York: Hill and Wang, 1969. P. 188).
359
Ее свойства в одноименной статье очертил Винокур: «Вне этой фразеологии нельзя было мыслить революционно или о революции. Сдвиг фразеологический – соответствовал сдвигу политическому. Здесь были найдены нужные слова – „простые как мычание“, – переход от восприятия которых к действию не осложнялся никакими побочными ассоциациями: прочел – и действуй!» (Винокур Г. О революционной фразеологии (один из вопросов языковой политики) // ЛЕФ. 1923. № 2. С. 110). См. наш подробный анализ этой статьи в главе «„Язык нашей газеты“: лингвистический Октябрь и механизация грамматики».
360
«Гертруда Стайн поступила в Радклиф… Она входила в компанию гарвардских мужчин и радклифских женщин, которые жили в очень тесном и интересном общении. Один из них, молодой философ и математик, занимавшийся психологическими исследованиями, оставил заметный след в ее жизни. Под руководством Мюнстерберга они вместе разработали ряд экспериментов по автоматическому письму. Результаты собственных экспериментов Гертруды Стайн, которые она записала и которые напечатали в Гарвардском психологическом журнале, были первым ее напечатанным сочинением. Его очень интересно читать, потому что там уже виден метод письма, который будет позднее развит в Трех жизнях и Становлении американцев» (Стайн Г. Автобиография Алисы Б. Токлас / Пер. с англ. И. А. Ниновой. СПб.: Ина-Пресс, 2000. С. 115). См. подробнее об этих экспериментах: Арсеньев П. От «духовного инструмента» к «некоему двигающемуся зрительному аппарату».
361
После опытов на лягушках в лаборатории Бернара Сеченов, считающийся основателем русской физиологии, экспериментирует с физиологией восприятия в лаборатории Гельмгольца. Подробнее об этом мы говорим в заключении к эссе «Заумь как реакция на кризис позитивизма» в ЛП. Ученики Сеченова – психофизиологи Павлов и Бехтерев – уже находятся в непосредственном контакте с советским авангардом и психотехникой. См. об этом подробнее главу: «„Механика головного мозга“ Всеволода Пудовкина: кино как рефлексология» в книге: Ферингер М. Авангард и психотехника. С. 138–215.
362
Окончательно внимание будет перенесено с героя на «производственные процессы» в теории «биографии вещи». См. ее анализ в нашем эссе: Арсеньев П. Би(бли)ография вещи: литература на поперечном сечении социотехнического конвейера // Он же. Литература факта высказывания: Очерки по прагматике и материальной истории литературы. СПб.: Транслит, 2019. С. 36–44.
363
Третьяков С. «Земля дыбом». Текст и речемонтаж // Зрелища. 1923. № 27. С. 6–7; цит. по: Февральский А. С. М. Третьяков в театре Мейерхольда. С. 190–191 (курсив наш).
364
Нечто подобное предлагает уже Винокур, говоря о языковой инженерии, заключающейся не в создании новых диковинных слов, но в изобретении грамматических связей между элементами. См. подробнее главу «„Язык нашей газеты“: лингвистический Октябрь и механизация грамматики». Овнешняя языковое изобретение, Винокур, однако, еще остается в области чисто языковой инженерии (хотя и подходит к обсуждению материальности газеты, определяющей механизацию грамматики), тогда как Третьяков заводит речь о психоинженерии в театре.
365
Февральский А. С. М. Третьяков в театре Мейерхольда. С. 191–192 (курсив наш). В ходе разработки положений биомеханики Мейерхольд с Третьяковым вместе ведут в мастерской курс «слово-движение», а когда мастерская преобразуется в Государственные экспериментальные театральные мастерские имени Вс. Мейерхольда, Третьяков будет читать курс «Речестройка, интонация, поэтика» (Там же. С. 195).
366
В том же году Третьяков посвящает большую статью Крученых, «добросовестно избегавшему сюжета и всякого рода литературности и идейности в своей работе», чьи приемы он применяет в речевом монтаже для постановок Мейерхольда. См.: Третьяков С. Бука русской литературы. С. 7.
367
Отметим, что Станиславский, противопоставляя свой метод театру Мейерхольда, тоже называет его по фразеологической моде того времени «психотехникой», но понимает он под этим «технику» внутреннего переживания, технику эмоций, а не телесных рефлексов. Из-за этой «занятости» термина Мейерхольду и придется дать своему методу актерской игры название биомеханики как принципиально овнешненной и телесно-физиологической. См. подробнее о различии методов двух режиссеров: Аронсон О. Театр и аффект. Биомеханика Мейерхольда vs психотехника Станиславского // Советская власть и медиа. С. 296–305. При этом и сам основатель научной психотехники Гуго Мюнстербергер отрицал существование психики как нематериального феномена и, чтобы разграничиться, в свою очередь, с другим активным преобразователем психологии тех лет, провозглашал: «О подсознании можно рассказать в трех словах: оно не существует» (цит. по: Ферингер М. Авангард и психотехника. С. 87).
368
В терминах философии языка и сознания, к которым мы регулярно обращаемся, наряду с таким революционным «сенсуализмом» задействовались и ресурсы философии здравого смысла / прямого реализма, которая в конечном счете и приведет к зарождению теории дейксиса, имени собственного и т. д.
369
Отчасти по этой модели функционирует «миф» у Барта: вещи существуют сами по себе, но позволяют паразитировать на себе некой коннотации/идеологии. См.: Барт Р. Миф слева // Он же. Мифологии. См. также его статьи о функционированни знака в театре Брехта: Барт Р. Работы о театре. М.: Ad Marginem, 2013.
370
Первая публикация: Третьяков С. Противогазы: Мелодрама в 3-х действиях // ЛЕФ. 1923. № 4. С. 89–108.
371
Эйзенштейн работает с 1922 года в 1 Рабочем театре Пролеткульта, а значит, такой перенос театрального действия на производство несомненно вдохновляется принципами построения новой пролетарской культуры, которые, с одной стороны, шире и более размыты в сравнении с теоретической платформой ЛЕФовского агиттеатра, а с другой, переплетаются до неразличимости с другими дореволюционными экспериментами по реформированию театра. См. подробнее о сложной композиции движений за народный театр (Горький – Луначарский), театр массовых действий (Евреинов), театр, развернутый в повседневности (Керженцев), и, наконец, передвижной театр коммунизма (Гайдебуров) в соответствующих главах книги: Кларк К. Петербург, горнило культурной революции.
372
Ростоцкий Б. Драматург-агитатор // Третьяков С. Слышишь, Москва? М.: Искусство, 1966. С. 221.
373
Аналогичный профессиональный синдром дал о себе знать в апокрифе, согласно которому на похоронах Малевича в 1935 году Татлин, глядя на художника в специально спроектированном учениками супрематическом гробу, сказал: «Притворяется!»
374
Не был ли интерес производственного искусства к театру обусловлен тем, что в отличие от литературного жанра пьесы, которая может быть сочинена индивидуальным автором, театральная постановка является именно производством (особенно в европейских языках: theater production)?
375
Всего за пару месяцев до этого в день празднования Октябрьской революции 1923 года в Москве (а впервые в 1922 в Баку) была сыграна «Симфония гудков» Арсения Авраамова, состоявшая целиком из пушечных и пистолетных выстрелов, заводских гудков, свиста пара, шума самолетов и других «машинных» звуков.
376
Эйзенштейн С. Средняя из трех // Он же. Избр. произведения: В 6 т. М.: Искусство, 1963. Т. 5. С. 53–78.
377
Схожим образом уже в первой адаптации Третьякова для Эйзенштейна («Мудрец») изобилие акробатических трюков вызывало у зрителей тревогу за реальный физический риск, входящий в игру актеров, но еще не угрожающий самим физически присутствующим зрителям. См. подробнее: Kolchevska N. From Agitation to Factography: The Plays of Sergej Tret’jakov // The Slavic and East European Journal. 1987. № 3. P. 388–403.
378
Так, по свидетельству актера Максима Штрауха, «для публики было невыносимо чувствовать запах газа, к которому она не была привычна» (Туровская М., Медведев Б. Максим Максимович Штраух. М.: Искусство, 1975. С. 50).
379
Так акценты расставляются, к примеру, в статье: Oliver D. Theatre without the Theatre: Proletcult at the Gas Factory // Canadian Slavonic Papers – Revue Canadienne des Slavistes. 1994. № 3–4. P. 303.
380
Здесь нельзя не упомянуть о более раннем и масштабном «драматургическом эксперименте» Николая Евреинова, который представлял собой не что иное, как повторное взятие Зимнего дворца в третью годовщину революции в октябре 1920 года, то есть разыгрывал первосцену учреждения советской власти с реальными участниками революционных событий и вместе с тем не слишком искушенными ценителями театра, что и делало этот театр массовых действий – на Дворцовой площади и с участием крейсера «Аврора» – не менее реальным, чем события трехлетней давности. Аналогичным образом к десятилетней годовщине революции будет снят «Октябрь» Эйзенштейна, который признает влияние Евреинова на свой метод. См. подробнее: Чубаров И. «Театрализация жизни» как стратегия политизации искусства. Повторное взятие Зимнего дворца под руководством Н. Н. Евреинова (1920 год) // Советская власть и медиа. С. 281–295.
381
Третьяков С. По поводу «Противогазов» // ЛЕФ. 1923. № 4. С. 108.
382
Дебре Р. Введение в медиологию / Пер. с франц. Б. Скуратова. М.: Праксис, 2010.
383
Так, по мнению Бухло, Родченко уже в начале 1920-х «инкорпорирует технические средства конструкции в само произведение и связывает их с существующими стандартами развития средств общественного производства в целом» (Buchloh B. From Faktura to Factography. С. 89; перевод и курсив наши). Как и Дюшан чуть раньше, Родченко отказывается от традиционных инструментов живописи и стремится механизировать ее «ремесло», но если Дюшан исходит в своем отказе из языка («серого вещества»), то конструктивисты-производственники – из индустриальной техники.
384
Все оригинальные пьесы Третьякова основывались на документальном материале, имевшем источником газету, но «Противогазы» в дополнение к этому еще делали главным героем рабкора. В 1922 году рабочий корреспондент Спиридонов подвергся нападению других рабочих фабрики за серию заметок в «Правде», которые привели к исключению директора из партии. Именно после этого случая, по мнению историка Д. Кенкер, не только справедливость была восстановлена, но и роль рабкоров оказалась в центре общественного внимания. См.: Koenker D. Factory Tales: Narratives of Industrial Relations in the Transition to Nep // The Russian Review. 1996. № 3. P. 384–411.
385
Это совмещение ролей зрителя и героя предвосхищает уже петлю обратной связи в оперативном очеркизме Третьякова. См. подробнее об этой технике в главе «Наука труда: Техника наблюдателя и политика участия».
386
См. подробный обзор реакций современников – от зарубежных театральных критиков до рабочих корреспондентов – на спектакль: Oliver D. Theatre without the Theatre: Proletcult at the Gas Factory. P. 314. Как подчеркивает исследовательница, ни одна из этих реакций не содержит критики в адрес соотношения заводского интерьера и театральной фикции, которую высказывает в своих воспоминаниях Эйзенштейн и в дальнейшем цитируют все его биографии и историки театра и кино. Не театр терял смысл и выглядел абсурдно на фоне машин, а только режиссер с мегафоном (как и отмечает один из рецензентов). Эйзенштейн сбегает в кино не как в более современный медиум, а как в пространство, допускающее больше формальных трюков.
387
Это означает, что в центре пьесы не только производственная, но и – переплетенная с ней – семейная драма: беременная главная героиня отказывается дать будущему ребенку человеческое имя и признается, что назовет его Противогаз – в память о производственной трагедии… и, выходит, о самой пьесе Третьякова. Это необычное даже для революционной эпохи имя можно рассматривать в качестве первого указания на будущий интерес Третьякова к «биографии вещи». См. подробнее: Арсеньев П. Би(бли)ография вещи. С. 36–44.
388
«Хочу ребенка!» К постановке Театра имени Мейерхольда. (Беседа с автором пьесы С. М. Третьяковым) // Программы государственных академических театров. 1927. № 4. С. 12; курсив наш.
389
Эта формулировка принадлежит пролеткультовскому теоретику Керженцеву, полагавшему, что театр вырастает из самой преображенной революцией жизни и отменяет необходимость становления профессиональным актером (см.: Керженцев П. Творческий театр. М.: ВЦИК, 1919. С. 38). См. подробнее о различных моделях революционного театра главу «Театр и революция в первые годы Республики Советов» (с. 154–187) в книге: Кларк К. Петербург, горнило культурной революции.
390
Доклад Мейерхольда 15 декабря 1928 года в Главреперткоме; цит. по: Февральский А. С. М. Третьяков в театре Мейерхольда. С. 201.
391
Лисицкий был выбран неслучайно, поскольку этот проект он реализовывал в своей собственной конструктивной практике. Так, в 1926 году в Дрездене он создает экспозиционное пространство, в котором «зритель больше не должен быть убаюкиваем живописью до пассивности. Наша установка сделает его активным <…> Зритель физически вовлекается во взаимодействие с представленными объектами» (Lisitsky E. Demonstrationsraüme. Dresden: VEB-Verlag der Kunst, 1967. S. 362). Как художники, так и литераторы с режиссерами ЛЕФа стремились заполнить разрыв между искусством и массами, который породила буржуазная традиция. Кризис репрезентации был одновременно кризисом отношений с аудиторией, на который парижский авангард отвечал утверждением уникального статуса авангардного объекта, тогда как советские и немецкие авторы разрабатывали различные стратегии преодоления исторических ограничений модернизма. См. подробнее об этом: Buchloh B. From Faktura to Factography.
392
Цит. по: Kolchevska N. From Agitation to Factography: The Plays of Sergej Tret’jakov. P. 397.
393
Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М.: Наука, 1969. С. 395; курсив наш. Ср. решение, предложенное в той же самой «здоровой общественной дискуссии» Андреем Платоновым в рассказе «Анти-сексус».
394
Цит. по: Февральский А. С. М. Третьяков в театре Мейерхольда. С. 198.
395
В 1926 году журнал «Гигиена и здоровье рабочей и крестьянской семьи» объявляет конкурс «Здоровый ребенок», а осенью того же года разворачивается суд над коллективным изнасилованием (т. наз. Чубаровское дело). См. подробнее: Kiaer С. Imagine No Posessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism. Cambridge: MIT Press, 2005. P. 255–258, а также главу 7 в книге: Naiman E. Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology. Princeton: Princeton UP, 1997.
396
Там же Третьяков уточняет задуманный им социальный эффект постановки: «Я не большой поклонник пьес, которые заканчивают свое драматургическое развертывание некоей одобренной сентенцией, уравновешивающей борьбу, происходящую на сцене. Интрига провернута, преподнесен вывод, и зритель может спокойно идти надевать калоши. Я считаю более ценными те пьесы, реализационная часть которых возникает в зрительской гуще, за пределами театрального зала. Не пьеса, замыкающаяся в эстетическое кольцо, но пьеса, начинающаяся на эстетическом трамплине сцены и развертывающаяся в спираль, завитки которой уходят в зрительские споры, в зрительскую внетеатральную практику» (С. М. Третьяков // Рабис. 1929. № 11. С. 7).
397
Доклад Мейерхольда 15 декабря 1928 года в Главреперткоме; цит. по: Февральский А. С. М. Третьяков в театре Мейерхольда. С. 201.


