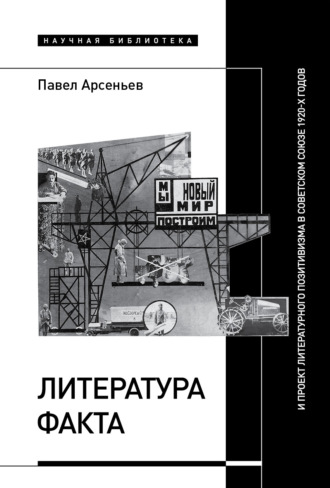
Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов
247
Барр А. Московский дневник [1928] / Пер. с англ. А. Новоженовой // Открытая левая // [URL]: http://openleft.ru/?p=2437 (дата обращения: 10.01.2021).
248
Единственным свидетельством о знакомстве Барра с программой производственного искусства – кроме его дневника, который был впервые опубликован только полвека спустя в американском журнале, названном в честь Октябрьской революции (Barr A. Russian Diary, 1927–1928 // October, № 7 (Winter 1978). P. 10–51), – стала его заметка «The Lef and the Soviet Art» в Transition, в которой он пишет почти восторженно: «The Lef is more than a symptom, more than an expression of a fresh culture or of post-revolutionary man; it is a courageous attempt to give to art an important social function in a world where from one point of view it has been prostituted for five centuries» (Barr A. The Lef and Soviet Art // Transition. № 14 (Fall 1928). P. 267–270).
249
Арватов Б. Искусство и производство. С. 43.
250
Buchloh B. From Faktura to Factography // October. № 30 (Autumn, 1984). P. 82–119.
251
Первые наброски «теории фактуры» за авторством Бурлюка появляются уже в «Пощечине общественному вкусу». Подробнее о раннем этапе дискуссии об этом понятии, определяющем дальнейшее развитие русского авангарда, см.: Podzemskaia N. La notion de faktura dans les arts visuels en Russie, années 1910–1920. Au croisement des approches formalistes et phénoménologiques // Communications. 2018. № 2 (Le formalisme russe cent ans après). P. 131–146.
252
Buchloh B. From Faktura to Factography. P. 86, перевод наш.
253
См.: Якобсон Р. Футуризм // Искусство. № 7. 1919. 2 августа.
254
См.: Jakobson R., Pomorska K. Dialogues / Trad. M. Fretz. Paris: Flammarion, 1980. P. 124–125.
255
См.: Степанова В. Человек не может жить без чуда. Письма. Поэтические опыты. Записки художницы. М.: Сфера, 1994. С. 148.
256
К примеру, Шкловский в 1920 году утверждает, что «фактура – главное отличие того особого мира специально построенных вещей, совокупность которых мы привыкли называть искусством», противопоставляя на этом основании все еще слишком трансцендентальный живописный символизм супрематистов – установке на фактуру и следующему из этого уходу из живописи и построение «вещей быта» и «нового осязаемого мира» у Татлина и его учеников (Шкловский В. О фактуре и контррельефах // Он же. Гамбургский счет. Статьи, воспоминания, эссе (1914–1933). М.: Сов. писатель, 1990. С. 99, 100).
257
См.: Крученых A. К истории русского футуризма: Воспоминания и документы / Вступ. ст., подгот. текста и комм. Н. Гурьяновой. М.: Гилея, 2006. С. 298–300.
258
Buchloh B. From Faktura to Factography. P. 87. Наконец, критик называет положения производственного искусства параллельными открытиям в структурной лингвистике Московского лингвистического кружка (1915) и ОПОЯЗа в Петербурге (1916) (Ibid.).
259
Бухло анализирует в своей статье только художественную практику Родченко и Лисицкого, а точнее, соответствующий переход в ней от фактуры к фотомонтажу, аналогичный интересующему нас переходу от зауми к фактографии, однако и в замечаниях о визуальном искусстве мы находим немало важных для нас наблюдений о «сведении процесса репрезентации к чисто индексальным знакам, в которых материя производит следы непосредственно (старая позитивистская мечта, разделяемая, разумеется, и ранними фотографами)» (Buchloh B. From Faktura to Factography. P. 90; перевод наш).
260
Так, с одной стороны, Кандинский, рассчитывая сблизить историю искусства уже не только с психологией и немецкой наукой о восприятии, но и с так называемыми позитивными науками, привлек в ИНХУК физика Николая Успенского, химика Петра Лазарева и кристаллографа Георгия Вульфа. С другой стороны, его оппоненты, которые вскоре образуют ядро конструктивизма, считают, что теория искусства должна быть вообще освобождена «от всякой философской базы, рассматривая теорию искусства как частную, точную дисциплину» (Тарабукин Н. Опыт теории живописи. М.: Пролеткульт, 1923; цит. по: НЭБ // [URL]: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_006735011/ (дата обращения: 10.01.2021)). Такой метод Тарабукин определяет как формально-производственный.
261
См. подробнее об этом синтезе научного позитивизма с марксистской теорией и практикой в эссе «Неотправленное письмо и несколько способов перелить кровь» в ЛП.
262
Как это подчеркивает представитель совсем другого лагеря: Медведев П. Формальный метод в литературоведении (Критическое введение в социологическую поэтику). Л.: Прибой, 1928. С. 15.
263
См. подробный анализ эволюции взглядов Винокура от «строительства языка» футуристами до «языка нашей газеты» в главе «„Язык нашей газеты“: лингвистический Октябрь и механизация грамматики». Обращаясь к хорошо известной интриге перехода русской литературы и общественной мысли от богоискательства (Серебряный век) к богостроительству (Богданов, Луначарский и другие), а также пересекающейся (но не совпадающей) с ней историей отказа авангардной поэзией от репрезентации в пользу словотворчества (в диапазоне от отдельных окказионализмов до абсолютной нетранзитивности зауми), мы предлагаем термин словостроительство для периода позднейшей эволюции авангарда в ходе индустриализации и перестройки быта, обозначающий схожие процессы в области языкового производства.
264
Пролеткульту приходится «в основу творчества класть мысль» и стремиться установить культурный патронаж над «быть может не установившейся еще психологией товарища» (Плетнев В. О профессионализме // Пролетарская культура. 1919. № 7/8. С. 34), тогда как (Новый) ЛЕФ оказывается безоговорочно современным дискурсивной инфраструктуре 1900-х. Теоретики Пролеткульта, как правило, не учитывают того простого технологического обстоятельства, что поход в кино, как и работа на фордистском производстве, «устанавливает сознание» значительно эффективнее «светящих идеалов».
265
Такую периодизацию предлагает Папазян в уже упоминавшейся книге (Papazian E. Manufacturing Truth). Дэвин Фор, напротив, называет режим оперативной интервенции общей моделью зрелого Третьякова. См.: Fore D. The Operative Word in Soviet Factography // October. Vol. 118 (Fall 2006). P. 95–131.
266
Тарабукин Н. От мольберта к машине. М., 1923. См. также: Арватов Б. Искусство и производство, а об истории производственного движения: Заламбани М. Искусство в производстве: Авангард и революция и Советской России 20-х годов / Пер. с итал. Н. Кардановой. М.: ИМЛИ РАН, 2003.
267
Эти планы разводит в своей теории Питер Бюргер, см.: Бюргер П. Теория авангарда.
268
Эйхенбаум Б. Литературный быт // Эйхенбаум Б. О литературе. С. 428–436.
269
Шкловский В. О писателе // Новый ЛЕФ. 1927. № 1. С. 29–33. Позднее в сборнике материалов работников ЛЕФа (1929) текст получит названия «О писателе и производстве». См.: Литература факта. С. 194–199.
270
Указанная неопределенность формулировки Эйхенбаума («заменяется или осложняется»), а также парадоксальная нумерация профессий у Шкловского (важность «второй» делает ее первой) может быть рассмотрены в контексте понятия «восполнение» (supplément) у Деррида, называющего так способ достраивания целого в культуре и указания на недостаток чего-либо. См. подробнее: Derrida J. De la grammatologie. Paris: Editions de Minuit, 1967.
271
Шкловский В. О писателе. С. 29.
272
К моменту появления манифеста «Воскрешение слова» в России существовало 284 реальных училища, в которых обучались порядка 80 тысяч человек. В одном из таких, к примеру, учился Евгений Шварц. См.: Начальное, среднее общее и специальное образование. Россия, 1913 год: Статистико-документальный справочник [1995] // Исторические материалы // [URL]: http://istmat.info/node/238 (дата обращения: 10.01.2021).
273
См. подробнее раздел «Натуральная школа и неправильный перевод с немецкого» в ЛП.
274
В немецких Realschule, чья модель распространялась на Польшу и Прибалтику, к этой программе еще добавлялась математика. Арватов окончил гимназию в Риге и получил техническое образование математика. См. об этом: Kiaer С. Boris Arvatov’s Socialist Objects. P. 113.
275
Рудаков В. Реальные училища // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 т. СПб.: Тип. Акционерного общества «Издательское дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», 1899. Т. 26. С. 410.
276
Тургенев И. Отцы и дети. Глава VI // Интернет-библиотека Алексея Комарова // [URL]: https://ilibrary.ru/text/96/p.6/index.html (дата обращения: 10.01.2021).
277
И, как будет показано ниже, само новолефовское понятие факта имело этот же гибридный характер.
278
Шкловский В. О писателе. С. 30.
279
См. подробнее об этом повороте наш анализ «Рассказчика» Беньямина в предыдущем разделе.
280
Маяковский В. Хорошо! С. 235–328.
281
Кушнер Б. Божественное произведение // Искусство коммуны. 1919. № 9. С. 1.
282
Арватов Б. Быт и культура вещи // Альманах Пролеткульта. М.: Всероссийский Пролеткульт, 1925. С. 75–82. Далее страницы приводятся в тексте.
283
«<…> люди больше не ткут и не прядут, слушая истории… Там где он <человек> охвачен ритмом труда, он прислушивается к историям, и дар рассказывания сам дается ему в руки» (Беньямин В. Рассказчик. С. 394).
284
Речь только однажды заходит об «эстетической анархии», при которой «организация вещей в буржуазном быту не выходит за пределы перестановки вещей». Как известно, анартист Марсель Дюшан сводил с ума художественную публику именно постоянной перестановкой вещей, их переносом из бытового контекста буржуазии в ее же музейную среду. Но Арватов хотел большего, а именно «вещь, как дополнение физиологически-трудовых приспособлений организма» – то, что сумеет реализовать только science-art.
285
См. подробный разбор этой пары понятий: Зенкин С. Открытие быта русскими формалистами // Лотмановский сборник. Вып. 3. М., 2004. С. 806–821.
286
Об этом можно найти заметку в 3-м выпуске ЛЕФа: «в качестве врача, наблюдавшего тов. Арватова и лично свезшего его в „сумасшедший дом“, считаю необходимым <…> дать несколько разъяснений: Обострение нервной болезни тов. Арватова не связано с его научной работой, а целиком вытекает из сложного клубка его личных переживаний, особенно сгустившихся за последнее время, что и повлекло к острому нервному взрыву. Нервная болезнь эта не угрожает ни в малейшей степени распадом умственных способностей тов. Арватова, не является она и следствием такого распада или иного качественного изменения интеллекта. Лучшее доказательство этому – коллективное решение врачей санатории, в которой лечится тов. Арватов, предоставить ему возможность научной работы даже и сейчас (в стенах санатория), как полезного отвлекающего и организующего средства, обезвреживающее его тяжелое эмоциональное состояние. С коммунистическим приветом А. Залкинд» (ЛЕФ. 1923. № 3. С. 40).
287
Мы не можем позволить себе даже на пару абзацев отвлечься на эту важнейшую для послевоенной культурной критики работу и потому вынуждены ограничиться лишь указанием на объединяющее ее с Арватовым центральное положение фразеологии производительных «машин желания», с помощью которой пересматриваются многие положения как марксизма, так и фрейдизма. См.: Deleuze G., Guattari F. Capitalisme et schizophrénie. Tome 1: L’ Anti-Œdipe. Paris: Minuit, 1972.
288
«Функция мифа – удалять реальность, вещи в нем буквально обескровливаются, постоянно истекая бесследно улетучивающейся реальностью» (Барт Р. Мифологии / Пер. с франц. С. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2004. С. 270). Несложно увидеть в этом переиздании судьбы вещи в русском формализме, а Ф. Досс и прямо называет семиотическую программу «Мифологий» созданной на основе формализма (см.: Dosse F. History of Structuralism. Vol. I: The Rising Sign, 1945–1966. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. P. 74–77).
289
См. подробнее методологическую реконструкцию Арсеньев П. Техноформализм, или Развинчивая русскую теорию с Латуром. С. 166–192.
290
Первым ввел в оборот термин «техническая интеллигенция» опять же Богданов (см.: Богданов А. Философия современного естествоиспытателя // Очерки философии коллективизма. Сб. 1. СПб.: Знание, 1909. С. 37–142)
291
Особенно непривычно, что материальность теперь охватывает и категорию техники, столь важной для формально-производственной платформы: «На первое место выступает общественное сознание, материальная же культура оставляется в стороне. В крайнем случае, подвергают анализу техническую систему <…> понятие „материальная культура“, включающее в себя всю техническую продукцию, ее распределение и потребление, значительно шире, чем понятие „техника“» (75).
292
Шкловский В. Стандартные картины и ленинская пропорция // Советский экран. 1928. № 41. Ср. также фильм Льва Кулешова «Журналистка (Ваша знакомая)» (1927), который построен на неумелом обращении героини с вещами, а также связан с топосом «восстания вещей», который уже обсуждался в эссе «Делание вещи: от воскрешения к восстанию» в ЛП.
293
«Орудие не только продолжает руку человека, но и само продолжается в нем» (Шкловский В. Zoo, или Письма не о любви // Он же. Жили-были. М.: Сов. писатель, 1966. С. 175–176).
294
Аналогичным образом «следы рассказчика ощутимы в повествовании так же, как виден след руки горшечника на глиняной чашке» (Беньямин В. Рассказчик. С. 395).
295
Чем дальше, тем больше Арватов с Лефом уходят от романтизации пролетариата и склоняются к технически осведомленному пользователю (но не владельцу!) вещами, даже подразумевают идентификацию с научно-технической интеллигенцией – группой буржуазного общества, наиболее близкой социалистической культуре вещи. Об истории отношения русской интеллигенции к научности философии см.: Стейла Д. Наука и революция; а к западной технической интеллигенции – см.: Gassner H. The Constructivists: Modernism on the Way to Modernization // The Great Uptopia: The Russian and Soviet Avant-Garde, 1915–1932. New York, 1992. P. 306.
296
Гоголь Н. Записки сумасшедшего [1835] // Библиотека Максима Мошкова // [URL]: http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0130.shtml (дата обращения: 10.01.2021). См. подробнее о производственной драме и физиологии письма Поприщина в эссе «Наука и техника литературного позитивизма: физиология очерка» в ЛП.
297
Так, «необыкновенная нежность и непрочность луны» объясняется тем, что она «обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается» (Гоголь Н. Записки сумасшедшего).
298
«Этот дом я знаю, – сказал я сам себе. – <…> Эка машина» (там же).
299
В Театре Мейерхольда: «Земля дыбом» (1923, адаптация М. Мартине «Ночь»), «Рычи, Китай» (1925) и репетировавшаяся, но так и не поставленная «Хочу ребенка!» (1926). В Театре Пролеткульта с Эйзенштейном: «Мудрец» (адаптация Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», 1923), «Слышишь, Москва?» (1923) и «Противогазы» (1924).
300
Хотя спектакли по его пьесам – как, например, «Рычи, Китай!» – продолжают идти, а пьесы переводиться на множество языков, равно как и продолжают выходить поэтические сборники.
301
Мы начинаем использовать здесь понятие из семиологии Пирса, поскольку терминологический аппарат Соссюра и русского формализма оказывается уже недостаточным в ситуации новых медиатехнических условий и массового производства. Так, по мнению Папазян, Третьяков стремился к преодолению разрыва между означаемым и означающим и демедиализации опыта (Papazian E. Manufacturing Truth. P. 26), как бы забывая о различии между порядком вещей и порядком знаков, что можно адресовать и производственному искусству в целом. На деле же, как будет показано, новые медиатехники записи и трансляции вводили в оборот такой тип знака, который больше не являлся ни чисто лингвистическим (символом), ни чисто фигуративным изображением (иконой), но оказывался связан со своим референтом индексально. См. обзор семиотики Пирса, к примеру: Кирющенко В. Язык и знак в прагматизме. СПб.: ЕУСПб, 2008.
302
Третьяков С. Откуда и куда? (Перспективы футуризма) // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 198–199; курсив наш.
303
Статья Ю. Тынянова «Литературный факт» будет написана годом позже, но в логике формализма любое смещение – например в пользу агитационного или документального материала – всегда понимается как существующее только в рамках перегруппировки жанровой системы или даже сознательной литературной стратегии. Так, в рецензии на поэму Маяковского «Про это» Тынянов как раз в 1923 году пишет: «Его рекламы для Моссельпрома, лукаво мотивированные, как участие в производстве, это отход за подкреплением. Когда канон начинает угнетать поэта, поэт бежит со своим мастерством в быт» (Русский современник. 1923. № 4; цит. по: Тынянов Ю. Промежуток // Он же. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 178).
304
Крученых А., Хлебников В. Слово как таковое. С. 26. Об индексальном характере заумного слова как эмуляции звукозаписывающей техники см. подробнее в эссе «Не из слов, а из звуков: заумь и фонограф» в ЛП.
305
Мы понимаем жанр вслед за Фредериком Джеймисоном как «литературную институцию или социальный контракт между автором и конкретной аудиторией, чьей функцией является правильное использование культурных артефактов» (Jameson F. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Cornell UP, 1981. P. 106; перевод наш). Определение американского марксиста нам кажется удачнее даваемого Тыняновым как минимум тем, что в нем динамика перегруппировки жанровой системы, приводящая фактуальные жанры с периферии в центр во второй половине 1920-х, заземляется на социальный субстрат. В дальнейшем рассуждении мы будем также стремиться показать, что жанр всегда связан с определенной медиатехнической конвенцией. Наконец, с Джеймисоном Третьякова объединяет и понимание, что «идеология не в материале, которым пользуется искусство. Идеология в приемах обработки этого материала, идеология в форме» (см.: Третьяков С. С Новым годом! С Новым ЛЕФом! // Новый ЛЕФ. 1928. № 1. С. 1, а также Jameson F. Marxism and Form: Twentieth Century Dialectical Theories of Literature. Princeton: Princeton UP, 1971).
306
Маяковский В. Как делать стихи [1926] // Он же. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Гослитиздат, 1959. Т. 12. С. 84.
307
Шкловский В. Воскрешение слова. С. 40.
308
См. подробнее: Vitz P., Glimcher A. Modern Art and Modern Science, а также эссе «Как возможна смежая история литературы и науки» в ЛП.
309
Шкловский В. Искусство как прием. С. 63. В пределах этой формулировки еще смешиваются мотивы гештальт-психологии (форма) и психофизиологии (воспринимательный процесс). См. подробнее об укорененности формальной поэтики в дискурсе немецкой науки о восприятии: Светликова И. Истоки русского формализма.
310
Или, в терминах эпохи, «критик [Чуковский] решил подойти по содержанию туда, где единственным содержанием была форма, и не учуял большой остроты фонетического восприятия» (Третьяков С. Бука русской литературы // Бука русской литературы. М.: ЦИТ, 1923. С. 4).
311
См. анализировавшиеся выше «Очерки о лингвистической технологии» в главе «„Язык нашей газеты“: лингвистический Октябрь и механизация грамматики».
312
См. о камне и архитектуре как операторах акмеистского воображения, разделяемого отчасти ранним Шкловским, в эссе «Делание вещи: от воскрешения к восстанию» в ЛП.
313
Маркс говорит об архитектуре человека как принципиально причастной плану, в отличие от строительства, осуществляемого пчелой.
314
Арватов Б. Речетворчество (По поводу «заумной» поэзии) // Леф. 1923. № 2. С. 79–91. Далее страницы приводятся в тексте. Отметим, что Арватов использует в названии своей статьи слово, производное от самоназвания заумников «речетворцев».
315
Летом того же года Арватов сам окажется в психиатрической больнице, где, однако, продолжит свои поиски социальности объектов и осмысленности вскриков сумасшедших.
316
Эти соображения Винокур развивает в статье «Язык нашей газеты», подробно анализировавшейся в предыдущей главе.
317
Тем самым производственная интерпретация ближе к гипотезе о происхождении зауми как ответа на кризис позитивизма. См. подробнее об этой версии эссе «Заумь как реакция на кризис позитивизма» в ЛП.
318
Кроме прочего, это позволяет Арватову распространить логику зауми с уровня фонетики на уровень синтаксиса и семантики: «„заумной“ может быть не только звуковая перестановка, но и перестановка синтаксическая и семантическая: „четырехугольная душа“, по указанию Крученых, так же „заумно“, как и „бобэоби“; у Хлебникова часто „заумный“ – синтаксис» (84; добавим, что дальнейшие следствия из возможности заумного синтаксиса выведут обэриуты). «Каждый раз, когда мы комбинируем порядок слов (инверсия), элементы самого слова (неологизм) или какие-нибудь другие материалы (напр. поэтическая этимология), – мы тем самым добавляем к речи нечто „заумное“» (85).
319
«Достаточно, однако, подойти к ней только как к форме языковой, т. е. рассматривать ее с точки зрения чисто лингвистической, чтобы расценить ее „поэтическую этимологию“ как явление „заумное“ <…> – как элемент эстетический» (86).
320
«Острота позволит нам использовать смешное в неприятеле, которое мы не могли высказать вслух или сознательно из-за препятствий, то есть она опять-таки обойдет ограничения и откроет ставшие недоступными источники удовольствия» (Фрейд З. Острота и ее отношение к бессознательному // Он же. Собр. соч.: В 10 т. М.: СТД, 2006. Т. 4 («Психологические сочинения»). С. 105.
321
Арватов здесь продолжает разговор со Шкловским как автором доклада «Место футуризма в истории языка» и Винокуром, формулировавшим миссию «футуристов – строителей языка» в терминах истории (литературного) языка.


