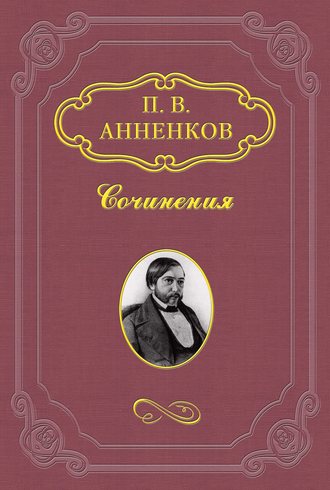
Письма из-за границы
Я посетил Ферней, дачу Диодати и замок Копет{178}. Вольтер, Байрон и г-жа Сталь! Даже вискам больно от соединения этих имен! Впечатления на месте их жилищ весьма различны, столь же различны, как спокойная, холодная насмешка, позволяющая человеку наслаждаться всеми благами земли до глубокой старости, и кровная борьба с обществом, которой все принесено в жертву, или как различен от вышеупомянутого шум, поднятый ради оскорбленного тщеславица.
Однакож, осмотревшись, я вижу, что деревья стоят уже без листьев, небо туманно, озеро волнуется, с гор несет холодом. Все расчеты с природой кончены. Пора в теплую комнату, под свет театральной люстры, за романы и журналы и мудрствования Миносов{179} н Солонов{180} нашего века.
Еду в Париж. Прощайте!
VIII
Париж. 29-го ноября 1841 года.
Вот 12 день, как народонаселение Парижа увеличилось еще одною единицей, а многочисленные страсти, кипящие в нем и о которых вы достаточно начитались, умножились всем количеством страстей, квартирующих в моей грешной особе. На лебедянской скачке{181} раз случилось, что первый приз выиграла простая мужицкая лошадь, которую два месяца держали в темной конюшне и прямо из нее вывели на ристалище. Оглушенная шумом, пораженная светом, она пришла в бешенство – и была у цели прежде английских скакунов. Прося прощение у самого себя, скажу, что в эти двенадцать дней я походил на ту лошадь… Театры, площади, обеды, журналы, книги, магазины, все это поглотил я в один прием, и удивляюсь, как выдержала его физическая и моральная моя организация. Теперь, когда сел я в широкие кресла и придвинул к себе десточку{182} почтовой бумаги с полным намерением наградить вас одним из тех писем-слонов, к которым вы должны уж теперь привыкнуть, – не знаю, как привести все виденное, выслушанное, вычитанное в порядок и с чего начать. Не начать ли с обедов? Я совершенно убежден, что кто не обедал в Пале-Рояле{183}, тот никогда не обедал, и заклинаю вас всем святым отбросить мысль, что вы когда-нибудь ели в своей жизни, да и других предостерегите от той же мысли.
Мы приехали в Париж в пять часов ночи, самой темной и дождливой, какая только может быть. Историческая ночь короля Лира{184} перед нею – майский день. Я был рад: мне смерть не нравятся эти впечатления, раздробленные квадратным окошечком кареты, где в какой-то тяжелой путанице для сознания падают на вас только часты предметов. В гостинице дилижансов провел я первую ночь и в полдень вышел на улицу Saint-Honore. В ту же минуту Париж встал передо мною и зычным голосом воскликнул: «Это я!». Огромные омнибусы разъезжают в узкой, грязной улице с узенькими тротуарами; высокие-высокие дома завешены вывесками, и одни только окошечки на самой крыше свободны от золотых, голубых и фиолетовых надписей: это те самые, куда увлекал нас, к стыду сказать будущих моих дочерей, г. Поль-де-Кок{185}, куда вносил аналитический свой факел г. Бальзак, и откуда так часто сводятся обитатели на скамью обвиняемых в исправительную полицию; потянулись окна магазинов, заблистали кафе, бросились в глаза афишки на углах с такими чудовищными буквами, что Кадм отказался бы от чести изобретения азбуки{186}, и книгопродавцы за зеркальными своими стеклами выставили картины, виньеты, карикатуры, новые книги, новые брошюры… Что смотреть? Куда идти?.. Необходимость идти куда-нибудь или, лучше сказать, спасаться почувствовал я в ту же минуту, как задал себе вопрос, ибо промчавшаяся карета покрыла меня грязью с ног до головы, а два носильщика едва не сбили с ног… К числу немногих моих отличных качеств присоединил я еще новоприобретенное в путешествиях: необычайный инстинкт отыскивать замечательные предметы в городах; перенесите меня в Пекин – сейчас пойду по тому направлению, где должен наткнуться на императорский дворец, и проч. Так случилось и здесь. Я все шел прямо и вышел к Пале-Роялю, сам не знаю как. Это дворец, образовавший собою три двора: самое полное выражение людскости французской и палладиум Парижа. Под портиками этих трех дворов, из которых большой, последний, обращен в сад, собрано все, что только могла произвесть промышленность блестящего, все, до чего только могло дойти ремесло. Размещение за зеркальными стеклами бронз, материй, кашемиров, перламутра, книг и даже живностей составляет здесь особенную науку, в которой есть профессора, магистры, кандидаты и проч. За известную плату являются они в магазин сообщить ему, из собственных его товаров, наружный блеск и репутацию вкуса. Нигде не видал я подобного искусства размещать вещи так, чтоб каждая оттеняла и выказывала другую, а целое составляло полный, живописный узор. Средняя галерея, соединяющая боковые флигеля, есть великолепная зала, покрытая стеклянным потолком, где постоянно кишит народ, и где роскошь боковых магазинов, простенки между ними, занятые зеркалами, и газовое освещение вечером составляют какую-то чудную пестроту, в которой огонь, золото, бархат и прочее дробятся на тысячи лучей. Из этой галереи, вероятно, вышло известное идолопоклонничество почти всех французских писателей перед богатством и роскошью. Есть старые habitues[22], посетители Пале-Рояля, которые в продолжение долгой жизни в нем одном находили удовлетворение всем своим потребностям и всем своим прихотям. Бедные, однакож, старые люди! Когда они умрут, может быть, их вывезут в церковь, и тогда над ними простонет орган несколько торжественных песен, а из церкви, может быть, их вывезут за город, и тогда разверзнется небо и поле перед погребальным кортежем; статься может, что мертвецы и подумают тогда нечто такое, вероятно, следующее: хороший воздух здесь заведен; жалко, что нам дышать уже нельзя. Однакож отступление, говорит справедливо один наш ритор, – «всегда более затемняет, чем красоту речи сообщает»; итак, продолжаю. В великолепных мраморных и раззолоченных залах, где за бюро сидят разодетые девушки, принимая монету и ведя счетные книги, а промежду столов ходят величавые мужчины с салфетками в руках и с презрительным выражением в лице, между тем как зеркальные стены обманывают глаз, образуя оптические бесчисленные галереи, – в этих-то залах приютились лучшие парижские кофейни и все знаменитости, посвятившие себя на служение желудку, как-то «Вери», «Вефур», «Trois freres Provencaux»{187} и проч.
Так как vol-au-vent, котлеты a la victime{188} и прочие довольно дорогие (3, 4 и 5 франков) приготовления не могут быть описаны, разделяя эту честь невозможности с пением райской птицы и с красотою женщины, то подивимся лучше необычайному распространению кухонных познаний во Франции и упрощению самой науки, вследствие чего отвергнуты все сильные прибавки, которые так злобно и упорно еще держатся у нас; из вещества выгнано все грубое, раздражающее и оставлен ему очищенный, облагороженный, дистиллированный его характер; каждое блюдо старается подходить под приманчивый вкус того животного или плода земного, которого имя носит, отстраняя все, что мешает тому. Это упрощение кухни, а вместе и дешевизна припасов (относительно Петербурга, разумеется), произвели те удивительные обеды в 2 1/2 франка, где с полбутылкой вина вы можете выбирать по весьма подробной карте четыре блюда и десерт, какие вам угодно, и получаете их в удовлетворительном виде, не так, как в Петербурге, в трехрублевом леграновском обеде{189}, где каждое блюдо, кажется вам, посягает на жизнь вашу (особливо кусок говядины у него, подаваемый после супа, есть вещь, в отношении которой следует соблюдать всевозможную осторожность). Разветвляясь и дешевея, обед парижский спускается в самые нижние слои народонаселения, съеживаясь и сокращаясь при каждом градусе понижения: последний предел есть обед в 10 су – 50 копеек. За этим восстает уже некая престарелая дева, именуемая статистикой (как выразился один ученый), и повествует страшные вещи. Медицинская комиссия в рапорте 14-го апреля 1841 года объявила: «Обман в торговле мясом, несмотря на бдительность полиции, столь обыкновенен в Париже, что мясо животных, умерших от болезни или убитых в болезненном их состоянии, достигает даже госпиталей». А потом статистика говорит еще: «В последнем возвышении цен на мясо лучший сорт получил прибавки 5 на 100, а третий, то есть собственно принадлежащий народу, 25 на 100. Тяжесть возвышения этого обратила бедный класс на мелочную продажу живности, убитой вне публичных живодерен, которая продается дешевле, хотя и платит пошлину гораздо значительней при въезде в город. В этой распродаже дело уже состоит не в исследовании внутренней доброты мяса, а в том, что на рынках Парижа часто и часто являются конина, собачина и мясо других отвратительных животных». А потом, разгорячаясь все более и более, престарелая дева прибавляет: «Да, счастливы те, которые, для удовлетворения голода, могут еще приобрести какую-нибудь, хоть и сомнительную часть говядины; а что сказать про тех, которым полиция насильственно должна возбранять похищение гнилой рыбы и испортившегося мяса, выкидываемого из монфоконской бойни? Что сказать о тех двух диеппских женщинах{190}, у которых муниципальная стража с трудом исторгала куски двух коров, умерших от болезней и зарытых в землю?» И наконец, пришед вне себя, она же, престарелая дева, дрожащим голосом прибавляет: «Никогда не поверю… хоть и имею причины думать… что некоторые несчастные… были антропофагами!!!» Ужасно! Ничем лучше нельзя окончить описание великолепного Пале-Рояля. Это покажет вам, как страшно в этих городах с миллионом жителей соединяются и идут рука об руку непомерная роскошь и непомерная нищета; это пояснит вам, с одной стороны, восторги заезжих туристов, а с другой – неспокойное состояние общества; это поведет вас к разным заключениям, что все и имел я в виду, употребив мои выписки и предаваясь этим, впрочем мне несвойственным, сближениям.
Едва только продерет глаза парижанин, как бежит в один из бесчисленных здешних кафе читать журнал. Каждый божий день выкидывается типографиями оглушительный вопль разнородных мнений{191}, где взаимно подстерегается каждый шаг противника, каждое обвинение встречает оправдание, каждая мысль наталкивается на другую, диаметрально ей противоположную, и эта постоянная, не умолкающая ни на минуту борьба только укрепляет журналистику? сдерживая все возможные партии в каком-то волшебном кругу, из которого ни одна выйти не может. Нет сомнения, что если на этой чудной арене, где идет самый отчаянный бой, а между тем нет убитых, где в ту минуту, как один из гладиаторов начинает одерживать решительное превосходство, все другие забывают взаимную вражду и соединяются, чтоб опрокинуть его, – нет сомнения, говорю, что если на этой арене когда-нибудь будет действительно победитель, то Франция погибнет или в революционном вихре, или в другом каком-либо исключительном направлении. Так все ее значение, по моему убеждению, зависит от этого вечного движения, которое она осуществила не в физическом, а в печатном мире. Странное еще зрелище для непривычного глаза составляет отсутствие людей, имен в этой огромной сшибке. Везде в других землях борется человек с человеком, и имя некоторым образом делается представителем идеи: здесь враждует кто-то, известный под энигматическим{192} названием: «Debats»{193}, «National»{194}, «Commerce»{195}, и нет тут славы за хорошую мысль никому, и нет тут презрения за порочную.
Само правосудие является в делах печати только тогда, когда, забыв свое абстрактное политическое назначение, печать подымает голос на лицо, и только в этом случае падают на нее удары. Я сказал: «на нее»; я сказал слишком много. По тому же отсутствию лиц, удары падают на какое-то неопределенное, ничего не выражающее и часто совершенно бесталантное имя «управляющего ответчика», gerant responsable, который партией, издающею журнал, за тем и берется, чтоб сидеть в тюрьме; случалось, что три редактора газеты один за другим посажены были в Sainte-Pelagie{196}, а газета в полной красе и силе продолжала бежать К своей цели на всех парусах. Притом же преступления печати подлежат суду присяжных (jures), выбранных из граждан, и хитрому адвокату обвиняемого журнала стоит только вкрадчивым манером внушить господам судьям, что в их приговоре может пострадать общее право всех граждан, то вот они и изрекают свое: не виноват, несмотря на все усилия Правосудия. Это случается поминутно, и несмотря на это энергия юстиции в преследовании излишеств печати невообразима. В руках ее находится одно, но самое смертоносное орудие – денежный штраф{197}, разрушающий капитал журнала: в тюрьму посадит она невиновного, а деньги возьмет с виновной партии, и вот королевский прокурор накопляет процесс на процесс в той мысли, что если из пяти два удадутся, то партия ослабеет. Но и тут выходит новая беда. Если удалось разрушить партию, то остатки ее, присоединяясь к другой, с которою имеют сочувствие, увеличивают силу последней, и является новый враг, еще страшнейший… Что сказать вам еще? Разве вот что: если в каком-нибудь городе увидите вы человека, читающего одну французскую газету роялистскую или оппозиционную, не имеющего средств читать их вместе и содержание одной пояснить содержанием другой, то пожалейте о нем и старайтесь отвлечь его от этой вредной, бесплодной и искажающей суждение работы. В будущих письмах, если я получу от вас подтверждение писать об этом, сообщу как образ полемики, так и главные идеи, историю появления и условие существования важнейших журналов, а до тех пор вот вам табличка, показывающая корифеев этой борьбы, около которых вьется страшное количество второстепенных витязей, а вместе с тем определяющая и число существующих в настоящую минуту журналов: 1) династические или приверженцы установленной власти: «Journal des Debats», «Presse»{198}, «Messager»{199}; 2) парламентские или в конституционном духе оппозиции: «Constitutionnel»{200}, «Siecle»{201}, «Courrier Francais»{202}; 3) радикальные, требующие совершенной реформы: «National», «Commerce», «Journal du Peuple»{203}; 4) легитимистские или приверженцы старой династии и монархии: «Gazette de France»{204}, «Quotidienne»{205} листки, которых цель осмеивать всякий факт, всякое лицо, к какой бы партии они ни принадлежали, которые каждое утро поставляют для обихода парижан продовольствие острот, каламбуров, пародий, карикатур, – которые даже и не преследуются за излишество; так согласна и юстиция в необходимости этого насущного злословия для нынешнего общества: «Charivari»{206}, «Corsaire»{207}. Самый мощный – отдел третий: он беспрестанно увеличивается новыми сподвижниками, хотя и теряет от этого силу, сообщаемую централизацией. Объявляют множество новых изданий. Только что появился по этому отделу журнал «Le XIX Siecle»{208}, возвестивший, что в основание своему предприятию положил он – угадайте сколько – 1 200 000 франков! Акции или подписка – 50 франков, и выходит, что для составления полной реализации той суммы, ему надобно было 25 000 подписчиков. Если тут все увеличено вполовину, то и половина еще составляет цифры огромные. А между тем нет ничего удивительного! Понять трудно, как распространено здесь чтение журналов{209}. Не говоря о кафе и (бесчисленных) кабинетах для чтения, всегда битком набитых, вам всовывают в руки журнал, куда бы вы ни пришли: за обедом промеж двух блюд; в театрах промеж антрактов; у парикмахера, покуда он обделывает с любовью пукли на вашей голове; у портного, покуда смеривает он объем богатырской вашей груди и тонину античной вашей талии. Читают их фиакры, облокотясь на передний кончик дышла, читают их привратники, подбоченясь метлой, и у лакея, который аккуратно приходит в девять часов утра затопить камин мой, я, вместо того, чтоб спросить: «а какова погода?», как это делается везде, спрашиваю: «а что нового?» – «Да, двадцать седьмого декабря назначено быть открытию палаты депутатов», – отвечает мне муж сей, раздувая огонь, а из заднего кармана его торчит листок журнала, купленного за 15 сантимов на улице. Даже и обидно сделается!
Но мечом согрешивший мечом и наказан будет. Так эта же самая политика, которою гордится француз, изгнала художественность в произведениях, чистое вдохновение и, что всего заметнее и поразительнее, разъединила в мысли Францию от других народов. Представьте себе, что иностранная идея тогда только начинает появляться и занимать людей здесь, когда приняла в себя какой-нибудь политический элемент: чужое имя делается известным тогда только, когда попало в какой-нибудь водоворот происшествий. От этого собственно журналы, revues, представляют какое-то подобие человека в уединенной комнате, беспрестанно любующегося самим собою, и иностранцу это очень тяжело. Тут Сент-Бёв{210} разбирает поэтов французских, которые существовали до Буало и которые никакого значения не имеют ни для искусства вообще, ни для истории искусства; тут исторические статьи в самом близком приложении к Франции и без всякого вывода для человечества; тут разборы некоторых форм правительственных, совершенно местных; тут, наконец, и огромные политические статьи. Но если в мимоидущих газетах личное и произвольное суждение о настоящей минуте имеет силу, как действие первого впечатления, первого порыва, так сказать, мысли к сознанию, то уж в журнальной статье все должно быть на верном основании, на законных выводах, на обдуманной плодотворной идее, готовой ко всяким приложениям, – и, господи, что же выходит? Вот пример: на днях появилось новое «Revue Independante»{211}, издаваемое гг. Леру, Жорж Зандом и Виардо. Цель журнала – показать раны французского общества. В программе сказано{212}: философам мы опишем состояние человеческого мышления в настоящую эпоху; политикам – общественную политику, приличную нашему времени; ученым – пророчества истории касательно нашего века; артистам – нынешнее состояние искусства; гражданам – индивидуализм и общественность (!!!); всем – будущее общество! Громко, и сказать нельзя, как громко! В первой книжке и появились два начальные параграфа философам и политикам. Я тотчас принялся за первый: «Aux Philosophes: de la situation actuelle de l'esprit humain»[23]. Шутка сказать! И что же? «В средние века общество было очень порочно составлено; общество точно такое осталось, как в средние века, – то вот в каком состоянии нынче ум человеческий». Ей богу, самая верная эссенция статьи! И все подвиги Германии на поприще мысли, и все заслуги прошедшего столетия этим определением, что называется, порешены! Со всем тем, при нелепости главной мысли, есть что-то любящее, сочувствующее человеку в этой статье, сострадающее ему, что отношу к участию Жоржа Занда в издании. Один Пишо с сыном в «Revue Britannique»{213} сделался проводником английской литературы; но переводные его статьи, часто весьма замечательные отдельно, мало, однакож, дают понятие о состоянии вообще английской литературы, потому что выбраны без цели и ничего не определяют.
В последней книжке находится статья об Эстонии{214}, написанная какой-то англичанкою, бывшею и в Петербурге. Переводчик статьи кратко говорит, что автор прожил некоторое время в Петербурге, был очень хорошо принят одним семейством; город и жители ему очень нравятся, но покинул он их с радостью. Миллион бомб! Да как же это так?.. Впрочем, надо сказать, в последнем замечании я крепко подозреваю фантазию г. переводчика или редактора. По действию в высочайшей степени раздражительного народного тщеславия, которое однакож составляет великую мощь нации, ни один француз не скажет доброго слова ни об Англии, ни о Германии, ни об Италии, ни о России без того, чтоб не оговориться и не попросить извинения у соотечественников. Непременно прибавит он к панегирику «Правда и то, что я находился в это время в особенно счастливом расположении духа: у меня умерла тетка», или, в крайнем случае, объяснит похвальное на свой манер: «Сближение с французскими идеями произвело все эти счастливые последствия». Вот и вся недолга! Поразила меня еще следующая фраза в этой статье: «Она имела счастье познакомиться с одним из высших русских офицеров, что доставило ей возможность видеть львов большого света…» Ну, нечего сказать – услужил ей высший русский офицер, и очень бы мне хотелось знать, как показались ей, после британских львов, наши посильные подражания. Наконец, переходя от revues к брошюрам, которые в эту минуту наиболее читаются, упомяну о так называемых «Физиологиях»{215}. С легкой руки какого-то шутника, говорят, профессора, написавшего книжечку нравов, уж я и забыл какого сословия, и выдавшего ее под заглавием «Физиология» имя рек, – появились тысячи брошюрок с виньетами и гравюрами, буквально наводнивших библиотеки. Каких тут нет только физиологии! Мастерового, депутата, солдата, фланёра, и проч. и проч.; наконец, физиология перчатки, наконец, физиология извощичьей лошади; того и гляжу, что появится физиология праздного славянина, объезжающего неизвестные государства, – с моим портретом.
Наиболее обращающие внимание брошюры: ноябрьская книжка «Les Guepes»{216} Альфонса Kappa{217} и «Almahach populaire»{218}. Первая объявляет претензию на совершенное беспристрастие, философическое презрение к знакам отличия, что явно доказывает существование грешной мечты и тайное страдание в неимении их, между тем, как Александр Дюма{219} (страшно обидно!) имеет, кажется, четыре или пять, Евгений Сю{220} (да будет он проклят!) тоже украшен, да и Виктор Гюго{221}, да и Ламартин{222}, да и множество других, все с бутоньерками! Тут поневоле сделаешься беспристрастен и будешь издавать весьма смешные брошюры, в которых происки, промахи, интриги всех партий остроумно и бесщадно выводятся наружу и которые имеют всю занимательность умной сплетни или рассказа какого-нибудь хитрого домашнего шпиона, вроде наших старых сплетниц! Вторая брошюра не столько замечательна своим содержанием, где в коротеньких статьях приведены факты разных бедствий – нужд и требований бедного класса, сколько по случившимся с нею маленьким обстоятельствам. Палата депутатов дозволила цензуру на гравюры и театральные пьесы. Цензура остановила гравюры альманаха, показавшиеся ей несколько вольными. Альманах, вместо гравюр, приложил описание их, которые далеко превзошли все, что было вольного в гравюрах; но теперь дело устроилось, картинки возвращены брошюре, и брошюра осталась при гравюрах и при своих пояснениях гравюр! Успех книжонки Kappa породил множество других, в числе которых особенно замечательны «Nouvelles a la main»{223}; успех «Альманаха» произвел огромную фамилию политических альманахов, под разными заглавиями: альманах владельцев, мастеровых, честных людей и проч. Все эти книжечки блистают за стеклами книгопродавцев, развернутые часто на самых жарких своих страницах, и филиппика таким образом против порядка вещей зароняется в душу проходящего невольно почти, навязывается насильно тому, кто не думал никогда покупать книжонки, и тем сильнее входит в грубый мозг, чем она дерзновеннее и поразительнее. Так вот-с как бьется жизнь в Париже в настоящую минуту.
Всю способность многоглаголания, мне врожденную, употребил я, чтоб уловить и передать вам удары пульса в этом Вавилоне: не знаю, успел ли! Я даже не хочу вам на этот раз писать о книгах, о лекциях в Сорбонне{224}, о курсе Ройе-Коллара{225}, о замечательных увражах[24], что все бесспорно принадлежность, пояснение общества, но все как-то отвлеченнее, как-то дальше от настоящего парижского облика. В будущих письмах вмещу и эту статью, а до тех пор вот та последняя черта, которая должна, по моему мнению, уже непременно воссоздать полный образ новых Афин перед вами, подобно как в кабалистической{226} фигуре Нострадамуса{227} последняя черта выводила за собою тотчас бесика с рогами. Вот вам параграф о театрах.
Семнадцать – кроме концертов и панорам!{228} Семнадцать – каждый день!.. В долгое мое пребывание в Италии я совсем отстал от водевилей и комедий с куплетами, и вдруг целый поток их вылился мне на голову. Естественным следствием было чувство удивления и какая-то моральная лихорадка, если смею сказать. Я никак не мог привыкнуть ни к одному из театральных условий, производящих здесь комические сцены: кареты, которые увозят не того, кого надо, люди, которые прячутся в корзинку один за другим и не встречаются; женщины, переодевающиеся в мужчин, и которых не узнают даже родители их, между тем как зритель по некоторым наружным признакам тотчас смекает дело; мужчины, переодевающиеся в женщин, и которых другие мужчины целуют в губы, нимало не чувствуя бороды, весьма заметной из партера, и миллион других нелепостей, совершенно сбили меня с толку. Мне все казалось, что если поверить всем этим водевилям, которые вам придется еще разбирать и на русской сцене, то должно будет согласиться, что общество составилось не разумно, а наоборот, сочинено каким-нибудь веселым юнкером после доброй бутылочки. Теперь начинаю я ощущать необычайную радость, когда вижу на афише прибавку к заглавию пьесы: «шалость, пародия, charge[25]». Ну, слава богу, думаю: хоть выведи мне полицейского, задумавшегося о первой любви своей, или ростовщика, плачущего на могиле своей матери, или какую хочешь нескладицу, – все будет хорошо: ведь это шалость! Да и парижане невольно чувствуют иногда потребность выйти из этого шабаша происшествий, характеров и мыслей, родившихся незаконно, как будто брокенские ведьмы и колдуны создали для потехи и в пику настоящему свету свет театральный. Чуть явится пьеса, мало-мальски похожая на человеческую, – как гром этой новости разносится по всем концам Парижа (иногда переходит Францию, достигает моря великого Балтийского и не дает заснуть покойно переделывателю Адмиралтейской части{229}). Со всех сторон стекается тогда Париж в счастливый театр, имеющий человеческую пьесу, и она выдерживает сто представлений сряду. Это случилось с комедией «La Grace de Dieu»{230}. В эпоху разврата прибыла в Париж хорошенькая савоярка. Через несколько времени возвращается она домой, измученная, обманутая, полусумасшедшая. На душе горько сделалось мне, когда в конце пьесы, по неслыханному отсутствию всякого такта, авторы привели молодого герцога к ногам обманутой им савоярки и таким образом уничтожили весь смысл предыдущих актов. Однакож не должно смешивать нелепость французскую с тем, что мы понимаем под этим словом. Русские нелепости – вещь странная: волосы становятся дыбом; французская нелепость, напротив, полна остроумных намеков, идет живо, и допустите только возможность лжи, лежащей в основании, согласитесь на нее, – выводы и следствия часто весьма забавны, а иногда и искусно расположены. Притом же все эти нелепости имеют счастье быть обставлены талантами, из которых каждый отдельно мог бы составить славу целого театра, – как г-жа Аллан{231} например! Сколько тут оттенков в самых талантах: почти для всякой ноты есть человек, который особенно хорошо берет ее: роскошь! Странное дело! ни одного почти из знаменитых актеров не видел я в естественном, нормальном состоянии: все возвели силою таланта бедные свои роли почти до очевидности, до созвучия с жизнью и действительностью. М-llе Дежазе{232} (театра Palais-Royal{233}) видел я в красных штанах, в белом парике, и со всем тем, как верна она была характеру гризетки, возвратившейся поздно ночью из маскарада на чердак свой, несмотря на чудные случаи, приключившиеся с нею в эту ночь. М-llе Соваж{234} (театра Varietes{235}) видел я в роли дамы двора Людовика XV, влюбленную в мулата, освобожденного невольника, и со всем тем как чудно сквозь ледяную, пышную ее физиономию пробивалось истинное чувство! Арналя{236} (театра Vaudeville{237}) видел я в роли притворного слепого, перед которым падают покровы, а по-человечески сказать, раздеваются девушки, и ни разу не перешел он в цинизм, все его ужимки и последнее восклицание, открывшее обман, все это было верно. Одного только Буффе{238} (театра Gaite{239}) видел я на твердой земле, в пьесе, которая имеет первые черты характеров, «Gamin de Paris»{240}, – да больше и не нужно. Исполнить эти первоначальные указания есть дело актера, и как полна вышла роль у Буффе! Переходы от комизма к драме, от смеха к слезе и снова к смеху, в котором, однакож, дрожит еще остаток сильного чувства, были превосходны. Не упоминая о mesdames Плесси{241}, Анаис{242}, Леменель{243}, о гг. Гиацинте{244}, Равасе{245}, Левассоре{246} и проч. и проч., оставляя все это до будущих писем, я перейду к светилам первых величин – к классической трагедии и новейшей мелодраме, к театру, куда собираются пэры Франции, и куда ездит королевская фамилия (Theatre Francais){247}, и к театру, где собирается молодежь коллегий, воспитанники политехнической школы, да буржуа, жаждущие сильных потрясений (Theatre Porte Saint-Martin){248}, – перейду, одним словом, к пресловутой г-же Рашели{249} и не менее знаменитому г. Фредерику Леметру{250}. Не подумайте, что Рашель мощью таланта претворила все длинные монологи в нечто живое и необходимое; не подумайте, что, в продолжение долгих и часто грозных повествований наперсницы или другого лица, все чувства сменяются постепенно на физиономии ее, так что мимическая игра актрисы поправляет все, что есть фальшивого в роли; не подумайте также, что, наконец, глубокое соображение, в соединении с вдохновением, побеждают все трудности, всю ложь классической трагедии и создают лицо возможное, великое, поэтическое (вещи, которые, говорят, делал Тальма{251}); не подумайте, сделайте одолжение, всего этого, – а вообразите высокую худощавую девушку, с черными, как смоль, волосами, которая декламирует стихи с особенным напевом, непохожим на старый вой, да непохожим и на действительную речь, и только в минуту сильного душевного порыва, особливо иронии, особливо негодования, ненависти или проклятия возвышается до высокого драматизма. Как-то судорожно сжимается лицо ее, слова бегут скоро-скоро (а сколько слов!), мерный стих дробится, поглощается, и часто конец монолога совсем пропадает, а вместо его видна только артистка в состоянии экстаза, с дрожащими губами и пламенеющим оком. Это хорошо! Жюль-Жанен вздумал было разрушить собственное свое дело{252}, то есть колоссальную репутацию Рашели, и – не мог. Публика взяла сторону артистки: публике нравится новая ее декламация, ее вольности, ее порывы, даже несообразности ее, все ей нравится в счастливой дщери Исаака! Каким свистом покрыла она шутника, который в трагедии «Horace» Корнеля{253} вздумал было усмехнуться, услышав, что Куриаций говорит Горацию: «но твое рассуждение пахнет варварством», «tient de la barbarie», и та же публика хохотала до упаду в новой освистанной трагедии Вьенне «Арбогаст»{254}, услыхав, что император Феодосии галантерейно говорит супруге зарезавшегося Арбогаста: «Не предлагаю вам утешений». А по-моему, я уже предпочитаю это последнее утешение тому первому варварству. Что касается до Леметра, то представьте довольно пожилого человека, который чудовищные свои роли играет весьма просто, не подготовляя зрителя к катастрофе и не разгорячая его ничем, в полной уверенности, что воображение гг. составителей мелодрамы постоит за себя. Это весьма умно. Выкинуть ли жену за окошко, как в «Ричарде Дарлингтоне»{255}, отравить ли любовницу – плевое дело! Жена берется и выкидывается; нож в руки – и молодого путешественника как не бывало. Ужас достигается еще скорее этой простотой, беспечностью, так сказать, преступления, чем всеми возможными пояснениями актера; да и сколько раз случалось мне заметить в Петербурге, что слишком сильный талант портит мелодраму, думая поднять, возвысить ее. Та же метода у Леметра во все продолжение пьесы, при всех возможных толчках и во всех возможных положениях, какие только благоугодно было выдумать автору, и лучшего актера для этого рода сочинений вряд ли где можно найти. Мне остается только сказать вам о двух операх, итальянской и французской. О, когда в первой Тамбурини{256}, Лаблаш{257} и г-жа Персиани{258} сольются в одном звуке и потом, разъединившись, после множества уклонений, разными путями приходят опять к прежнему своему пункту, это апофеоз итальянской оперы и вместе человеческого голоса! К несчастью моему, Рубини{259} в Мадриде, и мне недостает, как и Парижу, еще одного звука в этой удивительной группе. Французская опера страждет недостатком талантов; все певицы обветшали. Исполнение «Жидовки»{260} и «Роберта»{261} зело посредственно. Дюпре{262}, говорят, много ослабел, но все-таки в роли Елеазара услышать вместо свистящей фистулы, как мы привыкли, настоящий человеческий голос и вместо судорожного крика благородную ноту – не последнее наслаждение. Обстановка этих опер ничуть не лучше петербургской, за исключением их последних актов, которые здесь, разумеется, полнее, шире. Во французской опере танцует Фиц-Джемс{263}. Постарайтесь уверить кого нужно, что известные у нас средства, как-то: короткие платья и прочее, предоставлены уже провинциальным театрам и уличным плясунам, и тайна очарования перешла к составлению самих па, которые походят на фрески Помпеи, барельефы Капуи, достигают своей цели вернее и вместе не исключают грации – почему и дамы ими любуются, как любуются Венерой и Дианой…








