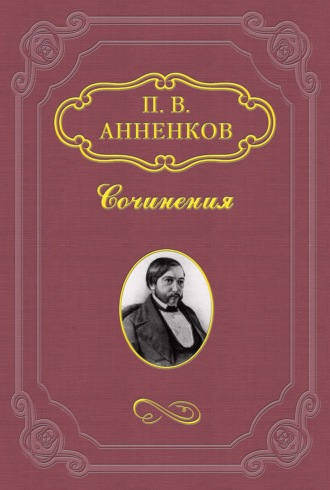
Материалы для биографии А. С. Пушкина
135
Первая глава «Ев. Онегина» сопровождалась, кроме «Разговора книгопродавца с поэтом», еще вступлением. (О нем и о некоторых приложениях подробнее сказано в примечаниях наших к роману.) Небольшое вступление это, не имевшее никакого оглавления и писанное самим Пушкиным, заключало слова: «Но да будет нам позволено обратить внимание читателя на достоинства, редкие в сатирическом писателе: отсутствие оскорбительной личности и наблюдение строгой благопристойности в шуточном описании нравов». В том же письме Пушкина, первая половина которого будет нами приведена впоследствии, заключаются еще эти замечательные слова: «Надеюсь, что наконец отдашь справедливость Катенину. Это было бы кстати, благородно, достойно тебя. Ошибаться – и усовершенствовать суждения свои сродно мыслящему созданию. Бескорыстное признание в этом требует душевной силы». Это относилось к критику «Полярной звезды»{796}
136
Бальная болтовня (франц.). – Ред.
137
Переписку поэта с братом своим вообще мы изложим позднее, при описании отношений между ними.
138
«Это добросовестное произведение» (франц.). – Ред.
139
Это воспоминание о Карамзине показывает, что самые строки написаны гораздо позднее 1825 г.{797}
140
Первое письмо, которое теперь приводим, писано Пушкиным в 1829 году{798}. Оно носит пометку «1829 S.P.b.» (т. е. Санкт-Петербург. – Ред.) и при ней число 30-е, но с неразборчивым обозначением месяца, которое можно читать одинаково: Juin и Janvier (июнь и январь (франц.). – Ред.). Слова «S.P.b.», к удивлению, тоже зачеркнуты, так что мы теперь имеем одно только несомненное указание года, а указания места и числа недостает. С равной основательностью можно думать, что Пушкин написал его до отправления в Арзрум, когда он был в Петербурге, или в самом Арзруме, где он находился в июне месяце 1829 г. Как бы то ни было, но оба письма принадлежат к плану составить предисловие для «Бориса Годунова», явившегося в свет, как известно, в 1831 году. Копии с оригиналов находятся в Приложении III к нашим «Материалам»
141
непременное условие (лат.). – Ред.
142
<речи> в сторону (франц.). – Ред.
143
безразлично (франц.). – Ред.
144
Эта полурусская, полуфранцузская фраза принадлежит тоже к особенностям пушкинского таланта. Удивительно развитое чувство русского языка нисколько не портилось и нисколько не потемнялось в нем тем, что он мыслил иногда на чужом языке. В беглых заметках, писанных для себя, наскоро, чудно мешаются у него оба языка, смотря по тому, какой пришел первый на мысль. Пушкин по произволу сбрасывал, когда хотел, всякую чуждую примесь и допускал ее потом без малейшего ущерба для своей народной, русской речи. Почти нет заметки в его бумагах без галлицизмов и французских фраз. Вот, например, замечательный образец этого смешения: «Главная прелесть романов W. Scott состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем, не с enflure (напыщенностью (франц.). – Ред.) французских трагедий, не с чопорностию чувствительных романов, не с dignité (достоинством (франц.). – Ред.) истории, но современно, но домашним образом. Они не походят (как герои французские) на холопей, передразнивающих la dignité et la noblesse. Us sont familiers dans les circonstances ordinaires de la vie, leur parole n'a rien d'affecté, de théâtral, même dans les circonstances solennelles – car les grandes circonstances leur sont familières (Перевод: достоинство и благородство. Они просты в буднях жизни, в их речах нет приподнятости, театральности, даже в торжественных случаях, так как величественное для них обычно (франц.). – Ред.)»{799}.
Вероятно, эта заметка приготовлялась для какой-либо критической статьи и была бы изложена тем простым и легким русским словом, каким обладал автор ее в высшей степени. Не надо выпускать из вида, однако же, другого обстоятельства. Пушкин сознавался, что писать по-русски все-таки труд. «У нас нет, – говорил он, – готового оборота для самого обыкновенного понятия, а все надо создавать» (см. статью о предисловии Лемонте){800}. Французский язык был в этом случае уже важным облегчением, особенно для письма, записки, отдельной мысли, на которые нельзя было терять много времени
145
с любовью (итал.). – Ред.
146
Мы забыли сказать, что первый образец программы для стихотворений мы встретили еще в кишиневской тетради поэта, перед лирической песней «Наполеон». Вот ее содержание: «Народы спрашивают: Тот ли, который… Где он?.. Угас тот, который то и то – и Россию… Но да не упрекнет его русский … Россия славна – бедная Франция в унижении… Он об ней мыслил… Остров Елены – там он думал об России…»
147
любовь (франц.). – Ред.
148
Строки эти писаны, по всем вероятиям, тоже в 1829 году.
149
Первый отрывок: «Для предисловия. Публика и критика, принявшие мои первые опыты с живым снисхождением и притом в такое время, когда строгость и недоброжелательство отвратили бы меня, вероятно, навсегда от поприща, мною избираемого, заслуживают полной моей признательности: они расплатились со мной совершенно. С этой минуты их строгость или равнодушие уже не могут иметь влияния на труды мои».
Второй отрывок: «Представляюсь с новыми приемами в создании. Не имея более надобности заботиться о прославлении неизвестного имени и первой своей молодости, я уже не смею надеяться на снисхождение, с которым был принят доселе. Я уже не ищу благосклонной улыбки моды. Добровольно выхожу я из ряда ее любимцев, принося ей глубокую мою благодарность за все то расположение, с которым принимала она слабые мои опыты в продолжении 10 лет моей жизни»
150
Приведенное здесь суждение Пушкина о Державине относится к 1825 г., как видим. Далее читатель убедится, что с течением времени, накоплением опытности, идей и развитием мыслящей способности Пушкин изменил свои суждения как о Державине, так и о других старых писателях наших к лучшему. Таким образом, отрывки Пушкина делаются поучительным примером, как истинно замечательный писатель поправляет свои суждения и предостерегает тем других от ранних увлечений, кончающихся неизбежно раскаянием.
151
отвращенный (франц.). – Ред.
152
захватывает все (франц.). – Ред.
153
Виноват! Гораций не подражатель. (Прим. Пушкина.)
154
У одного только народа критика предшествовала литературе – у германцев. (Прим. Пушкина.)
155
Вот еще дополнение к этому письму, где есть несколько заметок, касающихся того же «Взгляда» и повести «Ревельский турнир». «Все, что ты говоришь о нашем воспитании, о чужестранных и междуусобных (прелесть!) подражаниях – прекрасно, выражено сильно и с красноречием сердечным. Вообще мысли в тебе кипят. Об «Онегине» ты не высказал всего, что имел на сердце, – чувствую почему и благодарю, но зачем же ясно не обнаружить своего мнения? Покамест мы будем руководствоваться личными нашими отношениями, критики у нас не будет, а ты достоин создать ее.
Твой турнир напоминает турнир Walt. Scott'a. Брось немцев и оборотись к нам, православным. Да полно тебе писать быстрые повести с романтическими переходами. Это хорошо для поэмы байроновской. Роман требует болтовни: высказывай все начисто. Твой Владимир{801} говорит языком немецкой драмы, смотрит на солнце в полночь (стр. 330) etc., но описания стана литовского, разговор плотника с часовым – прелесть. Конец также. Впрочем, везде твоя необыкновенная живость…» Мы уже видели письменную полемику между литераторами по поводу «Онегина», о которой намекает Пушкин и в этом письме. Замечательно особенно то обстоятельство, что поэт предавался полемике только на письме в это время, а печатной избегал, полагая, что век наступил не полемический. Вот что заметил он вскоре после своего вмешательства в прение между кн. Вяземским и «Вестником Европы»{802}: «Если бы покойник Байрон связался браниться с полупокойным Гете{803}, то и тут бы Европа не шевельнулась, чтоб их стравить, поддразнить или окатить холодной водой. Век полемики миновал. Для кого же занимательно мнение Д<митрие>ва о мнении кн. Вяземского или мнение Пи<саре>ва о самом себе?{804} Я принужден был вмешаться, ибо призван был в свидетели, но больше не буду… 24 июля 1824. Одесса». Однако же он совершенно изменил свой взгляд на предметы лет шесть спустя, как увидим.
156
смешных жеманниц (франц.). – Ред.
157
Из многих примеров внимания Пушкина к талантам и вообще готовности на ободрительное понуждение и совет выбираем следующие, первые попавшиеся нам на память. В 1827 году он встретил С.П. Шевырева похвалой его стихотворным произведениям и тут же, по изумительной памяти, прочел ему наизусть несколько стихов из его стихотворения «Я есмь…», только что напечатанного{805}. В последующих годах он беспрестанно понуждал известного нашего артиста, М.С. Щепкина, к начатию записок о своей жизни и сценическом поприще своем и однажды, раскрыв белую тетрадь, сам написал ему первую строку будущего его труда{806}. Один из лицейских его товарищей, занимающий ныне почетное место в морской службе{807}, получил от Пушкина, при первом своем отправлении вокруг света, длинные наставления, как вести журнал путешествия. Он рассказывал нам, что Пушкин долго изъяснял ему настоящую манеру записок, предостерегая от излишнего разбора впечатлений и советуя только не забывать всех подробностей жизни, всех обстоятельств встречи с разными племенами и характерных особенностей природы. Барон Розен одним усилием своим выучиться русскому языку до возможной степени совершенства{808} уже обратил на себя его внимание, а когда первые стихотворные произведения барона Розена показали и присутствие некоторой поэтической способности, Пушкин сделался его покровителем и наставником. Признавая в нем и драматический талант, даже в большей степени, чем у гг. Хомякова и Кукольника (как это видно из небольшой заметки, сохранившейся в записках его){809}, Пушкин особенно направлял его вдохновение на лирический род поэзии, говоря: «Помните, что лирическим поэтом можно быть только до 35 лет, а драмы писать до 70 и далее»{810}. В апогее своей славы Пушкин с живым одобрением встретил известную русскую сказку г-на Ершова «Конек-горбунок», теперь забытую. Первые четыре стиха этой сказки, по свидетельству г-на Смирдина, принадлежат Пушкину, удостоившему ее тщательного пересмотра{811}. Так точно перевод «Фауста» в стихах, сделанный г-м Губером, нашел в нем восторженного ценителя, и несколько часов утра в продолжение нескольких дней посвящены были проверке этого перевода, вместе с молодым его автором{812}. Мы уже не говорим о письмах Пушкина, которыми старался он утешить самую посредственность, обращавшуюся к нему за советами, и направить ее внимание в другую сторону. Вообще ни одного призыва к себе не оставлял он в пренебрежении и без ответа. В эпоху всеобщей страсти к альманахам один молодой человек, еще и не окончивший курса воспитания, обратился к нему за стихами в собственный альманах, для которого приготовлено было только одно заглавие. Пушкин тотчас же послал ему антологическое свое стихотворение «Труд» («Миг вожделенный настал…») при учтивом письме, в котором сожалел, что ничего более важного в эту минуту дать не может. Альманах, разумеется, никогда и не выходил
158
Это уже было почти семейным качеством. Сам Александр Сергеевич рассказывал анекдот из детства своего. Меньшой брат его, Николинька, лежал при смерти. Александра Сергеевича ввели в комнату больного; умирающий ребенок распознал брата, успел показать ему язык и умер{813}
159
Перевод на Ариоста находится у нас в Приложении VI к «Материалам».
160
В «Северных цветах» на 1829 год из той же трагедии Шекспира помещен был отрывок (лучшее место всего сочинения) по переводу П.А. Плетнева. Не знаем, ему ли принадлежит и тот, о котором здесь идет речь{814}
161
блестящими оборотами мысли (итал.). – Ред.
162
В деревне он нашел послание Н.М. Языкова, известное «Тригорское», и с восторгом писал ему: «Милый Н<иколай> М<ихайлович>! Сейчас из Москвы, сейчас видел ваше «Тригорское». Спешу обнять и поздравить вас. Вы ничего лучше не написали, но напишете много лучшего. Дай вам бог здоровья, осторожности, благоденственного и мирного жития!»{815}
163
«Вот моя трагедия. Я хотел сам занести ее к вам, но все это время я вел себя, как юноша…» (франц.). – Ред.
164
Есть и еще неизданное стихотворение Пушкина, в котором выражается его воззрение на поэта, но оно особенно важно для истории, так сказать, его стихотворений. Кошу не известна превосходная его пьеса «К Н.» («С Гомером долго ты беседовал один…»)?{816} Известно также, что ее величавый и суровый тон переходит в конце к тихому, грациозному образу, сообщающему всей пьесе неуловимую прелесть:
Нет! Ты не проклял нас. Ты любишь с высотыСкрываться в тень долины малой;Ты любишь гром небес, а также внемлешь тыЖурчанью пчел над розой алой.Но здесь еще пьеса не кончается у Пушкина. На другой странице он продолжает ее, но как будто уже для самого себя, как будто для того, чтоб не потерять случая дополнить свое воззрение на поэта новой чертой. Он продолжает:
Таков прямой поэт.Он сетует душойНа пышных играх Мельпомены —И улыбается забаве площадной,И вольности лубочной сцены* * *
То Рим его зовет, то гордый Илион,То скалы старца Оссиана,И с детской легкостью меж тем летает онВослед Бовы иль Еруслана.Следует помнить, что эти строфы были и зачеркнуты самим автором как портящие стихотворение, но они принадлежат к его любимому представлению о той свободе вдохновения, какая прилична поэту.
165
Что дозволено Урании, дозволено <…>, <…> дозволено, <…> подобает (лат.). – Ред.
166
Индейская сказка, переведенная, кажется, с немецкого г-м Титовым
167
Так точно и другое письмо Пушкина к издателю, написанное двумя месяцами ранее и еще из Петербурга (1-го июля), отличается тем же характером{817}. Пушкин старается поддержать в сотрудниках силы и добрые намерения всеми средствами: обещаниями, похвалой, резким приговором общим противникам: «Простите мне долгое мое молчание, любезный М<ихайло> П<етрович>; право, всякий день упрекал я себя в неизвинительной лени, всякий день собирался к вам писать и все не собрался. По сему самому и не посылаю вам ничего в «М<осковский> в<естник>». Правда, что и посылать было нечего; но дайте сроку, осень у ворот; я заберусь в деревню и пришлю вам оброк сполна. Надобно, чтоб наш журнал издавался и на следующий год. Он, конечно, будь сказано между нами, первый, единственный журнал на Руси: должно терпением, добросовестностию, благородством и особенно настойчивостию оправдать ожидания известных друзей словесности и одобрение великого Гете{818}. Честь и слава милому нашему <Шевырев>у. Вы прекрасно вделали, что напечатали письмо нашего германского патриарха. Оно, надеюсь, даст <Шевырев>у более весу во мнении общем… За разбор «Мысли», одного из замечательнейших стихотворений текущей словесности{819}, уже досталось нашим северным шмелям{820} от Крылова, осудившего их каждого по достоинству. Вперед! И да здравствует «М<осковcкий> в<естник>»!» Из слов оправдать одобрение великого Гете» можно заключить, что Гете знал не один только разбор «Елены» (из 2 части «Фауста»), сделанный С.П. Шевыревым, но отчасти знаком был и с журналом вообще, а следо<вательно>, и с некоторыми произведениями Пушкина. Кстати, приводим еще приписку Пушкина. «На днях пришлю вам прозу, да Христа ради, не обижайте моих сирот-стишонок опечатками и т. п. (Шевырев)у пишу особо. Грех ему не чувствовать Баратынского, но бог ему судья!»{821} Мы не знаем прозы Пушкина в «Московском вестнике», а что касается до стихов, то с 1827 по 1830 год включительно Пушкин поместил в журнале 33 стихотворения, включая сюда отрывок из «Бориса Годунова», отрывок из «Нулина» и два из «Е<вгения> Онегина».
168
В первое время появления «Московского телеграфа» Пушкин еще не разделял тех убеждений, которые заставили его переменить отношения свои к журналу. С.Д. Полторацкий привел в статье своей («Иллюстрация», 1846, № 9) учтивое письмо его к издателю журнала{822} от 2 августа 1825 <г.>, когда поэт жил еще постоянно в Михайловском: «Радуюсь, что стихи мои могут пригодиться вашему журналу (конечно, лучшему из всех наших журналов). Я писал кн. В<яземскому>, чтоб он потрудился вам их доставить. У него много моих бредней. Надеюсь на вашу снисходительность и желаю, чтоб они понравились публике». Действительно, в 1825 году в «Московском телеграфе» были помещены две эпиграммы Пушкина, отрывок из «Цыган», стихотворения «Телега жизни» и «В альбом» («Если жизнь тебя обманет…»). В 1826 году только одно стихотворение Пушкина находилось в журнале – «Элегия» («Люблю ваш сумрак неизвестный…»), а затем он уже помещал в нем одни эпиграммы на «Вестник Европы». Влияние Д.В. Веневитинова сильно способствовало направлению его мыслей и предпочтений в другую сторону
169
без злопамятства (франц.). – Ред.
170
но он располагает ею уже давно, вообще же дело идет только о 1000 рублях (франц.). – Ред.
171
Беседы Байрона, Мемуары Фуше <…> Сисмонди (Литература) <…> Шлегель (драматургия) <…> Сен-Флорана (франц.). – Ред.
172
В «Северных цветах» на 1825 год напечатано было стихотворение Жуковского «Мотылек и цветы» с таким объяснением: «Стихи, написанные в альбом Н.И.И., на рисунок, представляющий бабочку, сидящую на букете из pensees (анютины глазки (франц.). – Ред.) и незабудок. В третьей строфе пьесы говорится о мотыльке, слетевшем с высоты и прельщенном цветами:
Он мнил, что вы с ним однородныеПереселенцы с вышины,Что вам, как и ему, свободныеИ крылья, и душа даны…В четвертой строфе – ошибка мотылька:
– Не рождены вы для вниманья,Вам не понятен чувства глас и проч.и приговор поэта цветам:
Пускай нее к вам, резвясь, ласкается,Как вы, минутный ветерок:Иною прелестью пленяетсяБессмертья вестник, мотылек…»Предпоследний стих опять приводится Пушкиным немного далее.
173
Здесь изображены разные типографские украшения, бывшие тогда в моде
174
с красной строки (франц.). – Ред.
175
в буквальном смысле слова (франц.). – Ред.
176
Печатаются: Темные истории, 1 том in 8°. – Алоиз, или Завещание Ровера (франц.). – Ред.
177
В 1824 году, в то время как книгопродавец Смирдин только что купая за 3000 р. ас. все издание «Бахчисарайского фонтана», напечатанного кн. Вяземским, Пушкин получает известие в Одессе, что поэма его уже читается в рукописях почти всем Петербургом. Пушкин пришел в неописанное волнение и начертил два сильных выговора брату и друзьям своим. Вот первый: «Вот что пишет ко мне Вяз<емск>ий:
«В «Благонамеренном» читал я, что в каком-то ученом обществе читали твой «Фонтан» еще до напечатания (на что это похоже?) и что в П<етер>бурге ходят тысячи списков с него. Кто ж после будет покупать? Я на совести грека не имею и проч.».
Ни я. Но мне скажут: а какое тебе дело? Ведь ты взял свои 3000 р., а там хоть трава не расти. Все так, но жаль, если книгопродавцы, в первый раз поступившие по-европейски, обдернутся и останутся внакладе; да вперед невозможно и мне будет продавать себя с барышом. Таким образом, обязан я про все, друзьям моей славы – ч<ерт> их возьми и с нею! Тут смотри как бы (с голоду не околеть), а они кричат слава! Видишь, душа моя, мне на всех вас досадно. Требую от тебя одного – напиши мне, как «Фонтан» расходится, или запишусь в гр<афы> Х<востов>ы и сам раскуплю половину издания»{823}. – Вот второй выговор: «… были бы деньги, а где мне их взять? Что до славы, то ею мудрено довольствоваться… Слава льстить может какому-нибудь В. К<озло>ву, которому льстят и петербургские знакомства, а человек немного порядочный презирает и тех, и других. Mais pourquoi chantaistu? (Но почему ты пел? (франц.). – Ред.) На сей вопрос Ламартина отвечаю: я пел, как булочник печет, портной шьет, К<озло>в пишет, лекарь морит – за деньги!.. Пл<етне>в пишет мне, что «Бахчисарайский фонтан» у всех в руках. Благодарю вас, друзья мои, за ваше милостивое попечение о моей славе!.. Остается узнать, раскупится ли хоть один экземпляр печатный теми, у которых есть полные рукописи, но это безделица. Поэт не должен думать о своем пропитании, а должен, как Кор<нилови>ч, писать, с надеждою сорвать улыбку прекрасного пола!..»{824} Та же, впрочем, история повторилась и с «Цыганами», со 11-й главой «Онегина» и со многими другими произведениями поэта и опять вызвала словесные и письменные укоры его. Пушкин никак не мог понять, что мудрено было удержать в секрете новинку, вышедшую из-под пера его, как только попадалась она в чьи-либо руки
178
Темный намек на нее заключает одно стихотворение В. Туманского, которое мы нашли а альманахе «Северная лира» на 1827 <г.>, изд. гг. Раича и Ознобишина. Стихотворение имеет такое оглавление: «На кончину Р…. Сонет. Посвящ. А.С. Пушкину». Выписываем первые стихи сонета:
Ты на земле была любви подруга:Твои уста дышали слаще роз,В живых очах, не созданных для слез,Горела страсть, блистало небо Юга.В конце сонета является пометка: «Одесса, Июль, 1825»{825}
179
Господину Дау (англ.). – Ред.
180
Но как он вздрогнул, как воспрянул,Когда пред ним внезапно грянулУпадший гром! и проч.181
Точки заменяют и не дописанные Пушкиным, и не разобранные нами стихи
182
Мысль этого стихотворения воспроизведена была потом в антологической пьесе «Рифма», принадлежащей уже к 1830 году.
183
Известны эпиграммы Пушкина на «Вестник Европы», которыми утешал он самого себя и людей, задетых суждением журнала{826}, но это еще не полный пример страстного увлечения в споре. Сам «Вестник Европы» великодушно перепечатал из «Сына отечества» (1820, № 2) послание к себе, где первые два стиха содержат резкое обращение в лицу, едва прикрытое литературным оборотом{827}. Послание принадлежало перу одного из почетнейших наших писателей и остается примером полемических уклонений. Мы уже об нем упоминали. Кроме стихов, Пушкин написал еще целую довольно большую статью в прозе против направления журнала, напечатанную в «Северных цветах» на 1830 год под названием «Отрывок из литературных летописей». Она не вошла в последнее посмертное собрание его сочинений 1838–41 (гг.) по правилу, принятому тогда, исключать все полемические статьи, рожденные современными спорами, правилу, которого и настоящее издание придерживается. Замечательно, однако ж, что посмертное издание, собрав эпиграммы Пушкина, касавшиеся «Вестника Европы», откинуло все, к нему не относившиеся, каковы две напечатанные в альманахе «Денница» (1831){828}, одна в журнале «Московский наблюдатель» (1836, том VII) под названием «Синоним: Гостиная, Салон{829}, одна в «Антологии» М. Яковлева 1828 года под названием «Русскому Икару» и проч.{830} Этим нарушалась верность принятой системе.
184
Правописание журнала сохранено в выписках наших
185
Настоящий недостаток поэмы состоял в двойственности ее плана, и это было замечено тогда же критиком, написавшим «Обозрение литературы» в альманахе «Денница» на 1831 год{831}. Всю историю любви Марии считал он отдельной поэмой, которая вредит впечатлению, оставляемому настоящей исторической поэмой. К этому можно прибавить, что в подобных случаях недостаток чувствуется тем сильнее, чем ярче и превосходнее краски эпизода, поднятого на высоту, ему не свойственную. Пушкин сам показал в «Медном всаднике» пример, как должно вводить в историческую раму частное лицо и событие








