
Замечательное десятилетие. 1838–1848
С недоразумениями подобного рода мне приходилось встречаться не раз и потом, и слышать, например от Герцена, остроумные выходки против манеры католических живописцев помещать святых на облаках в сидячем положении, низводить ангелов на землю и заставлять их играть на арфах, лютнях и скрипках и проч. и проч. Все это казалось крайне ненатуральным и чудовищным тем самым людям, которые в литературных произведениях нисколько не возмущались, когда встречали описания снов, тайных разговоров влюбленных, мимолетных психических ощущений, что все должно бы оставаться, по-настоящему, секретом и для авторов, которые сами не могли ничего подобного ни подглядеть, ни подслушать. То кажется несомненным, что для понимания как литературных, так и пластических созданий необходимо свыкнуться с их обычными приемами, помириться с нелогичностью некоторых из них и признать в них авторитетную силу для своей мысли. Но подчиненность такого рода особенно противна, когда она является не в виде навыка, полученного с незапамятного времени, а требуется прежде всего от человека как начало премудрости, без которого нечего и приступать к суждению о предметах искусства. Может быть, это обстоятельство именно и подсказало оригинальное решение Белинскому, когда, прибыв в Кельн, он не пожелал видеть знаменитой абсиды его собора, тогда еще не достроенного. Он мимоходом взглянул на нее снаружи, уже проездом на станцию железной дороги, и только сказал: «Обширное помещение, нечего сказать, для католической идеи, которая там должна была проживать».
Париж оказался уже не под силу Белинскому. С первых же дней лихорадочное движение толпы, днем и ночью шумящие и ослепляющие кафе и магазины, суета и говор, восстающие с раннего утра, и толки, перекрестным огнем раздающиеся со всех сторон, утомили его скорее, чем я ожидал. Проехав по улицам и площадям Парижа, побывав несколько (немного) раз в его операх и театрах, он почувствовал почти тотчас же необходимость скрыться куда-нибудь от этого неумолкающего праздника. Он нашел два приюта: за письменным столом в своей комнате, на котором писал много и долго к жене, во-первых, и в семье Герцена, где М. Ф. Корш и хозяйка окружали его попечениями и успевали разглаживать морщины, наведенные усталостью от зрелища мятущихся людей, целей и намерений которых угадать нельзя.
Впечатление, произведенное на него Парижем, было вообще, так сказать, удивленно-грустное. «Все в нем, – говорил Белинский, – должно принимать громадные размеры: алчность, разврат и легкомыслие, так же точно как и разработка идей и знаний, и благородные порывы, и стремления, да разобраться в этом омуте и узнать, чего в нем больше, – дело очень трудное». Он не раз спрашивал у друзей, в самом ли деле необходимы для цивилизации такие громадные, умопомрачающие центры населения, как Париж, Лондон, и др.
Конечно, окружающие Белинского поспешили открыть ему те источники, которыми питается движение Парижа, так много удивившее его, – именно музеи, лекции, сходки и проч. Белинский следовал покорно за своими вожатаями, но, видимо, смотрел на это как на исполнение долга, как на нечто схожее с праздничными визитами по начальству. Не трудно было подметить его благодарный взгляд всякий раз, когда его освобождали от этого своего рода спешного наглядного обучения и заменяли его сокращенным изложением того или другого любопытного явления в литературе, науке или жизни. Всего более интересовался он вопросом, какого результата в будущем следует ожидать от всех этих начинаний, к каким положительным выводам можно прийти относительно дальнейшего развития цивилизации уже и теперь, на основании существующих данных, – словом, как велика сумма общечеловеческих надежд, носимых в себе всей этой видимой культурой? Ответов получено было много и большею частью самых благоприятных для грядущих поколений, за исключением только мнения Герцена по этому предмету, которое особенной веры в силу современных людей и их способности к прогрессу не обнаруживало. Белинский оставался, таким образом, между двумя противоположными суждениями о предмете, который его занимал. Не считая самого себя достаточно подготовленным для разрешения вопроса собственной мыслью, он покинул Париж с неясным представлением дела, которое делал город. Да и кто мог тогда ясно видеть, что готовится в нем, или предсказать, что несет ему ближайший наступающий день истории?
Вообще насколько становился Белинский снисходительнее к русскому миру, настолько строже и взыскательнее относился к заграничному. С ним случилось то, что потом не раз повторялось со многими из наших самых рьяных западников, когда они делались туристами: они чувствовали себя как бы обманутыми Европой, смотрел и на нее с упреком, как будто она не сдержала тех обещаний, какие надавала им втихомолку. Это обычное явление объясняется довольно просто. Сухая, деловая, часто ограниченная и невежественная и всегда мелочная плутоватая толпа новых людей первая встречала за границей путешественников и, случалось, довольно долго держала их в среде своей, прежде чем они переходили к явлениям и порядкам высшего строя жизни. Но тогда они уже расположены были требовать у последних отчета за всю виденную прежде пошлость и возлагать на эти явления ответственность за все то безобразное и ничтожное, которое не было уничтожено их влиянием. Белинский не избег общей участи путешественников. Под впечатлением скучного процесса своего лечения и особенно под впечатлением зрелища громадной людской массы, не имеющей и предчувствия тех идей и начал, которые возвещались миру от ее имени, Белинский давал мрачный отчет о заграничном своем житье-бытье друзьям в Москве – и напугал их. Им показалось, что он может вернуться домой скептиком по отношению к европейской культуре вообще и в дальнейшей своей деятельности, даже нехотя и против своей воли, способствовать при таком настроении распространению надменных взглядов на западную цивилизацию, уже существующих в русском обществе. Опасения свои они сообщили и самому Белинскому. Один из них – В. П. Боткин – писал:
«Москва. 19 июля 1847. Сегодня получил твое письмо из Дрездена, милый мой Виссарион… Понимаю твое отвращение от Германии, Белинский, – очень понимаю, хоть и не разделяю его. Я не могу жить в Германии, потому что немецкая общественность не соответствует ни моим убеждениям, ни моим симпатиям, потому что нравы ее грубы, что в ней мало такта действительности и реальности и так далее, но я не изрекаю ей такого приговора, как ты, и относительно дурных и хороших сторон народов придерживаюсь несколько эклектизма. Понимаю твою скуку; я и здоровый захворал бы от скуки, проведя полтора месяца в Германии, а ты еще провел их в Силезии, в Сальцбрунне! Париж, я надеюсь, постоит за себя. Но зачем тебе видеть там одних только конституционных подлецов? Там есть много такого, что посущественнее и поинтереснее их. Политические очки не всегда показывают вещи в настоящем свете, особенно если эти очки сделаны из принятых заочно доктрин. Часто и доморощенные доктрины заставляют городить вздор (что доказывает книга Луи Блана; с твоим умным мнением о нем совершенно согласен), а беда, если наш брат приезжает в страну с заранее вычитанною доктриною… Получа твое письмо, я тотчас побежал поделиться им с Коршем и сегодня пошлю его к Грановскому… Ты получил письмо от Гоголя? По рассказам, это письмо показывает, что Гоголь потерял наконец смысл к самым простым вещам и делам… Сейчас получаю твое ко мне письмо обратно от Грановского; он недоволен им и боится, чтобы ты с твоей теперешней точки зрения на Германию и Францию не стал бы писать о них, воротясь в Россию. В самом деле, это было бы большим торжеством для наших невежд и мерзавцев. О цензурных обстоятельствах, надеюсь, тебе сообщил уже Некрасов, и ты, конечно, уже знаешь, что теперь Ж. Занд не будет читаться на русском языке…» и т. д.{213}.
Не трудно было окружающим Белинского, к которым московские друзья тоже обращались с запросами о нравственном его состоянии, разъяснить, что в основании всех его нареканий на заграничную жизнь лежит совсем не враждебное Европе чувство, а скорее чувство нежное к ней, раздосадованное только тем именно, что должно сдерживать, ограничивать себя и подавлять свои порывы.
Настроение, однако же, не прошло у Белинского бесследно.
О мозговом раздражении русской либеральной колонии, с ее заботами об устроении для себя наилучшего умственного комфорта, причем, конечно, не могли быть забыты ею и эффектные подробности из современных открытий, уже и говорить нечего. Белинский не обратил на колонию никакого внимания, как на дело, известное ему по опыту и у себя дома[52].
Мы слышали, что позднее и уже находясь в Петербурге, Белинский принял известие о революции 48 года в Париже почти с ужасом. Она показалась ему неожиданностию, оскорбительной для репутации тех умов, которые занимались изучением общественного положения Франции и не видели ее приближения. Горько пенял он на своих парижских друзей, даже и не заикнувшихся перед ним о возможности близкого политического переворота, который, как оказалось, и был настоящим делом эпохи. Этот недостаток предвиденья, по мнению Белинского, превращал людей или в рабов, или в беззащитные жертвы одного внешнего случая. Упреки были справедливы, но надо сказать, что окончательная форма переворота была неожиданностию и для тех, кто его устроил.
Жена Герцена, по инстинкту женского сердца, поняла, между прочим, Белинского, заехавшего в Париж, лучше и скорее всех других. Она собрала маленькую и хорошо подобранную коллекцию «образовательных» игрушек, уже существовавших тогда в Париже, хотя и без систематизации их, и подарила ее дочери Белинского. Между подарками были зоологические альбомы с великолепными рисунками животных всех поясов земли, которыми Белинский не уставал восхищаться. Он мечтал о воспитании дочери на естествознании и точных науках. Между прочим, он в это время нашел игрушку и для самого себя. Фланируя по улицам, он наткнулся в одном магазине готовых платьев на изумительно пестрый халат с огромными красными разводами по белому фуляровому полю и влюбился в него. Халат был именно той выставочной вещью, которую магазины нарочно заказывают с целью огорошить проходящего и остановить его перед своими зеркальными стеклами. Белинский почувствовал род влечения к этому предмету, долго колебался и наконец купил его, серьезно растолковывая нам, что предмет совершенно необходим ему для утренних работ в Петербурге. Подробность заслуживает упоминовения потому, что этот несчастный халат наделал потом много хлопот ему и мне.
По мере того как приближалось время к отъезду Белинского в Россию, о чем он уже стал мечтать чуть ли не со дня своего появления в Париже, возникал вопрос о способах удобнейшего отправления его на родину, так как предоставить Белинского самому себе в этом деле не было возможности по малой его опытности и неспособности беседовать на иностранных диалектах. Решение вопроса было уже принято, когда представилась возможность дать Белинскому благонадежного сопутника и вместе оказать услугу честному старику, занимавшему важную в Париже должность portier – привратнику в нашем доме. Старика, очень строгого к простым жильцам, которые поздно возвращались домой, и привязавшегося к русским своим пансионерам как-то страстно и безотчетно, звали Фредерик. Он был родом немец из Саксонии, свершил поход 12 года в Россию с армией Наполеона, попал в ординарцы к губернатору Москвы маршалу Даву, что и помогло ему возвратиться целым и невредимым в Париж, где он и поселился. Он охотно, особенно под хмельком, рассказывал об ужасах, какие он видел на пути в Россию и из России и в Москве. Вместе с тем он сгорал желанием побывать на родине (где-то около Лейпцига), которой не видал уже более 35 лет, и когда я предложил ему, под условием сперва довезти моего приятеля до Берлина, посетить на наш счет свой фатерланд и затем возвратиться назад к месту, которое покамест будет блюсти его супруга (толстая и величественная баба), старик как-то присел, положил обе руки между колен и, легко подпрыгивая, мог только несколько раз промычать: «Oui, monsieur! Ah, monsieur!..» Для Белинского нашелся надежный проводник, говоривший по-немецки и по-французски и готовый беречь его особу и особенно его кошелек, как честь знамени или пароль, полученный от своего шефа.
В Париж пришел также и ответ Гоголя на письмо Белинского из Зальцбрунна. Грустно замечал в нем Гоголь, что опять повторилась старая русская история, по которой одно неосновательное убеждение или слепое увлечение непременно вызывает с противной стороны другое, еще более рискованное и преувеличенное, посылал своему критику желание душевного спокойствия и восстановления сил и разбавлял все это мыслями о серьезности века, занимающегося идеей полнейшего построения жизни, какого еще и не было прежде. Что он подразумевал под этим построением, письмо не высказывало и вообще не отличалось ясностью изложения. Белинский не питал злобы и ненависти лично к автору «Переписки», прочел с участием его письмо и заметил только: «Какая запутанная речь; да, он должен быть очень несчастлив в эту минуту».
День отъезда из Парижа, после предварительного совещания с друзьями, был назначен окончательно{214}. Накануне его, вечером, Белинский посидел еще раз на любимом своем месте, на мраморных ступеньках террасы, окружающей площадь Согласия, de la Concorde, задумчиво смотря на лукзорский обелиск посреди площади, на Тюльери, выступавший фасадом и куполом из каштанового сада своего, на мост через Сену и Бурбонский дворец за ним, обратившийся в палату депутатов, и вспоминая страшные сцены и драмы, некогда разыгрывавшиеся в этих местах. Поздно ночью, после прощания у Герцена, возвратились мы домой. Все было там уложено и приготовлено с помощью Фредерика, и на другой день в 5 часов утра мы были уже на ногах, а в половине 6-го – ив карете, которая должна была доставить нас на дебаркадер дальней северной железной дороги. Уже подъезжая к ней и за какие-нибудь четверть часа до отхода самого поезда, мне вздумалось спросить Белинского: «Захватили ли вы халат?» Бедный путешественник вздрогнул и глухим голосом произнес: «Забыл, он остался в вашей комнате, на диване». – «Ну, – отвечал я, – беда небольшая, я вам перешлю его в Берлин». Но упустить халат из рук показалось Белинскому невыносимым горем. Надо было видеть ту печальную мину и слышать тот умоляющий голос, с которыми он сказал мне: «Нельзя ли теперь?» Отказать ему не было возможности без уничтоженья в его уме всех приятных впечатлений вояжа. Я призвал на помощь русское авось, остановил карету и послал Фредерика скакать в первом попавшемся фиакре домой что есть мочи, подобрать халат и застать нас еще на станции. Простее было бы отложить поездку до завтра, но мной завладел тоже некоторого рода азарт и желание одолеть помеху во что бы то ни стало. Русское авось, однако же, изменило на этот раз. Я едва успел взять билет для Белинского, распорядиться с его багажом, как пробил третий звонок, а Фредерика не было. Известно, что на французских дорогах царствует или царствовал военный распорядок, так что под криками и командами кондукторов мне всегда казалось, что я скорее на бастионе крепости, чем на мирном дебаркадере железной дороги. На этот раз командующие бастионом были еще суровее обыкновенного. В растворенную дверь настежь по третьему звонку гнали они теперь толпу пассажиров на террасу с таким неистовством, что можно было подумать, нет ли у нас сзади неприятельской артиллерии и казаков: «Allez, passez, dépechez-vous!»[53] Я шепнул Белинскому, чтоб оставил адрес свой в Брюсселе на станции и ждал там Фредерика; затем его втиснули в толпу, из которой он вылетел на террасу, но меня, как не имеющего билета, уже не пустили туда: права провожать своих знакомых и родных граждане Парижа тогда не имели, да, кажется, и теперь не имеют. Что происходило затем с Белинским на террасе, он описал мне потом из Брюсселя. Измученный, надорванный шумом, суетой, толчками, он остановился с билетом в руках на террасе, тяжело дыша и не зная, куда направиться. Тут усмотрел его один из бешеных кондукторов, рыскавших на террасе, заметил билет и с восклицанием:»Маis que faites vous là, sacrebleu?»[54] потащил его за руку и бросил в первый попавшийся вагон поезда, который уже тронулся. Так он и доехал до Брюсселя, но на пути повстречался с новым происшествием. Бельгийская таможня, раскрыв его чемодан, увидала коллекцию игрушек, подлежащую пошлине, и потребовала от него определения ценности этого добра. Вместо ответа, Белинский стал объяснять, как умел, что ценности вещей не знает, так как это подарок одной прекрасной дамы в Париже и т. д., а наконец и вовсе замолчал. Надо отдать справедливость таможенному чиновнику: посмотрев на немого и сконфуженного человека, который стоял перед ним, он прозрел, что имеет дело не с контрабандистом и, захлопнув чемодан, не взял никакой пошлины. Белинский изъяснял иначе великодушие чиновника, и довольно уморительным образом: «Догадавшись, что я глуп до святости, – писал он, – он сжалился надо мной и оставил меня в покое»{215}. На другой день Фредерик, чуть не плакавший от неудачи, повез ему в Брюссель знаменитый халат, легко отыскал там многострадального путешественника, благополучно препроводил его в Берлин, где и сдал с рук на руки Д. М. Щепкину, молодому, рано умершему и замечательному ученому по археологии и мифологии{216}. В Петербург Белинский явился, к изумлению и радости своих знакомых, гораздо свежее и бодрее, чем выехал из него, но радость их была непродолжительна…
Фото с вкладки

Н.В. Гоголь. Гравюра на стали Ф. Брокгауза

П.В. Анненков. Литография К.В. Горбунова, 1645 г.
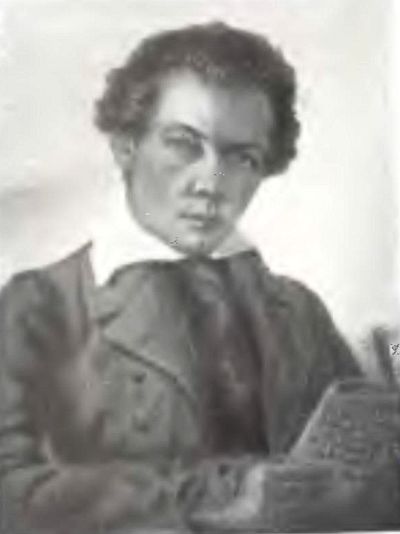
М.А. Бакунин. Акварель неизвестного художника, 1838 г.

А.И. Герцен. Рис. А.Л. Витберга, 1836 г.
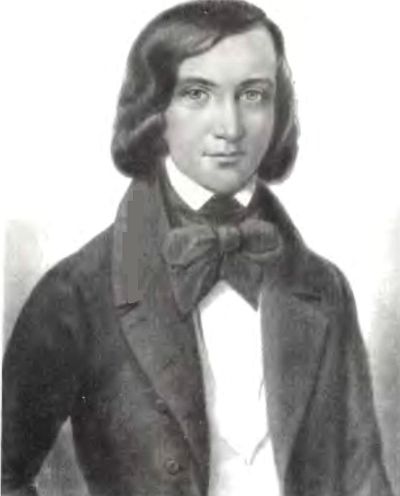
Н.В. Станкевич. Акварель Беккер.

Т.Н. Грановский. Литография И. Бореля.

Н.Г. Чернышевский. Фотография В. Лауфферта, 1859 г.

Н.А. Добролюбов. Литография И. Бореля.

А.В. Дружинин.

В.П. Боткин. Фотография, 1856 г.

В.Г. Белинский. Акварель К.А. Горбунова, 1838 г.
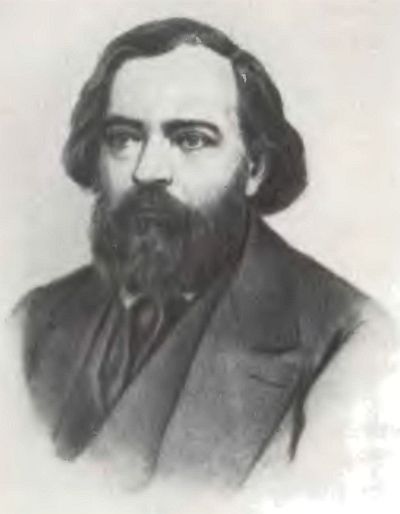
Н.Н. Огарев. Гравюра конца 1830-х гг.

Ап. Григорьев. Фотография конца 1850-х гг.

С.Т. Аксаков. Гравюра с литографии И. Бореля, 1859 г.

И.И. Панаев. Литография И. Бореля.

И.А. Гончаров. Литография 1847 г.
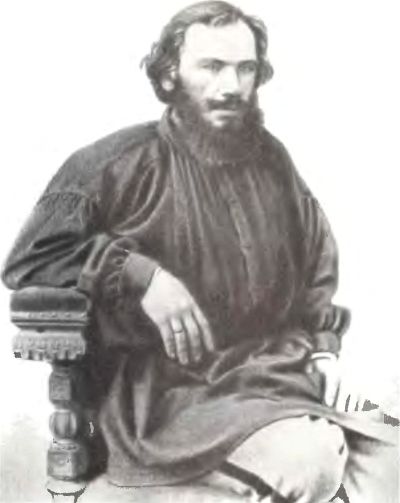
Л.Н. Толстой. Фотография 1868 г.
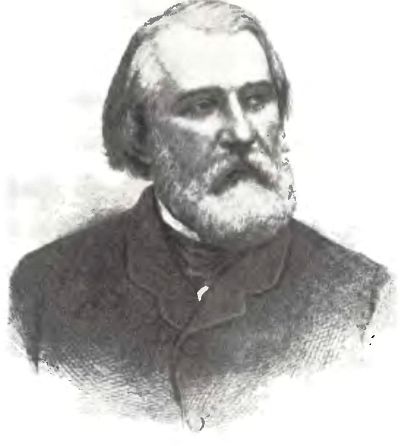
И.С. Тургенев. Фотография 1856 г.
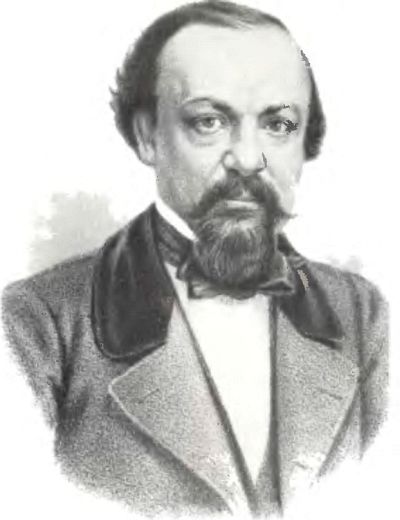
А.Ф. Писемский. Литография В. Бахмана, 1860-е гг.
Примечания
В «Замечательном десятилетии» наиболее ярко проявилось свойство Анненкова-мемуариста, подмеченное И. С. Тургеневым, его «энциклопедически-панорамическое перо» (см. письмо к Анненкову от 15/27 февраля 1861 г.). Сложность темы, многоплановость материала обусловили и форму воспоминаний – членение их на массу небольших главок, содержащих то живые зарисовки, то критические экскурсы и раздумья автора.
Анненков долго вынашивал «Замечательное десятилетие». Поначалу, как всегда у Анненкова, это были «разбросанные заметки», отдельные наблюдения и мысли, которые он заносил на бумагу по мере их возникновения. По-видимому, ими то он и пользовался, рассказывая П. Г. Чернышевскому в начале пятидесятых годов о Белинском. И лишь впоследствии, уже в семидесятых годах, из этих разбросанных заметок стало складываться «нечто органическое».
Судя по переписке, Анненков вплотную приступил к созданию «Замечательного десятилетия» осенью 1875 г., после свидания с Пыпиным летом этого же года в Петербурге и по его настоятельному совету (см. письмо Анненкова Стасюлевичу от 25/13 марта 1876 г. – Стасюлевич стр. 321–322).
Однако в начале XXV главы «Замечательного десятилетия», рассказывающей о жизни в Соколове в 1845 г., есть такая фраза: «Лето 1845 года оставило во мне такие живые воспоминания, что я и теперь (1870 год), по прошествии с лишком 25-ти лет…» и т. д.
Трудно поверить, что это «опечатка», не замеченная ни Анненковым, ни редакторами. Не правильнее ли будет предположить, что мемуарист приступил к созданию этих воспоминаний около 1870 г., в связи со смертью Герцена.
За несколько месяцев до этого (в июле – августе 1869 г.) Анненков встречался в Аахене с больным В. П. Боткиным, внимательно расспрашивал его о Белинском, желая вызвать на воспоминания, читал письма Белинского к В. Боткину. Характерен и тот факт, что накануне смерти В. П. Боткину читали биографию Станкевича, написанную Анненковым, и он пополнял ее своими замечаниями (см. об этом Анненков и его друзья, стр. 578, 580). В этом же году Анненков вел корректуру воспоминаний И. С. Тургенева о Белинском, и это тоже не могло не оживить его личных воспоминаний из дорогой для него эпохи сороковых годов.
Второй этап работы Анненкова над «Замечательным десятилетием» связан с замыслом А. Н. Пыпина в начале семидесятых годов создать монографию о Белинском. В числе других лиц, близко знавших критика, Пыпин обратился и к Анненкову. Оживленная и содержательная переписка, завязавшаяся между ними (см. ЛН, т. 57, стр. 304–309 – сообщение Т. Ухмыловой, и т. 67, стр. 539–554 – публикация К. П. Богаевской), а затем и самая монография Пыпина, которая стала печататься в 1874 г. в «Вестнике Европы» с 3-й книжки, открыли Анненкову «многое совершенно новое» для него «и положительно объясняющее то, о чем» он «только догадывался». «Все эти откровения, – писал Анненков Стасюлевичу, – приводят в порядок собственную нашу мысль» (Стасюлевич, стр. 311).
Анненков тщательно выверял факты, используя богатейшую переписку свою и чужую, изучал журнальную полемику тех лет, делал попытку, но, очевидно, безуспешную, познакомиться с пятой частью «Былого и дум» Герцена, тогда не опубликованной. А когда работа в основном была завершена, Анненков на различных стадиях поправок и переделок знакомил с нею Стасюлевича, Пыпина, близких друзей Белинского – Н. Н. и А. П. Тютчевых и, наконец, И. С. Тургенева (сентябрь 1879 г.).
Известно, что летом 1879 г. Стасюлевич был у Анненкова в Бадене, чтобы вместе с автором договориться об исключении из рукописи целого ряда мест «для многих страниц» еще до представления воспоминаний в официальные инстанции. Насколько существенны были исключения, сделанные в рукописи Стасюлевичем и Анненковым, мы не знаем. Но обращает на себя внимание хотя бы такой факт: если судить по нумерации глав, то и в журнальной публикации, и в издании «Замечательного десятилетия» в третьем томе Воспоминаний и критических очерков (1881) отсутствуют X XI и XXII главы, в которых, по логике, речь должна была идти о «натуральной» школе. Были ли эти главы недописаны самим Анненковым или они почему-либо исключены авторам и Стасюлевичем перед публикацией – неизвестно, но вряд ли такого рода пробел объясняется авторским и редакторским промахом.
Появлению «Замечательного десятилетия» в печати во многом способствовали широкие знакомства Анненкова и Стасюлевича в правительственных сферах, в частности ходатайство за воспоминания Анненкова М. Н. Островского (брата драматурга), тогда товарища министра, перед Л. С. Маковым, тогда министром внутренних дел, и И. В. Гурко, тогда временным петербургским генерал-губернатором (см. об этом Стасюлевич, стр. 370–371). Сыграло свою роль и общее ослабление строгостей цензурного режима в период второго демократического подъема (1879–1881).








