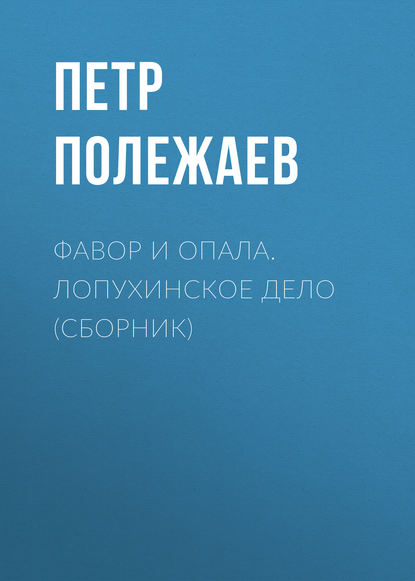По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Фавор и опала. Лопухинское дело (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зачем я не умерла! Без меня вы были бы счастливее, – тоскливо повторила Анна Леопольдовна, как повторяла она это в последнее время очень часто. – С детства я была в тягость и другим; кто ко мне бывал добр, тому я всегда приносила несчастье!
– Что за вздор, милая Анна, кому же ты принесла несчастье? – отозвалась Юлиана, подняв от работы свежее личико, которое успела состроить на веселый тон, и незаметно утерев непрошено набежавшую на глаза слезу.
– Кому? Всем: воспитательнице своей, Волынскому, мужу, Остерману, Головкину, тебе… да и кто из близких не пострадал за меня? Мне всегда было грустно, я как будто предчувствовала свое будущее.
– Полно, ты больна, оттого тебе и грустно, а, право, наша жизнь не очень скучна. Василий Федорович какой смешной! Какая походка! Заметила ты, как он подходит? Точно его кто толкает сзади; а гримасы его заметила? Я нарочно вчера целое утро училась, да не сумела! Офицер тоже такой славный, я все с ним болтаю, да и солдаты все хорошие люди…
– Все хорошие, везде хорошие люди, – задумчиво проговорила принцесса, – а жить тошно.
– Вовсе не тошно, – не соглашалась Юлиана. – Теперь мы отдохнем, потом поедем в Германию, а потом…
– Что потом?
– Потом… мало ли что может случиться! Может, и ты воротишься на свое место.
– Никогда! – высказала Анна Леопольдовна резко, с особенной энергией, не подходящей к ее обыкновенной мягкости. – Что бы ни случилось, но я никогда не возьмусь за то, к чему вовсе не рождена, что для меня бремя не по силам и мука. Я была бы счастлива только вдали от света, шума, интриг, в кругу немногих лиц, с которыми мне приятно, которых люблю. Я не завидую кузине Лизе, напротив, – мне жаль ее.
– О себе, милочка, самой судить нельзя, особенно тебе: ты слишком мало ценишь себя. Разве тебя не любили все, кто тебя знал? Разве были недовольны твоим правлением? А что солдаты… так их горсть, и голос их – не голос народа. Я положительно знаю, что теперь все – и в Петербурге, и в Москве – недовольны Елизаветой Петровной, все жалуются. Солдаты грабят, буянят.
– Да откуда ты, Юля, знаешь это под замком и в четырех стенах?
– Во-первых, ко мне Василий Федорович милостив и не только позволяет выходить, разговаривать с офицерами, но даже и сам любит беседовать со мной; во-вторых, у меня есть смекалка, и из полуслова, какого-нибудь намека я догадываюсь обо многом. Кроме того, у меня ведется и корреспонденция…
В соседней комнате послышались шаги, и по особенной манере в походке обе женщины догадались о предстоящем посещении своего охранителя Василия Федоровича Салтыкова.
Действительно, в походке Салтыкова была оригинальная особенность, напоминавшая первые шаги от толчков сзади. Притом же Василий Федорович немного заикался, а потому и в разговоре его лицевые мускулы около рта, конвульсивно сокращаясь, производили довольно комическую гримасу, похожую на лукавое подмигивание детей.
– В-в-ваше в-высочество… в-в-ваша светлость, – гримасничал Василий Федорович, расшаркиваясь перед принцессой и смущаясь.
Во всю дорогу он не мог решить весьма важного вопроса, как титуловать Анну Леопольдовну – как бывшую ли принцессу-правительницу, мать императора, или как простую немецкую княгиню. Этот вопрос не предвиделся и не разрешался инструкцией, а в практике возникло недоразумение: в качестве изгнанницы принцесса становилась простою немецкой княгинею, а между тем у нее не было отобрано ни Андреевского ордена, ни ордена святой Екатерины.
– Сию минуту с гонцом я получил повеление моей всемилостивейшей государыни, – продолжал, заикаясь, Василий Федорович, стараясь обходить по возможности вопрос о титулах.
Принцесса помертвела и поднялась с места.
– Я готова, граф, выслушать приказание вашей и моей государыни.
– Ее величество моя государыня приказывает мне немедленно же озаботиться отправлением в-в-вашего высочества… светлости… с супругом и детьми за границу.
– Наконец-то, слава богу! – радостно и в один голос вскрикнули обе женщины.
– С условием только, – тише и с некоторым колебанием продолжал Василий Федорович, – с условием…
– Заранее согласна на все условия, – перебила Анна Леопольдовна, – лишь бы быть на свободе! Говорите скорее, граф, какие условии?
– В-в-ваша светлость вместе с супругом благоволите подписать присланное из Москвы обещание за вашего сына и прочих детей никогда не предъявлять никаких претензий на всероссийский престол.
– Ка-а-ак? Отречение?! За себя я готова подписать что угодно, но за детей я никаких обещаний не имею права давать.
– О ваших правах государыня не упоминает.
– Не упоминает?! – заговорила принцесса с тем раздражением, которое проявляется у людей застенчивых, когда внутреннее волнение вдруг стряхивает робость и прорывается судорожным криком. – Не упоминает?! А кто из нас имеет более прав? Если я до сих пор не предъявляла своих прав, то единственно по своей воле… Я и теперь не желаю короны… Юлиана, приведите сюда мужа и сына – я хочу отвечать в их присутствии.
Через несколько минут воротилась Юлиана с ребенком – императором Иваном на руках, а за нею вошел и принц Антон.
– Ее величество императрица Елизавета Петровна требует от нас подписать отречение от законных прав за наших детей. Скажите свое мнение, принц! – обратилась к мужу Анна Леопольдовна.
– Мне кажется… я… лицо постороннее, – бормотал принц, стараясь разгадать, какое именно было мнение жены.
– Слышите, граф, и мой муж вам сказал то же самое. Мы относительно прав своих детей люди посторонние, а потому и не можем давать за них никаких обещаний. Отпишите об этом государыне.
Ребенок тоже, казалось, подтверждал слова матери. Протянув к ней пухленькие ручонки и широко раскрыв большие голубые глазки, он тянулся к ней, как к самой верной охране, не подкупаемой никакими интересами. И с какой страстностью мать, выхватив из рук Юлианы своего сына, прижала его к груди и целовала!
Василий Федорович получил полный отказ, но не уходил; видно было, что его миссия не совсем еще кончена, что оставалось нечто, и нечто серьезное, отчего сильнее дергалось его рябоватое лицо и хлопотливее мигали глаза, как будто стараясь спровадить назад некстати выступившую гостью.
– Подумайте, в-в-ваше высочество! Я могу подождать несколько дней.
– Ни теперь, ни после и никогда не услышите другого ответа от матери!
– Подумайте, в-в-ваше высочество! – настаивал Василий Федорович. – Если вы согласитесь подписать отречение, то получите полную свободу на выезд за границу, где будет вам доставляться обещанное содержание; в противном же случае мне приказано не только остановить отправку, усилить караулы, но даже перевезти в крепость Дюнамюнд, где далеко не будет тех удобств, какими пользуетесь здесь.
– Не только, граф, в Дюнамюнд, но если б меня сослали в глубь Сибири, так и тогда я бы не дала другого ответа! – решительно заявила Анна Леопольдовна.
Затем, почувствовав, что нервное возбуждение, поддерживавшее в ней необыкновенную энергию, переходит в спазматическое сжатие горла, она поспешила отпустить Василия Федоровича, за которым, понурив голову, поплелся и принц Антон.
Юлиана осталась с другом, но потом, как будто вспомнив о чем-то, бросилась к выходу и выпорхнула, громко хлопнув за собою дверью.
С Анной Леопольдовной сделался истерический припадок, разразившийся рыданиями; она плакала долго, плакала судорожно, до тех пор, пока не воротилась Юлиана, вся радостная, сияющая, с клочком бумажки в поднятой руке.
– Хорошие вести, милочка, хорошие вести! – говорила она в дверях. – Письмо от Анны Гавриловны!
И, подбежав к принцессе, на лету расцеловав ее заплаканные глаза, принялась читать:
«Ты не можешь представить, милая Юлиана, – писала Анна Гавриловна, – как я за тебя беспокоилась. Мне за наверное передавали, будто Лесток настаивает у государыни подвергнуть тебя допросу с пыткой о каких-то замыслах принцессы. Так как из наших никого нет приближенными, то я и обратилась с просьбой к обер-гофмаршалу, моему мужу теперь. Ах да, ты не знаешь еще этой новости! Вот уже почти два месяца, как я замужем за Михаилом Петровичем Бестужевым. Трудно было мне при дворе без поддержки, а обер-гофмаршал представлялся выгодной партией. Разумеется, о любви не могло быть и речи в мои годы, хотя женщина ни в какие годы не отказывается от любви. Впрочем, он, кажется, любил меня, когда ухаживал, любил, может быть, и в первое время после свадьбы, но натура у моего мужа непостоянная, да притом Бестужевы слишком заняты своим личным интересом, чтобы думать о других. Брат его, вице-канцлер, был очень недоволен нашей свадьбой или показывал только вид.
Тебе, бедняжке, верно, хочется знать, что делается при дворе?
Мы танцуем, веселимся сколько хотим, а хотим мы веселиться всегда. Торжества, собрания, маскарады у нас почти каждый день, но все это не прежние собрания у нашей дорогой принцессы. Лесток по-прежнему всем управляет и наговаривает на вас; Бестужевы отстаивают; Алексею Петровичу удалось защитить тебя от розыска. Между Лестоком и вице-канцлером по этому случаю ссора. Отвечай мне с этим же человеком: он надежный. Напиши мне подробно, как вы живете, здорова ли принцесса, которой скажи, что я за нее всегда молюсь Богу.
Забыла передать еще новость: Шетарди уехал домой в Париж, уехал и маркиз Ботта в Петербург, а оттуда в Берлин. Маркиза жаль – он такой любезный и так любит принцессу. Скоро будем собираться в Петербург, откуда буду писать чаще. Забыла еще тебе сказать, о чем ты, верно, уж слышала, – у нас теперь еще другой двор, маленький дворик Петра Федоровича. Сам великий князь – лет шестнадцати, нелюбезный и несимпатичный».
– Как странно, Юлиана! – заметила принцесса, когда Юлиана кончила чтение, почти шепотом и с предварительным осмотром, нет ли кого за дверью. – Лестоку, мужу твоей родной сестры, я никогда никакого зла не сделала, напротив, была всегда внимательна, и никогда не отказывала кузине в деньгах, хоть и знала, что они пойдут на игру этого француза, Бестужевых же отсылала от двора, а теперь Лесток интригует против меня, а защищает Бестужев!.. Напиши Анне, что я благодарю ее и Бестужевых.
– Хорошо, хорошо. Об этом негодяе и развратнике Лестоке мне, милочка, никогда не напоминай; он хоть и муж моей сестры, да хуже чужого, а теперь – отчего ты не подписала обещания?
– Отчего? Да как же я могу лишать сына того, что ему должно и будет принадлежать по праву?
– Полно, милая, разве может к чему-нибудь обязывать клочок бумажки, вытянутый насильно! При сыне точно так же оставались бы его права, а мы были бы на свободе.
– Что за вздор, милая Анна, кому же ты принесла несчастье? – отозвалась Юлиана, подняв от работы свежее личико, которое успела состроить на веселый тон, и незаметно утерев непрошено набежавшую на глаза слезу.
– Кому? Всем: воспитательнице своей, Волынскому, мужу, Остерману, Головкину, тебе… да и кто из близких не пострадал за меня? Мне всегда было грустно, я как будто предчувствовала свое будущее.
– Полно, ты больна, оттого тебе и грустно, а, право, наша жизнь не очень скучна. Василий Федорович какой смешной! Какая походка! Заметила ты, как он подходит? Точно его кто толкает сзади; а гримасы его заметила? Я нарочно вчера целое утро училась, да не сумела! Офицер тоже такой славный, я все с ним болтаю, да и солдаты все хорошие люди…
– Все хорошие, везде хорошие люди, – задумчиво проговорила принцесса, – а жить тошно.
– Вовсе не тошно, – не соглашалась Юлиана. – Теперь мы отдохнем, потом поедем в Германию, а потом…
– Что потом?
– Потом… мало ли что может случиться! Может, и ты воротишься на свое место.
– Никогда! – высказала Анна Леопольдовна резко, с особенной энергией, не подходящей к ее обыкновенной мягкости. – Что бы ни случилось, но я никогда не возьмусь за то, к чему вовсе не рождена, что для меня бремя не по силам и мука. Я была бы счастлива только вдали от света, шума, интриг, в кругу немногих лиц, с которыми мне приятно, которых люблю. Я не завидую кузине Лизе, напротив, – мне жаль ее.
– О себе, милочка, самой судить нельзя, особенно тебе: ты слишком мало ценишь себя. Разве тебя не любили все, кто тебя знал? Разве были недовольны твоим правлением? А что солдаты… так их горсть, и голос их – не голос народа. Я положительно знаю, что теперь все – и в Петербурге, и в Москве – недовольны Елизаветой Петровной, все жалуются. Солдаты грабят, буянят.
– Да откуда ты, Юля, знаешь это под замком и в четырех стенах?
– Во-первых, ко мне Василий Федорович милостив и не только позволяет выходить, разговаривать с офицерами, но даже и сам любит беседовать со мной; во-вторых, у меня есть смекалка, и из полуслова, какого-нибудь намека я догадываюсь обо многом. Кроме того, у меня ведется и корреспонденция…
В соседней комнате послышались шаги, и по особенной манере в походке обе женщины догадались о предстоящем посещении своего охранителя Василия Федоровича Салтыкова.
Действительно, в походке Салтыкова была оригинальная особенность, напоминавшая первые шаги от толчков сзади. Притом же Василий Федорович немного заикался, а потому и в разговоре его лицевые мускулы около рта, конвульсивно сокращаясь, производили довольно комическую гримасу, похожую на лукавое подмигивание детей.
– В-в-ваше в-высочество… в-в-ваша светлость, – гримасничал Василий Федорович, расшаркиваясь перед принцессой и смущаясь.
Во всю дорогу он не мог решить весьма важного вопроса, как титуловать Анну Леопольдовну – как бывшую ли принцессу-правительницу, мать императора, или как простую немецкую княгиню. Этот вопрос не предвиделся и не разрешался инструкцией, а в практике возникло недоразумение: в качестве изгнанницы принцесса становилась простою немецкой княгинею, а между тем у нее не было отобрано ни Андреевского ордена, ни ордена святой Екатерины.
– Сию минуту с гонцом я получил повеление моей всемилостивейшей государыни, – продолжал, заикаясь, Василий Федорович, стараясь обходить по возможности вопрос о титулах.
Принцесса помертвела и поднялась с места.
– Я готова, граф, выслушать приказание вашей и моей государыни.
– Ее величество моя государыня приказывает мне немедленно же озаботиться отправлением в-в-вашего высочества… светлости… с супругом и детьми за границу.
– Наконец-то, слава богу! – радостно и в один голос вскрикнули обе женщины.
– С условием только, – тише и с некоторым колебанием продолжал Василий Федорович, – с условием…
– Заранее согласна на все условия, – перебила Анна Леопольдовна, – лишь бы быть на свободе! Говорите скорее, граф, какие условии?
– В-в-ваша светлость вместе с супругом благоволите подписать присланное из Москвы обещание за вашего сына и прочих детей никогда не предъявлять никаких претензий на всероссийский престол.
– Ка-а-ак? Отречение?! За себя я готова подписать что угодно, но за детей я никаких обещаний не имею права давать.
– О ваших правах государыня не упоминает.
– Не упоминает?! – заговорила принцесса с тем раздражением, которое проявляется у людей застенчивых, когда внутреннее волнение вдруг стряхивает робость и прорывается судорожным криком. – Не упоминает?! А кто из нас имеет более прав? Если я до сих пор не предъявляла своих прав, то единственно по своей воле… Я и теперь не желаю короны… Юлиана, приведите сюда мужа и сына – я хочу отвечать в их присутствии.
Через несколько минут воротилась Юлиана с ребенком – императором Иваном на руках, а за нею вошел и принц Антон.
– Ее величество императрица Елизавета Петровна требует от нас подписать отречение от законных прав за наших детей. Скажите свое мнение, принц! – обратилась к мужу Анна Леопольдовна.
– Мне кажется… я… лицо постороннее, – бормотал принц, стараясь разгадать, какое именно было мнение жены.
– Слышите, граф, и мой муж вам сказал то же самое. Мы относительно прав своих детей люди посторонние, а потому и не можем давать за них никаких обещаний. Отпишите об этом государыне.
Ребенок тоже, казалось, подтверждал слова матери. Протянув к ней пухленькие ручонки и широко раскрыв большие голубые глазки, он тянулся к ней, как к самой верной охране, не подкупаемой никакими интересами. И с какой страстностью мать, выхватив из рук Юлианы своего сына, прижала его к груди и целовала!
Василий Федорович получил полный отказ, но не уходил; видно было, что его миссия не совсем еще кончена, что оставалось нечто, и нечто серьезное, отчего сильнее дергалось его рябоватое лицо и хлопотливее мигали глаза, как будто стараясь спровадить назад некстати выступившую гостью.
– Подумайте, в-в-ваше высочество! Я могу подождать несколько дней.
– Ни теперь, ни после и никогда не услышите другого ответа от матери!
– Подумайте, в-в-ваше высочество! – настаивал Василий Федорович. – Если вы согласитесь подписать отречение, то получите полную свободу на выезд за границу, где будет вам доставляться обещанное содержание; в противном же случае мне приказано не только остановить отправку, усилить караулы, но даже перевезти в крепость Дюнамюнд, где далеко не будет тех удобств, какими пользуетесь здесь.
– Не только, граф, в Дюнамюнд, но если б меня сослали в глубь Сибири, так и тогда я бы не дала другого ответа! – решительно заявила Анна Леопольдовна.
Затем, почувствовав, что нервное возбуждение, поддерживавшее в ней необыкновенную энергию, переходит в спазматическое сжатие горла, она поспешила отпустить Василия Федоровича, за которым, понурив голову, поплелся и принц Антон.
Юлиана осталась с другом, но потом, как будто вспомнив о чем-то, бросилась к выходу и выпорхнула, громко хлопнув за собою дверью.
С Анной Леопольдовной сделался истерический припадок, разразившийся рыданиями; она плакала долго, плакала судорожно, до тех пор, пока не воротилась Юлиана, вся радостная, сияющая, с клочком бумажки в поднятой руке.
– Хорошие вести, милочка, хорошие вести! – говорила она в дверях. – Письмо от Анны Гавриловны!
И, подбежав к принцессе, на лету расцеловав ее заплаканные глаза, принялась читать:
«Ты не можешь представить, милая Юлиана, – писала Анна Гавриловна, – как я за тебя беспокоилась. Мне за наверное передавали, будто Лесток настаивает у государыни подвергнуть тебя допросу с пыткой о каких-то замыслах принцессы. Так как из наших никого нет приближенными, то я и обратилась с просьбой к обер-гофмаршалу, моему мужу теперь. Ах да, ты не знаешь еще этой новости! Вот уже почти два месяца, как я замужем за Михаилом Петровичем Бестужевым. Трудно было мне при дворе без поддержки, а обер-гофмаршал представлялся выгодной партией. Разумеется, о любви не могло быть и речи в мои годы, хотя женщина ни в какие годы не отказывается от любви. Впрочем, он, кажется, любил меня, когда ухаживал, любил, может быть, и в первое время после свадьбы, но натура у моего мужа непостоянная, да притом Бестужевы слишком заняты своим личным интересом, чтобы думать о других. Брат его, вице-канцлер, был очень недоволен нашей свадьбой или показывал только вид.
Тебе, бедняжке, верно, хочется знать, что делается при дворе?
Мы танцуем, веселимся сколько хотим, а хотим мы веселиться всегда. Торжества, собрания, маскарады у нас почти каждый день, но все это не прежние собрания у нашей дорогой принцессы. Лесток по-прежнему всем управляет и наговаривает на вас; Бестужевы отстаивают; Алексею Петровичу удалось защитить тебя от розыска. Между Лестоком и вице-канцлером по этому случаю ссора. Отвечай мне с этим же человеком: он надежный. Напиши мне подробно, как вы живете, здорова ли принцесса, которой скажи, что я за нее всегда молюсь Богу.
Забыла передать еще новость: Шетарди уехал домой в Париж, уехал и маркиз Ботта в Петербург, а оттуда в Берлин. Маркиза жаль – он такой любезный и так любит принцессу. Скоро будем собираться в Петербург, откуда буду писать чаще. Забыла еще тебе сказать, о чем ты, верно, уж слышала, – у нас теперь еще другой двор, маленький дворик Петра Федоровича. Сам великий князь – лет шестнадцати, нелюбезный и несимпатичный».
– Как странно, Юлиана! – заметила принцесса, когда Юлиана кончила чтение, почти шепотом и с предварительным осмотром, нет ли кого за дверью. – Лестоку, мужу твоей родной сестры, я никогда никакого зла не сделала, напротив, была всегда внимательна, и никогда не отказывала кузине в деньгах, хоть и знала, что они пойдут на игру этого француза, Бестужевых же отсылала от двора, а теперь Лесток интригует против меня, а защищает Бестужев!.. Напиши Анне, что я благодарю ее и Бестужевых.
– Хорошо, хорошо. Об этом негодяе и развратнике Лестоке мне, милочка, никогда не напоминай; он хоть и муж моей сестры, да хуже чужого, а теперь – отчего ты не подписала обещания?
– Отчего? Да как же я могу лишать сына того, что ему должно и будет принадлежать по праву?
– Полно, милая, разве может к чему-нибудь обязывать клочок бумажки, вытянутый насильно! При сыне точно так же оставались бы его права, а мы были бы на свободе.