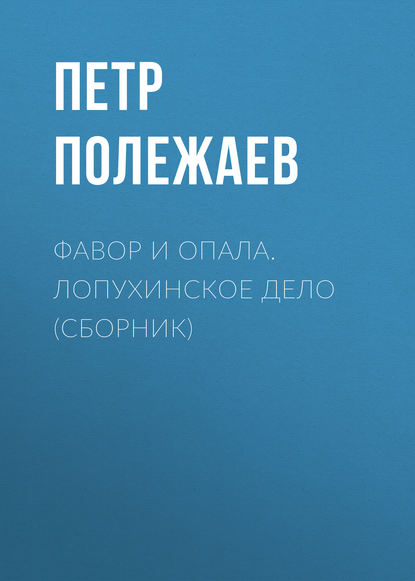По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Фавор и опала. Лопухинское дело (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Слышал и я, Кузьма Ерофеич, евти речи. Что и говорить, нынче времечко другое, вольготное. Вон и нашего Василия Владимировича, значит, Долгорукова, слышно, воротили с прежним почетом фельдмаршалом. Да… пошли мы на прежнее… Только, знаешь что, кум, ведь и басурманов-то иных жаль. Видел, чай, сам, как опосля Святок самых набольших немцев, Мыныха, Востерманова, ставили на шафот. Не дрогнули… словно награду какую им читали. Народ – кремень!
– Эх, братец, известно, басурманину сам нечистый помощь дает – от евтого самого и храбер.
– Оно так-то так, Кузьма Ерофеич, точно не без нечистого, а все жалостливо. Вот хоть бы и матушку-императрицу Анну Леопольдовну тоже жаль… Государыня была добрая, милостивая, никого-то она на веку своем не обидела. Отдохнули мы при ней. Оно, конечно, и нынче-то ничего, грех сказать, только вот силу превеликую взяли… – И синий тулуп, наклонившись к самому уху меховой сибирки, стал шептать, опасливо озираясь на все стороны. – И такую-то силу возымели они, Кузьма Ерофеич, – продолжал рассуждать первый торговец уже вполголоса, не заметив подле себя подозрительных лиц, – такую-то силу, что страсти. Пьянствуют, насильничают, грабят, по всем домам бегают с поздравлениями: где не дадут угощенья, там силком схапают. И никакой управы на них нет. Чего тут наши домишки, на днях, слышь, в самом дворце государыни приступили к канцлеру и ну требовать денег… Тот перетрусился, офицер ихний стал уговаривать: знаете ли, говорит им, с какой знатной особой говорите, как вы смеете? А они с озорством и ну кричать: плевать нам на знатных, сами мы всех знатнее.
– Нашел о чем толковать на людях, эвтаких-то сусниций не токмо болтать, но и в мыслях не дерзай иметь, – опасливо отозвалась меховая сибирка, отходя от приятеля к первому ближайшему столику со сбитнем.
К вечеру от моря повеяло свежей влажностью, но народу на площади прибывало все больше и больше. К группам присоединялись новые гуляющие из городских обывательниц и солдат.
От толпы у качелей отделились две девушки, направляясь от ларей и навесов к берегу Мии.
Обе девушки, по-видимому подружки, были очень красивы, каждая в своем роде.
Та, что была повыше, брюнетка, дочь мелкого торговца из отпущенных, Стеня Лопухинская, отмечалась энергическим, смелым типом. Все прекрасное, правильное и резко очерченное лицо девушки выражало стойкость и властный характер. Силою дышали ее темные глаза, смело глядевшие из-под черных длинных ресниц, загибавшихся кверху, окаймленные шелковистою, высоко поднятою черною бровью; жесткие, густые, воронова крыла волосы с трудом, казалось, держались в двух толстых косах, спускавшихся по душегрее до пояса; твердость, если не упрямство, сквозила в подвижных ноздрях прямого с небольшою горбинкою носа, в линиях, очерчивающих рот, и в небольшом, несколько выдающемся подбородке; поступь стройного стана уверенная, с едва заметным наклоном вперед.
Другая девушка, Феня Горохова, – смуглая блондинка, с ясным, простодушным характером, так и проступающим во всем ее существе, начиная с полного, несколько одутловатого лица, с сереньких небольших глазок, как будто заплывавших в золотушных веках, окаймленных редкими белокурыми ресницами, и кончая полным телом, без всякого почти изгиба шеи и талии. Но, несмотря на эти недостатки, Феня Горохова благодаря милому, наивному выражению казалась очень миловидной.
Девушки, может быть именно вследствие типического их различия, считались большими приятельницами; жили они рядом.
– Мы куда идем, Стеня? – спросила Феня Горохова, когда они подходили к мосту через Мию.
– Домой.
– Что ты! Да теперь только и стал сбегаться народ! Смотри! Вон идут кавалеры-солдатики… То-то будет веселье!
– Весело? Так оставайся.
– Нет уж, мне пошто одной!
Девушки прошли несколько шагов молча.
– Стеня, а Стеня!
– Что?
– Отчего ты такая?
– Какая?
– Да неразговорчивая… Все молчишь, о чем-то думаешь…
– Бог так создал.
Девушки опять замолчали.
– Стеня, а Стеня! – снова заговорила Феня Горохова.
– Да что тебе?
– А я знаю, зачем ты идешь домой!
– А зачем бы, по-твоему?
– Да думаешь свидеться с Иваном Степанычем.
– Очень мне нужно!
– Стало, нужно, если бегаешь чуть ли не кажинный день в Лопухинские палаты.
– А ты почем знаешь?
– Подмечала… Ты думаешь, я такая простоволосая, а я все в тебе вижу.
– Что ж ты видишь?
– Любишь ты Ивана Степаныча.
– Не знаю… Может быть.
– А он тебя любит?
– Не знаю.
– Уж верно, любит… Ты такая писаная. Только проку-то из евтого никакого не выйдет.
Стеня Лопухинская даже повернулась от изумления к подруге.
– Говорю тебе, проку не будет, – упорно настаивала Феня.
– Это почему?
– Одно слово – не пара… Он из знатного рода; тятенька говорит, что с царской родни, а ты дочь ихнего отпущенника. Побалуется он тобой да и бросит.
– Ну это увидим – не таковская, – с резкостью оборвала Стеня.
Девушки снова замолчали и, перейдя мост, пошли по проулку, который вел к отдаленной окраине Петербурга, к той стороне, где прежде была Калинкина деревня, а теперь обстраивалась домишками бедных городских обывателей. В это время до их слуха донеслись от площади какие-то звуки, странные, то хриплые, гортанные, то звонкие, визгливые, словно душили, грабили или резали кого-то. Девушки испугались и ускорили шаги.
Скоро им стали попадаться навстречу бежавшие на площадь солдатики, а затем встретился и целый отряд напольного полка под командой офицера.
Такие же отряды двигались, как слышно было по мерному отбивному шагу, и в соседних улицах, и также по направлению к площади.
С разных сторон барабаны били тревогу.
На площади происходил между тем дикий, необыкновенный курьез. Гвардейский солдат Семеновского полка, пошатываясь и припевая, проходя между ларей, недалеко от качелей, увидел корзину с красными яйцами, выставленными торговкой для продажи. Солдатику захотелось покушать яичек, и недолго думая он запустил руку в корзину, вынул оттуда два яйца и разбил. Торговка обозлилась.
– Ты пошто, разбойник, схапал, не торгуясь! Давай денежки! – завизжала она на всю площадь.
– Ах ты, рябая форма, да как смеешь спрашивать деньги за гнилые яйца с кавалера… Да я тебя, проклятая ведьма, да я…