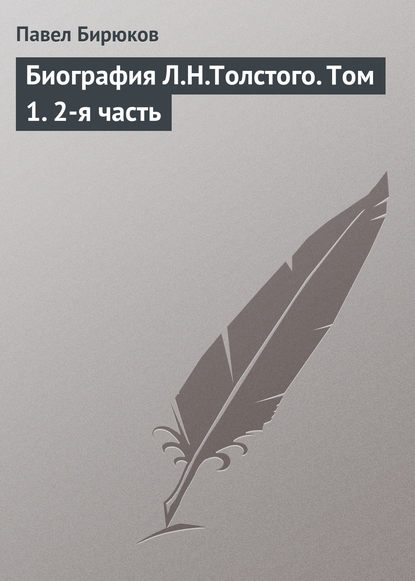По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Биография Л.Н.Толстого. Том 1. 2-я часть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но Лев Николаевич не хотел слепо, очертя голову отдаться этому влечению. Он решается подвергнуть чувство свое и ее испытанию временем и на расстоянии и решается уехать в Петербург на два месяца.
С дороги, из Москвы, 2-го ноября он пишет письмо, которым он начинает воспитывать свою невесту и которое вместе с тем показывает, что того, что обыкновенно называют «страстной любовью», между ними не существовало.
«Вчера приехал ночью, сегодня встал и с радостью почувствовал, что первая мысль моя была о вас, и что сажусь писать не для того, чтобы выполнить обещание, а потому что хочется, тянет. Ваш фаворит, глупый человек, во все время дороги совершенно вышел из повиновения, рассуждал такой вздор и делал такие нелепые, хотя и милые планы, что я начинал бояться его. Он дошел до того, что хотел ехать назад, с тем чтобы вернуться в Судаково, наговорить вам глупостей и никогда больше не расставаться с вами. К счастью, я давно привык презирать его рассуждения и не обращать на него никакого внимания. Но когда он пустился в рассуждения, его товарищ, хороший человек, которого вы не любите, тоже стал рассуждать и разбил глупого человека вдребезги. Глупый человек говорил, что глупо рисковать будущим, искушать себя и терять хоть минуту счастья. «Ведь ты счастлив, когда ты с ней, смотришь на нее, слушаешь, говоришь, – говорил глупый человек, – так зачем же ты лишаешь себя этого счастья, может быть, тебе только день, только час впереди, и, может быть, ты так устроен, что ты не можешь любить долго, а все-таки это самая сильная любовь, которую ты в состоянии испытывать, ежели бы ты только свободно предался ей. Потом, не гадко ли с твоей стороны отвечать таким холодным рассудительным чувством на ее чистую, преданную любовь?» Все это говорил глупый человек, но хороший человек, хотя и растерялся немного сначала, на все это отвечал вот как: «Во-первых, ты врешь, что я с ней счастлив; правда, я испытываю наслаждение слушать ее, смотреть ей в глаза, но это не счастье, это даже не хорошее наслажденье, простительное для Мортье, а не для тебя; потом, часто мне тяжело бывает даже с ней, а главное, что я нисколько не теряю счастья, как ты говоришь, я и теперь счастлив ею, хотя не вижу ее. Насчет того, что ты называешь моим холодным чувством, я скажу тебе, что оно в 1000 раз сильнее и лучше твоего, хотя я и удерживаю его. Ты любишь ее для своего счастья, а я люблю ее для ее счастья». Вот как они рассуждали, и хороший человек 1000 раз прав. Полюбите его немного. Ежели бы я отдался чувству глупого человека и вашему, я знаю, что все, что могло бы произойти из этого, – это месяц безалаберного счастья. Я отдавался ему теперь перед моим отъездом и чувствовал, что становлюсь дурен и недоволен собой; я ничего не мог говорить вам, кроме глупых нежностей, за которые мне совестно теперь. На это будет время, и счастливое время! Я благодарю Бога, что он внушил мне мысль и поддержал в намерении уехать, потому что я один не мог бы этого сделать. Я верю, что он руководил мной для нашего общего счастья. Вам простительно думать и чувствовать так, как глупый человек, но мне бы было постыдно и грешно. Я уже люблю в вас вашу красоту, но я только начинаю любить в вас то, что вечно и всегда драгоценно, – ваше сердце, вашу душу. Красоту можно узнать и полюбить в час и разлюбить так же скоро, но душу надо узнать. Поверьте, ничего в мире не дается без труда, даже любовь, самое прекрасное и естественное чувство. Простите за глупое сравнение: любить так, как любит глупый человек, это играть сонату без такту, без знаков, а постоянно педалью, но с чувством, не доставляя этим ни себе, ни другим истинного наслаждения. Но для того, чтобы позволить себе отдаться чувству музыки, нужно прежде удерживаться, трудиться, работать, и поверьте, что нет наслаждения в жизни, которое не давалось бы так. Все приобретается трудом и лишениями. Но зато, чем тяжелее труд и лишения, тем выше награда. А нам предстоит огромный труд – понять друг друга и удержать друг к другу любовь и уважение. Неужели вы думаете, что ежели бы мы отдались чувству глупого человека, мы теперь бы поняли друг друга? Нам бы показалось, но потом мы бы увидали огромный овраг, и истратив чувство на глупые нежности, уже ничем бы его не заровняли. Я берегу чувство, как сокровище, потому что оно одно в состоянии прочно соединить нас во всех взглядах на жизнь, а без этого нет любви. – Я в этом отношении много ожидаю от нашей переписки, мы будем рассуждать спокойно, я буду вникать в каждое ваше слово, и вы делайте то же, и я не сомневаюсь, что мы поймем друг друга. Для этого есть все условия и чувство и честность с обеих сторон. Спорьте, указывайте, учите меня, спрашивайте объяснений. Вы, пожалуй, скажете, что мы и теперь понимаем друг друга. Нет, мы только верим друг другу; я иногда, глядя на вас, готов согласиться, что il n'y a rien de plus beau au monde qu'une robe broche d'or, но не согласны еще во многом. Я дорогой перебирал 1000 предметов, писем или разговоров. В следующем письме напишу вам план образа жизни Храповицких, потом о ваших родных, о Киреевских, с которыми ваши отношения для меня неприятнее, чем бывшие с Мортье, о Vergani и миллион вопросов, которые не столько важны по тому, как мы их решим, как по тому, как мы будем соглашаться, толкуя о них.
Нынче видел вас во сне, что Сережа вас сконфузил чем-то, и вы от конфуза делаетесь рябая и курносая, и я так испугался этого, что проснулся. Теперь даю волю глупому человеку. Вспоминаю я несколько недоконченных наших разговоров. 1) Какая ваша особенная молитва? 2) Зачем вы у меня спрашивали, случается ли мне просыпаться ночью и вспоминать, что было? Вы что-то хотели сказать и не кончили. – Я вас вспоминаю особенно приятно в 3 видах: 1) когда вы на бале попрыгиваете, как-то наивно на одном месте, и держитесь ужасно прямо, 2) когда вы говорите слабым болезненным голосом немножко с кряхтеньем и 3) как вы на берегу Грумантского пруда в тетенькиных вязаных огромных башмаках злобно закидываете удочку. Глупый человек всегда с особенной любовью представляет вас в этих 3-х видах. Нет ли у m-lle Vergani вашего лишнего портрета или нельзя ли отобрать у тетеньки назад, я бы очень желал иметь его. – Про себя писать нечего, потому что никого не видал еще. Пожалуйста, ежели ваше здоровье нехорошо, то напишите мне о нем подробно; последние два дня вы были плохи. Ежели бы милейшая Женечка написала мне несколько строчек об этом предмете и о вашем расположении духа со своей всегдашней правдивостью, она бы меня очень порадовала. Пожалуйста, ходите гулять каждый день, какая бы ни была погода. Это отлично вам скажет каждый доктор, и корсет носите, и чулки одевайте сами и вообще в таком роде делайте над собой разные улучшения. Не отчаивайтесь сделаться совершенством. Но это все пустяки. Главное, живите так, чтобы, ложась спать, можно было бы сказать себе: нынче я сделала 1) доброе дело для кого-нибудь, 2) сама стала жить немножко лучше. Попробуйте, пожалуйста, пожалуйста, определять себе вперед занятия дня и вечером поверять себя. Вы увидите, какое спокойное и большое наслаждение каждый день сказать себе: нынче я стала лучше, чем вчера. Нынче я добилась делать ровно триоли на четверти, или поняла, прочувствовала хорошее произведение поэзии или искусства, или, лучше всего, сделала добро тому-то и заставила его любить и благодарить за себя Бога. Это наслаждение и для себя одной, а теперь вы знаете, что есть человек, который все больше и больше, до бесконечности, будет любить вас за все хорошее, что вам нетрудно приобретать, преодолев только лень и апатию. Прощайте, милая барышня, глупый человек любит вас, но глупо, хороший человек est tout dispose и любит вас самой сильной и нежной и вечной любовью. Отвечайте мне подлиннее, пооткровеннее, посерьезнее, кланяйтесь вашим. Христос с вами, да поможет он нам понимать и любить друг друга хорошо. Но чем бы все это ни кончилось, я всегда буду благодарить Бога за то настоящее счастье, которое я испытываю благодаря вам, чувствовать себя лучше, и выше, и – честнее. Дай бог, чтобы вы так же думали».
Вскоре Льву Николаевичу представилось новое испытание, уже не наложенное им самим на себя, но пришедшее извне. Он узнал из достоверных источников, уже живя в Петербурге, что его «милая барышня» допустила ухаживанье за собой учителя музыки Мортье и сама влюбилась в него. И все это произошло на несчастной коронации. Видимо, барышня сама боролась с этим чувством и даже прекратила всякие сношения с Мортье, но самый факт этого легкомысленного увлечения был страшным ударом для Льва Николаевича, и под влиянием горького чувства, вызванного этим открытием, он пишет ей письмо, полное упреков, которое даже не решился послать ей, но обещал показать при свидании. Затем он пишет другое письмо, которое уже отсылает. Намек на эти отношения есть уже в предыдущем письме, но, очевидно, Лев Николаевич узнал новые факты, которые и побудили его вновь поднять этот вопрос. Вот это замечательное письмо от 8 ноября из Петербурга:
«Любезная Валерия Владимировна!
«Что было, того уже не будет вновь», сказал Пушкин. Поверьте, ничто не сбывается, и не проходит, и не возвращается. Уже никогда мне не испытывать того спокойного чувства привязанности к вам, уважения и доверия, которые я испытывал до вашего отъезда на коронацию. Тогда я с радостью отдавался своему чувству, а теперь я его боюсь. Сейчас я написал, было, вам длинное письмо, которое не решился послать вам, а покажу когда-нибудь после. Оно было написано под влиянием ненависти к вам. В Москве один господин, который вас не знает, рассказывал мне, что вы влюблены в Мортье, что вы каждый день бываете у него, что вы в переписке с ним. – Мне очень приятно было это слышать, и многое, и многое я холодно передумал и написал по этому случаю в письме, которое не посылаю. То, Мортье, было увлечение натуры холодной, которая еще не способна любить, и это то же; одно уже прошло немного под влиянием времени и другого увлечения, другое еще нет; но любви вы еще не способны испытывать. Даже если подумать хорошенько, какое было истиннее и сильнее, то вы сами сознаетесь, если захотите быть искренни, что первое было сильнее и гораздо. В первом вы жертвовали многим и все-таки признавались себе и другим в своей любви; во втором, напротив, вы ничем не жертвуете. Одно спасенье есть время и время. Как бы хорошо было, ежели бы вы пожили в Москве…
Жду ваших писем с жадностью.
Мне грустно, скучно, тяжело; во всем неудача, все противно, но ни за что не увижусь с вами до тех пор, пока не почувствую, что совсем прошло чувство глупого человека, и что я совершенно верю вам, как прежде.
Прощайте, так просто, и прощайте всю мою неровность, не я один виноват в ней. О двух вещах умоляю вас: трудитесь, работайте над собой, думайте пристальнее, отдавайте себе искренний отчет в своих чувствах и со мной будьте искренни самым невыгодным для себя образом. Рассказывайте все, что было и есть в вас дурного. Хорошего я невольно предполагаю в вас слишком много. Например, если бы вы мне рассказали всю историю вашей любви к Мортье с уверенностью, что это чувство было хорошо, с сожалением к этому чувству, и даже сказали бы, что у вас осталась еще к нему любовь, мне бы было приятнее, чем это равнодушие и будто бы презрение, с которым вы говорите о нем и которое доказывает, что вы смотрите на него не спокойно, но под влиянием нового увлечения. Вы говорите и думаете, что я холодно-прямодушен; да, не дай Бог вам столько и так тяжело перечувствовать, сколько я перечувствовал за эти пять месяцев. Ну-с, прощайте-с, Христос с вами; постарайтесь не сердиться на меня за это письмо. Я не боюсь высказываться таким, каким я есть, хотя и очень плохим с этой нерешительностью, сомнением и всякой гадостью; делайте и вы так же. Ведь главный вопрос в том, можем ли мы сойтись и любить друг друга. Для этого-то и надо высказать все дурное, чтобы знать, в состоянии ли мы помириться с ним, а не скрывать его, чтобы потом неожиданно не разочароваться. Мне бы больно, страшно больно было потерять теперь то чувство увлечения, которое в вас есть ко мне, но уж лучше потерять его теперь, чем вечно упрекать себя в обмане, который бы произвел ваше несчастье. – Ежели вас интересуют дамы и барышни петербургские и московские, то могу вам сказать, что их до сих пор решительно для меня нет.
Ваш гр. Л. Толстой».
Внимательный читатель легко заметит, что открытие, сделанное Львом Николаевичем, о продолжающихся отношениях его невесты с Мортье нанесли неизлечимую рану его начавшему крепнуть чувству, и если он не прекращает с ней отношений сразу, то только потому, что хотел предоставить природе и времени с меньшей болью произвести эту операцию. Но с этих пор отношения их становятся более дружественными, и только изредка, и то, я думаю, больше в воображении, вспыхивает слабое пламя страстной любви.
Он отсылает это письмо, но его беспокоит, какое действие произведет оно, и на другой день он пишет еще, уже в примирительном тоне.
Петербург, 9 ноября.
«Мне так больно подумать о вчерашнем моем письме к вам, милая Валерия Владимировна, что теперь не знаю, как приняться за письмо, а думать о вас мне надо – писать так и тянет. Посылаю вам книги, попробуйте читать, начните с маленьких и сказок – они прелестны; и напишите свое искреннее мнение. Насчет Николеньки еще не успел сделать и книгу ему пришлю со следующей почтой. Б. положительно тот самый, и есть мерзавец неописанный, и грешно думать равнодушно, что за него выйдет хорошая девочка. Напишите, ежели правда эта свадьба, я напишу тогда К-вой. Видел во все это время только моих приятелей литературных, из которых люблю немногих, общественных же знакомых избегаю и до сих пор не видел никого. Работал нынче целый вечер с Ив. Ив. в первый раз и тем очень доволен. Да что я пишу про себя, может быть, вы, под влиянием того письма, не только питаете ко мне тихую ненависть, но не питаете ровно ничего. Посылаю вам еще повести Тургенева, прочтите и их, ежели не скучно, – опять, по-моему, почти все прелестно, а ваше мнение все-таки катайте прямо, как бы оно ни было нелепо. Wage nur zu irren und zu traumen, Шиллер сказал. Это ужасно верно, что надо ошибаться смело, решительно, с твердостью, только тогда дойдешь до истины. Ну, для вас это еще непонятно и рано. Отчего вы мне не пишете, хоть бы такие же мерзкие письма, как я, отчего вы мне не пишете?
N. N. вас не любит, это правда, т. е. не не любит, а мало ценит, но Костенька хорош, как я не ожидал его найти. В нем произошла большая перемена, тексты из свящ. писания не шутка, он понял недавно великую вещь, что добро – хорошо, помните, что я у вас спрашивал часто. А вы поймете это, но со временем, и – грустно сказать – эту великую истину нельзя понять иначе, как выстрадать, а он выстрадал, а вы еще не жили, не наслаждались, не страдали, а веселились и грустили. Иные всю жизнь не знают ни наслаждений, ни страданий – моральных, разумеется. Часто мне кажется, что вы такая натура, и мне ужасно это больно, скажите, ежели вы ясно понимаете вопрос, такая вы или нет? Но во всяком случае вы милая, точно милая, ужасно милая натура. Отчего вы мне не пишете? Все, что я хотел писать вам об образе жизни Храповицких, я не решаюсь писать без отголоска от вас, и особенно на второе письмо. Однако, по правде сказать – руку на сердце – я теперь уже много меньше и спокойнее думаю о вас, чем первые дни, однако все-таки больше, чем когда-нибудь я думал о какой-нибудь женщине. Пожалуйста, на этот вопрос отвечайте мне сколько можете искренно в каждом письме: в какой степени и в каком роде вы думаете обо мне? Особенное чувство мое в отношении к вам, которое я ни к чему не испытывал, вот какое: как только со мной случается маленькая или большая неприятность – неудача, щелчок самолюбию и т. п., я ту же секунду вспоминаю о вас и думаю: «все это вздор, там есть одна барышня, и мне все ничего». Это приятное чувство. Как вы живете? Работаете ли вы? Ради Бога, пишите мне. Не смейтесь над словом «работать». Работать умно, полезно, с целью добра – превосходно, но даже просто работать вздор, палочку строгать, что-нибудь, но в этом первое условие естественной хорошей жизни, поэтому счастья. Например, я нынче работал, совесть спокойна, чувствую маленькое не гордое самодовольство и чувствую от этого, что я добр. Нынче я бы ни за что не написал вам такого того письма, как вчера, нынче я чувствую ко всему миру приязнь и к вам именно то чувство, которое я бы желал именно весь век чувствовать. Ах, ежели бы вы могли понять и почувствовать, выстрадать так, как я, убеждение, что единственно возможное, единственно истинное, вечное и высшее счастье дается тремя вещами: трудом, самоотвержением и любовью! Я это знаю, ношу в душе это убеждение, но живу сообразно с ним какие-нибудь два часа в продолжение года, а вы с вашей честной натурой, вы бы отдали себя этому убеждению так, как вы способны себя отдавать людям, m-lle Vergani и т. д. А два человека, соединенные этим убеждением, да это верх счастья. Прощайте, словами это не доказывается, а внушает Бог, когда приходит время. Христос с вами, милая, истинно милая Валерия Владимировна. Не знаю, чего до сих пор вы мне больше доставили, страданий моральных или наслаждений. Но я так глуп в такие минуты, как теперь, что и за то, и за другое благодарен.
Да пишите же, ради Бога, каждый день. Впрочем, ежели нет потребности, не пишите, или нет, когда не хочется писать, напишите только следующую фразу: сегодня, такого-то числа, не хочется вам писать, и пошлите. Я буду рад. Ради Бога, не придумывайте своих писем, не перечитывайте, вы видите – я, который мог бы щеголять этим перед вами, – а неужели вы думаете, что мне не хочется кокетничать перед вами – я хочу щеголять перед вами одной честностью, искренностью; а уж вам надо тем паче – умнее вас я знаю много женщин, но честнее вас я не встречал. Кроме того, ум слишком большой противен, а честность чем больше, полнее, тем больше ее любишь. Видите, мне так сильно хочется любить вас, что я учу, чем заставить меня любить вас. И действительно, главное чувство, которое я имею к вам, это еще не любовь, а страстное желание любить вас изо всех сил, – Пишите же, ради Бога, поскорее, побольше и как можно понескладнее и побезобразнее и поэтому искренно.
Отлично можно жить на свете, коли уметь трудиться и любить, трудиться для того, что любишь, и любить то, над чем трудишься. Ежели вам случится хотеть написать мне что-нибудь и не решитесь, то, пожалуйста, намекните, о чем. Надо все вопросы разъяснить смело. Я вам делаю много и грубых, а вы никогда».
Не дождавшись ответа и, вероятно, успокоившись сознанием, что pas de nouvelle – bonnes nouvelle, он продолжает руководить жизнью своей более воспитанницы, чем невесты, и пишет ей обстоятельное письмо об их возможной будущей совместной жизни.
Петербург, 12 ноября 1856 г.
«Чувствую, это я глуп, но не могу удержаться, милая барышня, и, не получив все-таки от вас ни строчки, опять пишу вам. Теперь уже за 12 часов ночи, и вы сами знаете, как это время располагает к нежности, следовательно, к глупости. Напишу вам о будущем образе жизни Храповицких, ежели суждено им жить на свете.
Образ жизни мужчины и женщины зависят: 1) от их наклонности, а 2) от их средств. Разберем и то, и другое. Храповицкий, человек морально старый, в молодости делавший много глупостей, за которые поплатился счастьем лучших годов жизни, и теперь нашедший себе дорогу и призвание – литературу, – в душе презирает свет, обожает тихую, семейную, нравственную жизнь и ничего в мире не боится так, как жизни рассеянной, светской, в которой пропадают все хорошие, честные, чистые мысли и чувства и в которой делаешься рабом светских условий и кредиторов.
Он уже поплатился за это заблуждение лучшими годами жизни, так это убеждение в нем не фраза, а убеждение, выстраданное жизнью. Милая госпожа Дембицкая еще ничего этого не испытала, для нее счастье было – голые плечи, карета, бриллианты, знакомства с камергерами, генерал-адъютантами и т. д. Но так случилось, что Хр. и Демб. как будто бы любят друг друга (я, может быть, лгу перед самим собой, но опять в эту минуту я вас страшно люблю). Итак, эти люди с противоположными наклонностями будто бы полюбили друг друга. Как же им надо устроиться, чтобы жить вместе? Во-первых, они должны делать уступки друг другу; во-вторых, тот должен делать больше уступок, чьи наклонности менее нравственны. Я бы готов был жить всю свою жизнь в деревне. У меня бы было три занятия: любовь к Д. и заботы о ее счастье, литература и хозяйство так, как я его понимаю, т. е. исполнение долга в отношении людей, вверенных мне. При этом одно нехорошо: я бы невольно отстал от века, а это грех. – Г-жа Д. мечтает о том, чтобы жить в Петербурге, ездить на 30 балов в зиму, принимать у себя хороших приятелей и кататься по Невскому в своей карете. Середина между этими двумя требованиями есть жизнь 5 месяцев в Петербурге без балов, без кареты, без необыкновенных туалетов с гипюрами и point d'Alencon и совершенно без света, и 7 месяцев в деревне. У Храп. есть 2000 р. сер. дохода с имения (т. е. если он не будет тянуть последнего, как делают все, с несчастных мужиков), есть у него еще около 1000 р. сер. за свои литературные труды в год (но это неверно, он может поглупеть или быть несчастлив и не напишет ничего). У г-жи Д. есть какой-то запутанный вексель в 20000, с которого, ежели бы она получила его, она бы имела процентов 800 р. – итого, при самых выгодных условиях 3800 р. Знаете ли вы, что такое 3.800 р. в Петербурге? Для того, чтобы с этими деньгами прожить 5 месяцев в Петербурге, надо жить в 5-м этаже, иметь 4 комнаты, иметь не повара, а кухарку, не сметь думать о том, чтобы иметь карету и попелиновое платье с point d'Alencon, или голубую шляпку, потому что такая шляпка jurera со всей остальной обстановкой. Можно с этими средствами жить в Туле или Москве, и даже изредка блеснуть перед Лазаревичами, но за это – merci. Можно тоже и в Петербурге жить в третьем этаже, иметь карету и point d'Alencon и прятаться от кредиторов, портных и магазинщиков, и писать в деревню, что все, что я приказал для облегчения мужиков, это вздор, а тяни с них последнее, и потом самим ехать в деревню и со стыдом сидеть там годы, злясь друг на друга; и за это – merci. Я испытал это. – Есть другого рода жизнь в пятом этаже (бедно, но честно), где все, что можно употреблять на роскошь домашнюю, на отделку этой квартирки на 5-м этаже, на повара, на кухню, на вина, чтобы друзьям радостно было прийти на этот 5-й этаж, на книги, ноты, картины, концерты, квартеты дома, а не на роскошь внешнюю для удивления Лазаревичей, холопей и болванов.
Прощайте, ложусь спать, жму вашу милую руку и слишком, слишком много думаю о вас. Завтра буду продолжать, теперь же буду писать в желтую книжечку, и опять о вас. Я дурак…»
Лев Николаевич не кончил этого письма, очевидно, потеряв терпение от долгого молчания той, которая так сильно занимала всю его глубокую душу, и он заключает это письмо на другой день короткой, сдержанной запиской:
Петербург, 12 ноября.
«Буду продолжать это письмо в другой раз, получив от вас; а теперь как-то это не занимает, и в голове другое. Последний раз пишу вам. Что с вами? Больны вы, или вам снова совестно отчего-нибудь передо мной, или вы стыдитесь за те отношения, которые установились между нами? Но что бы то ни было, напишите строчку. Сначала я нежничал, потом злился, теперь чувствую, что становлюсь уже равнодушен, и слава Богу. Какой-то инстинкт давно говорил мне, что кроме вашего и моего несчастья, ничего из этого не выйдет. Лучше остановиться вовремя.
Когда я люблю вас, мне часто хочется приехать к вам и сказать вам все, что чувствую; но в такие минуты, как теперь, когда я злюсь на вас и чувствую себя совершенно равнодушным, мне еще больше хочется видеть вас и высказать вам все, что накипело, и доказать вам, что мы никогда не можем понимать и поэтому любить друг друга, и что в этом никто не виноват, кроме Бога и нас, ежели мы будем обманывать друг друга.
Во всяком случае, ради истинного Бога, памятью вашего отца и всего, что для вас есть священного, умоляю вас, будьте искренни со мной, совершенно искренни, не позволяйте себе увлекаться. Прощайте, дай вам Бог всего хорошего.
Ваш гр. Л. Толстой».
Наконец он был награжден за свое терпение, получив сразу несколько запоздалых писем, и между двумя друзьями снова устанавливаются нежные отношения, о чем свидетельствуют несколько следующих друг за другом писем, из которых мы приводим здесь наиболее характерные, служащие продолжением прерванного предыдущего. Письма эти не нуждаются ни в каких комментариях.
Петербург, 17 ноября.
«Я не лгал в последнем письме, говоря, что «чувствую себя совершенно к вам равнодушным». Т. е. равнодушным совсем я не был, а думал реже, и когда думал, то думал со злобой, что именно и доказывает, что я не был равнодушен. И во всем виновата отвратительная почта. Я нынче получил ваши оба письма, оба письма милые, добрые, честные, в которых меня многое сильно душевно порадовало и кое-что не понравилось, а что – я и говорить не стану. Простите меня за мое последнее и предпоследнее письма; они оба писаны под влиянием глупого чувства, от которого во мне осталось теперь только воспоминание. Они выражены со злостью, но от содержания их я не отрекаюсь. Я теперь совершенно спокойно и благоразумно смотрю на вас (не сердитесь за это) и все-таки вижу в вас очень и очень хорошую барышню, с которою я был бы счастлив, если бы мог быть другим. – Мне кажется иногда, что уже и теперь я имею право назвать вас милый друг Валеринька (как вам подписала Женечка), – но ежели это неправда, ведь это грех и бесчестно. Ежели я скажу, что эта соната хороша, а потом скажу, что она гадкая, от этого другому никакой беды не будет, но ежели я вам скажу, что вы мне друг, и это неправда, а вы поверите этому, то ведь вам нехорошо будет и мне тоже будет нехорошо, ежели я буду верить вашим словам, которым вы цену и значение которых вы сами не знаете. Но будет об этом, скажу вам, что меня особенно заняло в ваших письмах. Ваши письма очень, очень мне были радостны, повторяю вам, и они были такие, какие я ожидал, прямые, честные, продолжайте так, не бойтесь самым нелепым образом выразить мне мысль, которая придет к вам. Все, что вы скажете, я растолкую себе гораздо лучше, чем то, про что вы промолчите… Вы знаете мой характер сомнения во всем, которое не есть следствие характера, но известной степени развития. Знайте, что ничто не дается даром. Ежели я понимаю больше вещей, чем Гимбут, то зато я уже не имею той свежести чувства, как он. У меня невольно во всякой вещи существуют por et contre. Я во всем мире сомневаюсь, исключая, что добро – добро, и этим одним меня можно держать на веревочке. Ежели бы Иисус Христос меня жарил на огне, я бы богохульствовал, может быть, но никогда бы не посмел сказать, что И. X. нехорош. Нравственное добро, т. е. любовь к ближнему, поэзия, красота, что все одно и то же, – одно, в чем я никогда не сомневаюсь, я преклоняюсь всегда, хотя почти никогда не пратикируя. И я к вам могу иметь влечение, потому что мне кажется, что вы можете быть добры, как я понимаю это слово. Но вам скучна эта философия. Напрасно вы сердитесь на тетеньку. Это доказывает, что вы молоды и неопытны и не можете быть беспристрастны. Я вам говорил не раз, что она вас любит и спит и видит, чтобы назвать вас своей племянницей. Но перед отъездом я ей говорил, какие наши отношения, чисто дружеские, ничем не связанные, и что я еду, чтобы испытать себя. Она сердилась, зачем я еду в Петербург, а не в церковь, и говорила «encore des epreuves». Но она любит и меня, и вас, и ей больно бы было, чтобы я поступил бесчестно, по ее понятиям, относительно вас, т. е. monter la tete a une jeune personne и больно, что вас это заставит страдать; вследствие этого она, не надеясь на мое постоянство, хочет вам сделать менее чувствительным удар, по ее понятиям, который вас ожидает. – Она душка! Надо только вникнуть в ее простодушные и милые расчеты с самой собой, которые она всю свою жизнь делает на основании любви и самоотвержения. Она прелесть, а вы восторгаетесь Наташей. Наташа добрая, но пустая голова, немножко подленькая натурка и без правил, с которой вы можете находить удовольствие только потому, что она льстит вашему чувству, но которой contact я бы не желал вам.
Занятия ваши радуют меня, но мало, ей-богу, мало, вечера пропадают, принуждайте себя……………. точки означают разные нежные имена, которые даю вам мысленно, умоляя вас больше работать. Вы мельком говорите в одном месте, что вы читали с наслаждением. Что с наслаждением? И что понимали? Это мне ужасно интересно. На… родной (?) бал, однако, вам бы не мешало поехать. Вам самим должно быть интересно испытать себя. Сделайте это г… и напишите искренно ваше впечатление. Я почти не испытывал себя, т. е. никого не видел женщин, нигде не был и la main sur la consience могу сказать, что в эти 3 недели ни одна женщина не обратила моего внимания нисколько. Зато вашей главной соперницей – литературой – во все это время я занимался много и с удовольствием. Написал маленький рассказ в «Библиотеку» и готовлю другой в О. 3. У меня хорошенькая, тихая квартирка, стоят фортепианы, и наши перья с И. И. скрипят с утра до вечера. Хотел я вам продолжать письмо об образе жизни Храп., но мне пришло в голову, продолжайте вы: как, где, что они должны делать, а я все-таки напишу свое мнение. Г… не бойтесь, говорите свое мнение. Ежели вы ошибаетесь, то мило, как честная, любящая натура. Портрет, боюсь, не скоро придет из Москвы, но целую ручки за него у тех, кому я обязан. Свою рожу изображу и пошлю завтра. Прощайте, Христос с вами…»
Петербург, 23 ноября.
«Сейчас получил ваше славное, чудесное, отличное письмо от 15-го ноября. Не сердитесь на меня, голубчик, что я в письмах так называю вас. Это слово так идет к тому чувству, которое я к вам имею. Именно голубчик. И сколько раз, разговаривая с вами, мне ужасно хотелось назвать вас так, не каким-нибудь другим именем, а именно так. Письмо это должно быть коротко, ежели я не увлекусь, потому что у меня дела пропасть, и самого спешного, самого мучительного, от которого я несколько дней не сплю ночи. Вы знаете, что мы заключили условие с «Современником» печатать свои вещи только там с 1857 года, а я обещал Дружинину и Краевскому в «Отеч. зап.», и надо написать это к 1-му декабря. Дружинину я написал кое-как маленький рассказ, но Краевскому не идет на лад; я написал, но сам недоволен, чувствую, что надо переделать, некогда и я не в духе, а все-таки работаю. С одной стороны, надо держать слово, с другой, – боюсь уронить свое литературное имя, которым я, признаюсь, дорожу очень, почти так же, как одной вам известной госпожой. – Я в гадком расположении духа, недоволен собой, поэтому всем на свете злюсь, зачем я давал слово, хочу работать над старыми – отвращение, и как на беду лезут в голову новые планы сочинений, которые кажутся прелестны. – В таком настроении застало меня ваше последнее письмо и утешило меня во всем. Бог с ними со всеми, только бы вы меня любили и были такой, какой я вас желаю видеть, т. е. отличной; а по письму мне показалось, что вы и любите меня, и начинаете понимать жизнь посерьезнее и любить добро и находить наслаждение в том, чтобы следить за собой и идти все вперед по дороге к совершенству. Дорога бесконечная, которая продолжается и в той жизни, прелестная и одна, на которой в этой жизни находим счастье. Помогай вам Бог, мой голубчик, идите вперед, любите, любите не одного меня, а весь мир Божий, людей, природу, музыку, поэзию и все, что в нем есть прелестного, и развивайтесь умом, чтобы уметь понимать вещи, которые достойны любви на свете. Любовь – главное назначение и счастие на свете. Хотя, что я скажу, нейдет вовсе к нашему разговору, но вот еще великая причина, по которой женщина должна развиваться. Кроме того, что назначение женщины быть женой, главное ее назначение быть матерью, а чтобы быть матерью, а не маткой (понимаете вы это различие?), нужно развитие. – Не сердитесь, голубчик (ужасно весело мне вас так называть), за замечания, которые я вам сделаю. 1) Вы всегда говорите, что ваша любовь чистая, высокая и т. д. По-моему, говорить, что моя любовь высокая и т. д., это все равно, что говорить, что у меня нос и глаза очень хороши. Об этом надо предоставить судить другим, а не вам. 2) В отличном вашем дополнении плана жизни Храп. нехорошо то, что вы хотите жить в деревне и ездить в Тулу. Избави Бог! Деревня должна быть уединением и занятием, про которые я писал в предпоследнем письме, и больше ничего. Но такой деревни вы не выдержите, а тульские знакомства порождают провинциализм, который ужасно опасен. Храповицкие сделаются оба провинциальными и будут тихо ненавидеть друг друга за то, что они провинциалы. Я видел такие примеры. Да я к тетеньке испытывал тихую ненависть за провинциализм главное. Нет-с, матушка, Храповицкие или никого не будут видеть, или лучшее общество во всей России, т. е. лучшее общество не в смысле царской милости и богатства, а в смысле ума и образования. У них комнаты будут в 4-м этаже, но собираться в них будут самые замечательные люди в России. Избави Бог вследствие этого быть грубыми с тульскими знакомыми и родными, но надо удаляться их, – их не нужно; а я вам говорил, что сношения с людьми ненужными всегда вредны. 3) Увы! Вы заблуждаетесь, что у вас есть вкус, т. е. может быть, есть, но такту нет. Например, известного рода наряды, как голубая шляпка с белыми цветами, прекрасна; но она годится для барыни, ездящей на рысаках в аглицкой упряжке и входящей на свою лестницу с зеркалами и камелиями; но при известной скромной обстановке 4-го этажа, извозчичьей кареты и т. д. эта же шляпка ридикюльна, а уж в деревне в тарантасе и говорить нечего. Потом, есть известные женщины, почти вроде Щербачевой, и даже гораздо хуже, которые в этом роде elegance ярких цветов, взъерошенных куафюр и всего необыкновенного – горностаевых мантилий, малиновых салопов и т. д. – всегда перещеголяют вас, и выходит только то, что вы похожи на них. И девушки, и женщины, мало жившие в больших городах, всегда ошибаются в этом. Есть другого рода elegance, скромная, боящаяся всего необыкновенного, яркого, но очень взыскательная в подробностях, как башмаки, воротнички, перчатки, чистота ногтей, аккуратность прически и т. д., за которую я стою горой, ежели она не слишком много отнимает заботы от серьезного, и которую не может не любить всякий человек, любящий изящное. Elegance ярких цветов еще простительна, хотя и смешна, для дурносопой барышни, но вам, с вашим хорошеньким личиком, непростительно этак заблуждаться. Я бы на вашем месте взял себе правилом туалета – простота, но самое строгое изящество во всех мельчайших подробностях.
Прогулки по гостиному двору?!!! Боже мой! Но это все ничего, ежели бы вы мечтали даже ездить учиться музыке на Тульский оружейный завод, и это было бы ничего в сравнении с чудной искренностью и любовью, которыми дышат ваши письма. Ради Бога, чтобы замечания мои не испортили ваше лучшее качество – искренность.
Прощайте, голубчик, голубчик, голубчик, 1000 раз голубчик; сердитесь или нет, а все-таки написал. Христос с вами».
Петербург,
28 ноября 1856 г.
«Вчера получил ваше письмо после говенья, а нынче другое. Не знаю, потому ли, что письма нехороши, или потому, что я начинаю переменяться, или потому, что в последнем вы упоминаете о Мортье, письма не произвели на меня такого приятного впечатления, как первые.
Поздравляю вас от души и радуюсь, что вы так серьезно на это смотрите. Одно нехорошо: надо меньше говорить, чтобы больше чувствовать. И не надо слишком увлекаться надеждой, что все пойдет новое, и что этим таинством вы разрываете связь с прошедшим. Оно помогает много и в жизни и духовно очищает, но не так, как вы думаете. Например, что вы говорите, что после говенья вы будете наблюдать за собой, и трудиться, и работать (это я прибавляю за вас) – это отлично, и поддержи вас Бог в этих мыслях, но история Мортье остается историей Мортье. Первое нехорошо, что у вас время, как я вижу, проходит праздно. Это плохо. Вчера я был у О. Тургеневой и слышал там бетховенское трио, которое до сих пор у меня в ушах, – восхитительно! Я не могу видеть женщину, чтобы не сравнить ее с вами. Эта госпожа отличная во всех отношениях, но она мне просто не нравится, но должно ей отдать справедливость. Можете себе представить, я узнал от ее тетки, что она встает в 7 часов в Петербурге и до 2 каждый день играет, а вечера читает, и, действительно, в музыке она сделала громадные успехи, хотя у нее таланта меньше, чем у вас. Второе нехорошо, и ужасно нехорошо, что вы не пригласили Мортье приехать в Тулу и Судаково. Я говорил, говорил и вам, и Женечке, что для вас необходимо видеться с ним, чтобы прекратить ваши отношения, но мне не хотят верить. – Постарайтесь не досадовать, не воображать, что я ревную, а просто спокойно постарайтесь влезть в мою шкуру и видеть моими глазами. Госпожа Дембицкая была влюблена в Passe-Passe, она сама призналась в этом Женечке. Не ахайте, это не беда, это даже мило. Passe-Passe, как г-жа Дембицкая убеждена, страстно влюблен в нее. Их отношения прервались, но не прекратились. Поймите меня, я убежден совершенно, что вы теперь не имеете ничего к Passe-Passe, но ему это не доказано, он остановился на том, что вы ему показывали расположение. Понимаете ли вы, что половина пути, самая трудная, уже пройдена для него? Помните, мы с вами говорили у фортепиан: что будет, если вы влюбитесь, и вы сказали, что этого не может быть, потому что вы не допустите себя дойти до интимности и взаимности, которые необходимы для того, чтобы любовь была опасна. Это правда. И понимаете, – вы с Мортье дошли до того, что он имеет право думать: или что вы имели к нему любовь, или что вы такая госпожа, которая способна иметь ее ко многим, и вследствие этого разлука и сухое письмо с выдумками неуничтожения отношений и не могут успокоить Храповицкого. – Именно только ваши отношения с Мортье беспокоят Храповицкого. Отчего ему весело и приятно говорить с вами про вашу любовь к милейшему Иславину, отчего, ежели он будет мужем г-жи Дембицкой, он (ежели встретится в этом необходимость) совершенно спокойно отправит г-жу Храп. на 2 года путешествовать с Иславиным и т. п., но Мортье другое. Г-жа Демб. убеждена, что он ее любит, а он, г-н Хр., который жил больше ее на свете, знает, что значит эта высокая любовь, – это больше ничего, как желание целовать ручки хорошенькой девушке, понимаете? Это доказывает и Вертер, и то, что он никогда не думал о том, чтобы было лучше госпоже Демб., и даже в музыке, в одном, в чем он мог бы быть полезен, он глупой лестью и т. п. пугал и вредил ей. Кроме того, это такой род любви, который от подобострастия ужасно быстро переходит к дерзости. Я мужчина, и все 28 ноября это знаю. Разумеется, я никому не мог запретить иметь к моей жене любовь такого рода, но она не опасна, когда между ней и ним нет ничего общего, но когда пройдена эта первая половина дороги, тогда опасно. И опасно вот в каком смысле, что ежели бы г-н Мортье написал моей жене любовное письмо или поцеловал бы ее руку, и она скрыла бы это от меня (а кто ему мешает теперь?), то ежели бы я любил жену, я бы застрелился, а нет, то сию секунду развелся бы и бежал на край света из уважения к ней, к своему имени, и из разочарования в моих мечтах будущности. И это не фраза, клянусь вам Богом, что я это знаю, как себя знаю. От этого-то я так боюсь брака, что слишком строго и серьезно смотрю на это. Есть люди, которые женясь думают: «ну, не удалось тут найти счастье, у меня еще жизнь впереди…» Эта мысль мне никогда не приходит, я все кладу на эту карту. Ежели я не найду совершенно счастья, то я погублю все, свой талант, свое сердце, сопьюсь, картежником сделаюсь, красть буду, ежели не достанет духу зарезаться. А вам это шуточки, приятное чувство, высокое, нежное и т. д. Я не люблю нежного и высокого, а люблю честное и хорошее. Постарайтесь спокойно стать на мое место и подумать, призовите и Женечку на совет, прав ли я или нет, желая, чтобы вы стали с Мортье в отношения музыкального учителя и ученицы. Может быть, это трудно, но что же делать, а повторяю – лгать ему в письмах (как вы не чувствовали этого, говея?), это унижать себя, бояться его. Очень весело будет Храп. бегать от Мортье, чтобы его жена вдруг не растаяла перед выражением его страсти. Храп. имеет правилом и держится его – не иметь врагов, не иметь во всем мире ни одного человека, с которым бы ему тяжело было встретиться; а вы, любя его, хотите поставить в это гнусное, унизительное положение. Постарайтесь стать на мою точку зрения, у вас хорошее сердце и вы меня еще любите, как же вам не понять этого? Ревновать уж унизительно, а к Мортье каково? Вы думаете, что кончены все нотации. Нет, дайте все высказать. Три дня вы не решились сказать мне вещи, которая, вы знаете, как меня интересует, и вы сказываете ее, как будто гордясь своим поступком. Да ведь это первое условие самой маленькой дружбы, а не высокой и нежной любви. Я не шутя говорил, что ежели бы моя жена делала мне в сюрприз подушку, ковыряшку какую-нибудь и делала бы от меня тайно, я бы на другой день убежал бы от нее на край света, и мы бы стали чужие; что делать, я такой и не скрываю этого и не преувеличиваю. Думайте хорошенько, можете ли вы любить такого урода? А в вещи, такой близкой вашему и моему сердцу, вы задумываетесь. Поверьте, что я не так поступаю в отношении вас. С тех пор, как я уехал, нет вещи, которой бы я не мог сказать вам, и говорю и скажу все, что может вам быть интересно. За это-то я и люблю, главное, мои отношения к вам, что они поддерживают меня на пути всего хорошего. Что вы спрашиваете меня о попах, напомнило мне то, что я давно хотел сказать вам. Какие бы ни были наши будущие отношения, никогда не будем говорить о религии и все, что до нее касается. Вы знаете, что я верующий, но очень может быть, что моя вера разойдется с вашей, и этот вопрос не надо трогать никогда, особенно между людьми, которые хотят любить друг друга. Я радуюсь, глядя на вас. Религия великое дело, особенно для женщин, и она в вас есть. Храните ее, никогда не говорите о ней и, не впадая в крайности, исполняйте ее догматы. Занимайтесь больше и больше, приучайте себя к труду. Это первое условие счастия в жизни. Прощайте, милая Валерия Владимировна, изо всех сил жму вашу руку. Перед получением ваших последних писем я думал о том, что вместо того, чтобы испытывать себя, мы нашими письмами еще больше монтируем друг друга. Ну, это письмо, кажется, не такого рода. На днях кончаю работу и пускаюсь в свет. Прощайте, Христос с вами, милая барышня».
Читатели заметили, наверное, в последних письмах зародыш сомнения, закравшегося в душу Льва Николаевича. Сквозь продолжающиеся еще чувства нежности все чаще и чаще прорывается чувство тягости от некоторой искусственности установившихся отношений. Разумеется, эта фальшивая нота их отношений стала заметна и Валерии Владимировне, и интенсивность их взаимного чувства начинает слабеть, и они начинают искать честного исхода.
В письме к своей тетке Т. А. Ергольской Лев Николаевич уже сознается в охлаждении своего чувства и просит совета в трудном деле. Это письмо уже написано из Москвы, куда он переехал в начале декабря и остался до нового года.
Москва, 5 декабря 1856 г.
«Вы мне пишете про В. опять в том же тоне, в котором вы всегда мне говорили про нее, и я отвечаю опять так же, как всегда. Только что я уехал, и неделю после этого мне казалось, что я был влюблен, что называется, но с моим воображением это нетрудно. Теперь же и после этого, особенно как я пристально занялся работой, я бы желал и очень желал мочь сказать, что я влюблен или просто люблю ее, но этого нет. Одно чувство, которое я имею к ней, – это благодарность за ее любовь и еще мысль, что из всех девушек, которых я знал и знаю, она лучше всех была бы для меня женой, как я думаю о семейной жизни. Вот в этом-то я и желал бы знать ваше откровенное мнение – ошибаюсь ли я или нет, и желал бы слышать ваши советы, во-первых, потому что вы знаете и ее, и меня, и главное, потому что вы меня любите, а люди, которые любят, никогда не ошибаются. Правда, я очень дурно поиспытывал себя, потому что с тех пор, как уехал, вел жизнь скорее уединенную, чем рассеянную, и видел мало женщин, но, несмотря на это, часто мне приходили минуты досады на себя, что я сошелся с ней, и я раскаивался в этом. Все-таки я говорю, что ежели бы я убедился, что она – натура постоянная и будет любить меня всегда, хоть не так, как теперь, а больше, чем всех, то я бы ни минуты не задумался бы жениться на ней. Я совершенно уверен, что тогда моя б любовь к ней все увеличивалась бы и увеличивалась, и что посредством этого чувства из нее бы можно было сделать хорошую женщину».
И письма к Валерии становятся уже более холодными, рассудочными. Хотя он и употребляет еще слово «влюбленный», но уже шутя, без прежнего увлечения. Он пишет ей в Петербург, куда она переехала провести зимний сезон, о чем давно мечтала:
Москва, 6 декабря.
«Очень благодарен вам, любезная Валерия Владимировна, за вашу добрую память. Хотя я вовсе не ожидал его, письмо ваше доставило мне большое удовольствие. Нехорошо, что вы невеселы и не радуетесь жизни так, как бы следовало. Чего вам еще? Вы мечтаете о независимой жизни в Петербурге, и у вас теперь есть все, о чем имеет право мечтать человек: молодость, красота, независимое состояние, друг Верганичка, и даже роскошь имеете, Т., который страстно влюблен в вас и только об этом просит, чтобы ему позволено было сделаться вашим рабом. Во всяком случае, нужна решительность. Ежели, несмотря на все эти выгодные условия, вам нехорошо там, где вы живете, постарайтесь устроить лучше. Поезжайте за границу, выходите замуж, пойдите в монастырь, заройтесь в деревню, но не будьте ни секунды в нерешительности. Это самое тяжелое и даже вредное состояние. Извините, что по старой привычке я увлекся подаванием советов.
Радуюсь, что вы много занимаетесь музыкой. Искусство всегда и везде большое и чистое наслаждение. А музыка – ваше искусство, вы должны успевать в нем. Я живу все это время в Москве, немного занимаюсь своим писанием, немного семейной жизнью, немного езжу в здешний свет, немного вожусь с умными, и выходит жизнь так себе: ни очень хорошо, ни худо. Впрочем, скорей хорошо. Сердце мое, не могу сказать, чтобы было пусто; напротив, слава Богу, оно беспрестанно наполняется то тем, то другим, разным вздором, но в том смысле, в котором вы разумеете, в coeur libre – совершенно libre.