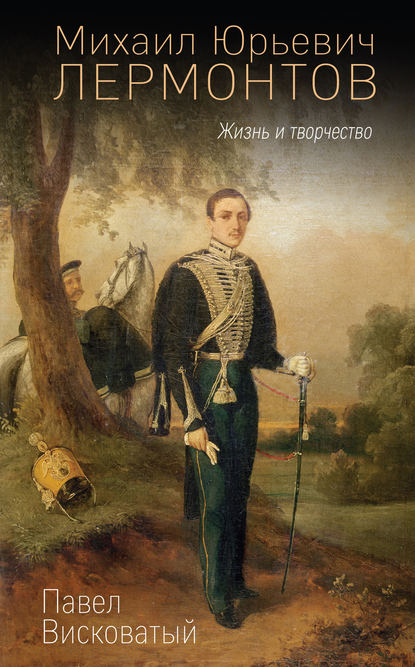По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество
Жанр
Год написания книги
1891
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Только относительно восстания в Польше, проявившегося в конце 1830 года, лермонтовские тетради хранят молчание. Может быть, что и было что-нибудь – тетради дошли до нас неполные, – может быть, Лермонтова удерживало от выражения симпатии этому движению известное стихийное чувство. Стихотворение его
Опять, народные витии,
За дело падшее Литвы,
На славу гордую России
Опять шумя восстали вы… [т. I, стр. 245]
неверно относилось издателями к 1831 году. Оно писано в 1835 году и к разбираемой нами эпохе не относится[88 - Что стихотворение это не может относиться к 1830 или 1831 году, заметил уже и Михайлов в «Соврем.», 1861 г. февраль, стр. 322.].
Быстрота событий, революционное движение во Франции, на границах России, угрожающая эпидемия и бунты внутри – все заставляет юного поэта глядеть мрачными красками на будущее и выразить это в стихотворении «Предсказание».
Картины революции, восстания и кровавых порывов к достижению всеобщей свободы и личной независимости побуждают Лермонтова написать в этом же году повесть, оставшуюся, впрочем, неоконченной, в которой описывается начало кровавых неурядиц в России, где, между прочим, казак поет песню, еще раньше встречающуюся в тетрадях поэта под заглавием «Воля»:
Моя мать – злая кручина,
Отцом же была мне судьбина…
. . . . . . . . . . . . . .
Но мне Богом дана
Молодая жена —
Воля-волюшка
Несравненная!
С ней нашлись другие у меня
Мать, отец и семья:
А моя мать – степь широкая,
А мой отец – небо далекое.
Они меня воспитали
Кормили, поили, ласкали.
. . . . . . . . . . . . . .
А вольность мне гнездо свила,
Как степь необъятное! [т. I, стр. 188]
До 12 января 1831 года лекции в университете не читались; когда же после торжественного молебствия университет был открыт, чтение шло беспорядочно. В городе холера не вполне прекратилась; ни профессора, ни студенты еще не могли войти в обычную колею, да и не все были налицо, так что на этот раз весенних переводных экзаменов не было, и все студенты остались на прежних курсах. Год был потерян[89 - Вот чем объясняется, что когда Лермонтов 1 июня 1832 г. подает прошение об увольнении, он пишет: «прошлого 1830 г. в августе был я принят в сей университет». – Вышло приказание считать два года за один.].
Относительно товарищей в аудиториях Лермонтов продолжал держать себя по-прежнему. Вистенгоф говорит: «Видимо было, что Лермонтов имел грубый, дерзкий, заносчивый характер, смотрел с пренебрежением на окружающих его, считал их всех ниже себя. Хотя все от него отшатнулись, а, между прочим, странное дело, какое-то непонятное, таинственное настроение влекло к нему и невольно заставляло вести себя сдержанно в отношении к нему, а в то же время завидовать стойкости его угрюмого нрава. Иногда в аудитории нашей в свободные от лекций часы студенты громко вели между собой оживленные беседы о современных животрепещущих вопросах. Некоторые увлекались, возвышая голос. Лермонтов, бывало, оторвется от своего чтения и только взглянет на ораторствующего – но как взглянет!.. Говорящий невольно, будто струсив, или умалит свой экстаз, или совсем замолчит. Доза яда во взгляде Лермонтова была поразительна. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем сожаления изображалось тогда на его строгом лице.
Вне стен университета Лермонтов точно так же чуждался нас. Он посещал великолепные балы тогдашнего московского благородного собрания, являлся на них изысканно одетым в сообществе прекрасных светских барышень, к которым относился так же фамильярно, как к почтенным влиятельным лицам, во фраках со звездами, или ключами сзади, прохаживавшимся с ним по залам. При встречах с нами он делал вид, будто не знает нас. Непохоже было, что мы с ним были в одном университете, факультете и на одном и том же курсе. Наконец мы совершенно отвернулись от Лермонтова и перестали им заниматься».
Все ли отвернулись от него и не сошелся ли Лермонтов все-таки с некоторыми товарищами – это вопрос. Из дальнейших рассказов и признаний Вистенгофа можно заключить, что тогдашнее его развитие и знание стояли несоизмеримо ниже лермонтовского и что, конечно, общего между ними не могло быть.
Что Лермонтов не чужд был студенческой жизни и товарищеского круга, мы можем судить по некоторым данным и по отдельным сценам автобиографической драмы его «Странный человек», писанной в 1831 году, на второй год пребывания поэта в университете. В драме этой сцена четвертая, помеченная 17 октября, представляет комнату студента Рябинова.
Бутылки шампанского на столе, и довольно много беспорядка. Снегин, Челяев, Рябинов, Заруцкий, Вишневский курят трубки. Ни одному нет более 20 лет.
Среди шумного разгула и безумных или циничных тостов между некоторыми присутствующими идет серьезный разговор. Говорят об отсутствующем товарище, Владимире Арбенине (имя, под которым Лермонтов не раз до некоторой степени рисовал самого себя). Этот Арбенин – странный человек.
То шутит и хохочет, но вдруг замолчит и сделается подобен истукану, или вдруг вскочит, убежит, как будто бы потолок провалился над ним…
Говорят о театре, в котором давали общипанных «Разбойников» Шиллера. Поднимаются и такие вопросы: «Господа, когда же русские будут русскими?» На что студент Челяев отвечает: «Когда они на сто лет подвинутся назад и будут просвещаться и образовываться снова-здорова». Видно, Лермонтову не чужды были мысли, которые затрагивались уже тогда в кружках Аксаковых и после вспыхнули ярким огнем, когда философские письма Чаадаева поделили московские кружки на два лагеря: «славянофилов» и «западников», из которых первые видели спасение России в том, чтобы повернуть назад, к Руси допетровской, и вступить на путь естественного, органически связанного с народом развития; а вторые требовали совершенного отчуждения от всего русского и народного и полнейшего слития с Западом.
Кстати, относительно трагедии «Странный человек». В ней есть место, затрагивающее вопрос крепостного права. В молодежи тогда много судили и рядили о правах человека и о несправедливости угнетения целой массы людей сословием, подчас злоупотреблявшим своими правами и преимуществами. Идеи эти занимали кружок Белинского и побудили написать драму, первую его неудавшуюся попытку литературного творчества[90 - О трагедии Белинского см. Пыпин, «Белинский, его жизнь», гл. II, и в «Русск. Стар.» 1876 г., т. XV, стр. 60.]. Если сравнить относящиеся к этому мысли в драме Белинского и драме Лермонтова [«Странный человек», сцена пятая], то нельзя не увидать полного тождества идей у обоих студентов и начинающих писателей.
У Белинского слуга рассказывает о положении крестьян после смерти барина, рассказывает, как барыня начала тиранствовать: «била как собак, и отдавала в солдаты, и пускала по миру, отнимала хлеб, скот, обирала деньги, холст… Да всего и сказать нельзя. На каторге колодникам житье лучше, чем нам грешным у барыни».
Герой драмы, Владимир, выражает по поводу этого гуманные мысли свои: «Неужели эти люди для того только и родятся на свет, чтобы служить прихотям таких же людей, как и они сами?.. Кто дал это гибельное право одним людям порабощать своей власти волю других подобных им существ? Кто позволил им ругаться над правами природы и человечества? Господин может для потехи или для рассеянья содрать шкуру с своего раба, продать его, как скота, выменять на собаку, лошадь, корову… Милосердный Боже! Отец человеков! Ответствуй мне: Твоя ли премудрая рука произвела на свет этих змеев, этих крокодилов, этих тигров?..» и т. д.
У Лермонтова крестьянин приходит к молодому человеку, другу героя драмы (по странной случайности названному Белинским), и также жалуется на жестокое обращение барыни.
Она бьет без милосердия, мучает и терзает так, что хоть в воду…
Герой драмы, как и у Белинского, по имени Владимир, приходит от рассказа в бешенство и восклицает:
«Люди, люди! И до такой степени злодейства доходят женщины, творение иногда столь близкое к ангелу!.. О, проклинаю ваши улыбки, ваше счастье, ваше богатство – все куплено кровавыми слезами!.. Ломать руки, колоть, сечь, резать, выщипывать бороду волосок по волоску… О, Боже! При одной мысли об этом я чувствую боль во всех моих жилах… О, мое отечество, мое отечество!..»
Владимир уговаривает друга своего купить несчастных крестьян и отдает ему последние свои деньги.
Нелишним будет упомянуть, что как раз в это время Лермонтов в черновой тетради записывает сюжет трагедии:
«Молодой человек в России, который не дворянского происхождения, отвергаем обществом, любовью, унижаем начальниками. (Он был из поповичей или из мещан, учился в университете и вояжировал на казенный счет.) Он застрелился» [т. IV, стр. 7].
«Вояжировал на казенный счет», по тогдашнему способу выражения, легко может означать отправку в ссылку.
Чтобы Лермонтов в университете был знаком с Белинским – сомнительно; иначе последний, рассказывая впоследствии о знакомстве своем с Лермонтовым в Петербурге, упомянул бы об университетских отношениях. Нет, тут не может быть и речи о взаимном влиянии. Интересен факт, что оба произведения: драма Белинского и драма Лермонтова, писанные в одно время, являют аналогию в интересах и обсуждении тех же вопросов. Это служит доказательством того, какие вопросы волновали молодежь в аудитории и кружках и что Лермонтов не был равнодушен к ним.
Я уже говорил, что Михаил Юрьевич не был членом какого-либо из упомянутых выше кружков университетской молодежи. Круг студентов, с которыми он видался, был невелик. То были большей частью товарищи по университетскому пансиону или молодые люди из общества бабушки и большого числа тетушек и кузин. Время, проводимое в этом обществе, состояло из светских удовольствий, вечеров и балов, в которых принимал участие рано избалованный бабушкой поэт наш, не отдавая, впрочем, этой жизни души своей и сохраняя в чистоте святая святых ее. Лермонтов как бы искал в рассеянной жизни забвения от внутренней тоски. Он чувства свои и лучшую сторону своего «я» таил от всех или раскрывал его лишь двум-трем из особенно близких людей. Внешнюю сторону тогдашней жизни своей – свои светские удовольствия и ту сторону характера, которую он выказывал толпе знакомых, Лермонтов изображает в рассказе об университетских годах Печорина в «Княгине Лиговской» [т. V, стр. 150]:
«До девятнадцатилетнего возраста Печорин жил в Москве. С детских лет он таскался из одного пансиона в другой и наконец увенчал свои странствования вступлением в университет, согласно воле своей премудрой маменьки. Он получил такую охоту к перемене мест, что если бы жил в Германии, он сделался бы странствующим студентом. Но скажите ради Бога, какая есть возможность в России сделаться бродягой повелителю трех тысяч душ и племяннику двадцати тысяч московских тетушек?
Итак, все его путешествия ограничивались поездками с толпой таких же негодяев, как он, в Петровский парк, в Сокольники и в Марьину рощу. Можно вообразить, что они не брали с собой тетрадей и книг, чтобы не казаться педантами. Приятели Печорина, которых число было, впрочем, не очень велико, были все молодые люди, которые встречались с ним в обществе, ибо и в то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц, вздыхавших невольно по эполетам и аксельбантам, не догадываясь, что в наш век эти блестящие вывески утратили свое прежнее значение. Печорин с товарищами являлся также на всех гуляньях. Держась под руки, они прохаживались между вереницами карет, к великому соблазну квартальных. Встретив одного из этих молодых людей, можно было, закрыв глаза, держать пари, что сейчас явятся и остальные. В Москве, где прозвания еще в моде, прозвали их «la bande joyeuse»[91 - веселая банда (фр.).]…»
Это описание характеризует нам быт той светской молодежи, о которой упоминает и Герцен, и Константин Аксаков, говоря о «молодых людях так называемых аристократических домов, принесших с собою всю пошлость, всю наружную благовидность, все это бездушное приличие своей сферы, всю ее зловредную светскость» и т. д. Лермонтов отлично понимал этих «приличных» юношей и, становясь к ним одной стороной существа своего, по привычке своей все вверять бумаге, сделал ей, этой стороне своего характера, оценку в Печорине, точно так же как в «Странном человеке» он изобразил свой внутренний мир, а в «Сашке» – разгульную сторону студенческой жизни. Отзывчивая душа юного Лермонтова была доступна всем увлечениям, каждому чувству, каждому движению, от легкомысленного порыва до понимания высокой и сознательной мысли. Общепринятое «пошлый опыт – ум глупцов» не останавливало его. В то время с ужасом смотрели благовоспитанные родители на Полежаева, и «матушка моя, – сообщал мне товарищ Лермонтова, Вистенгоф, – неделю не говорила со мною, узнав, что я познакомился с Полежаевым, от которого отцы и матери того времени отстраняли своих детей, как от человека опасного и заклейменного». Лермонтов чувствовал симпатию к этому мученику, как он и Белинский, тоже уроженцу Пензенской губернии[92 - Были ли поэты знакомы лично, неизвестно, но возможно, так как Полежаев, возвращенный с Кавказа, где он был с 1829 по сентябрь 1833 года, проживал в Москве до смерти в сентябре 1837 года. Во время проездов через Москву, особенно в 1835 году, Лермонтов мог видаться с Полежаевым, тем более что у них общим приятельским знакомством являлась семья Бибиковых. – Об Алекс. Ив. Полежаеве смотри статью Г. Ефремова в прекрасном издании соч. Полежаева г. Суворина, Спб., 1889 г.].
Полежаевская история тогда была еще жива в памяти университетской молодежи. Она случилась в 1826 году. За ней начался ряд стеснительных мер для университета.
Об Александре Ивановиче, постигнутом судьбой, так сказать, на другой день по окончании курса, много еще толковалось, а университетская поэма его «Сашка», несмотря на строгое запрещение, все ходила по рукам в рукописях. Эта поэма, собственно, не имела ничего политического, хотя Герцен в рассказе своем о Полежаеве старается дать ей такое значение, и с легкой руки его мнение это распространилось у нас. «Сашка» имеет частью автобиографическое значение, и Полежаев описывает в нем грубые шутки и дикие, буйные выходки студентов, кутил, повес, времена которых миновали, когда был студентом Лермонтов, но некоторые рассказы о которых еще жили в памяти молодых людей, в известные годы любящих, что называется, «хватать через край». В подражание или в память Полежаеву Лермонтов написал своего «Сашку», тоже с автобиографическими чертами. Писанная одним размером с полежаевским произведением, с подобными же выходками эротического, подчас непристойного содержания, она вылилась у Лермонтова под влиянием другой, менее благотворной сферы, уже позднее, во время и после пребывания в школе гвардейских юнкеров; но так как в ней частью рисуется университетское пребывание Лермонтова, то я и говорю о ней в этой главе. Мы видели выше, каким описывает Лермонтова в светском кругу Вистенгоф. Приблизительно такое же описание делал мне и другой его товарищ[93 - В Москве я отыскал г. Фее, товарища Лермонтова, впрочем, не из близких. Он о Лермонтове мог сообщить не много. В общих чертах его описания сходны с тем, что говорит Вистенгоф. О братьях Фее упоминается и в записках Хвостовой. Лермонтов «забавлял нас анекдотами о двух братьях Фее и для отличия называл одного Fе – nez-long, а другого Fе – nez-court. Фенелон был чем-то в университетском пансионе и служил целью эпиграмм, сарказмов и карикатур Мишеля». Относительно наружного вида Л. сходно говорит и Костенецкий, тоже товарищ Лермонтова по университету.]. И Лермонтов подтверждает эти показания, изображая героя поэмы «Сашка»:
Он ловок был, со вкусом был одет,
Изящно был причесан и так дале.
На пальцах перстни изливали свет,
И галстук надушен был, как на бале.
Ему едва ли было двадцать лет,
Но бледностью казалися покрыты
Его чело и нежные ланиты,
(Не знаю, мук иль бурь последних след,
Но мне давно знаком был этот цвет),
И на устах его, опасней жала
Змеи, насмешка вечная блуждала.
Заметно было в нем, что с ранних дней
В кругу хорошем, то есть в модном свете,
Он обжился, что часть своих ночей
Он убивал бесплодно на паркете