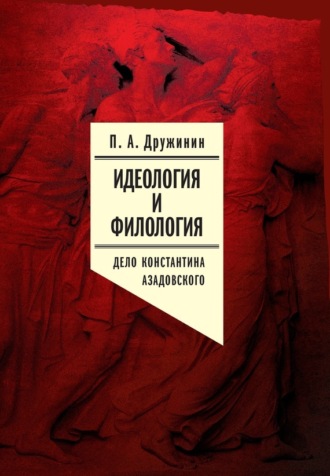
Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование
Здесь стоит еще раз согласиться с Азадовским – он не был диссидентом. И, чтобы наскрести по сусекам его биографии состав преступления по 70-й статье, не хватило оснований. Именно поэтому комитетчики сочли вполне достаточным изолировать его от общества, а по какой статье – это уже не играло особой роли… Причастность Азадовского к делу Славинского указала им на наркотики. Но могли, в сущности, возбудить дело и по какой угодно другой статье.
Кроме того, в уголовном деле Азадовского органы КГБ сами себя скомпрометировали, причем, как нам кажется, непозволительно. Дело в том, что присутствующее в уголовном деле экспертное заключение Б.А. Маркова при внимательном изучении его именно как документа имеет одну физическую особенность. На первом листе этого документа в правом верхнем углу даже зрительно заметна подчистка лезвием и резинкой. Но поскольку пишущая машинка оставляет более глубокий след (в отличие, скажем, от современного принтера), то при внимательном рассмотрении можно разобрать две полустертых строки, которые являлись некогда сведениями о подлинном источнике документа и которые следствие неуклюже попыталось убрать: «Управление КГБ СССР по Ленинградской области».
Конечно, уже тогда Азадовский многое понимал и прозорливо ощущал то, что мы сейчас имеем доказанным. Но было ли ему от этого легче? Вряд ли… Уголовная статья по делу о наркотиках не только перечеркивала его биографию, но и припечатывала ему клеймо уголовника. Нет, не уголовника вообще, поскольку и осужденные по политической статье в СССР также считались «уголовниками», а именно уголовника в смысле содеянного. И если для него как для ленинградского ученого и потомственного интеллигента было бы вполне возможно нести крест политзаключенного, то клеймо уголовника – это был уже явный перебор.
Что касается сроков заключения, то по статье 190-1 («Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»), для которой можно было набрать улик на каждого жителя страны, подслушав лишь один его разговор или зафиксировав рассказанный им анекдот, предусматривался ровно такой же срок, как и по его нынешней статье – до трех лет лишения свободы. Почему тогда дело о наркотиках? Могли бы намотать и 190-ю прим. Этого он понять не мог…
Однако постепенно в голове Азадовского стала складываться целостная картина: он вспоминал осень 1980 года, когда ему всюду мерещилась слежка и он постоянно опасался обыска. Он вновь и вновь размышлял о том, почему его так долго не утверждали в должности в ЛВХПУ. Он перебирал в голове эти «не» уже не подсознательно, а вполне осознанно… Память подсказывала ему все новые факты, и он уже отчетливо видел, как в последние месяцы 1980 года вокруг него неумолимо сжималось кольцо…
Он, правда, пытался убедить себя в том, что он «ничего такого» не совершает и что вменить ему нечего. И друзья его успокаивали, объясняя такую подозрительность свойством его характера, врожденной мнительностью и даже подчас подозрительностью. Жизнь показала, что он вовсе не заблуждался. Не случайно Светлана заявила на одном из допросов, что «в последнее время за ней и ее мужем, Азадовским К.М., осуществляли наблюдение незнакомые лица».
Вне уголовного дела
В сентябре 1980 года к Азадовскому в коридоре подошел проректор Мухинского училища Владимир Иванович Шистко (чья подпись вскоре окажется под служебной характеристикой Азадовского). Он огорошил Константина Марковича сообщением, что к нему обращались «кураторы из Комитета», утверждавшие, что Азадовский «антисоветчик, выступающий якобы перед немецкими туристами с антисоветскими речами», и настойчиво рекомендовали не переизбирать Азадовского на очередном конкурсе. В тот момент Шистко сочувственно отнесся и к Азадовскому, и к ситуации, и – надо отдать ему должное – предложил довольно изящный выход: вступить в КПСС, «чтобы защититься». Азадовский ответил сплеча: «Все это абсурд и нелепость, не надо меня тянуть в партию!» – и счел этот разговор очередной завлекаловкой в парторганизацию вуза.
Понять всю серьезность того, что сказал ему Шистко, он смог буквально через две недели. Ему позвонила одна из его знакомых, Наталья Исаметдинова, и попросила о встрече. Когда они встретились, она сквозь слезы стала рассказывать, что несколько дней назад, 13 октября 1980 года, ее вызвали в милицию прямо с работы. Там, в отделении милиции, люди, назвавшие себя сотрудниками угрозыска, стали ее расспрашивать о «гражданине Азадовском» и убеждать в том, что он является замаскированным врагом советского государства. Начали они издалека, сообщив, что уже его отец был «врагом народа» – «участником сионистского заговора, расстрелянным за антисоветскую деятельность». О самом Константине ей также сообщили много неожиданного: он, дескать, наркоман, частый гость ленинградских наркопритонов, а кроме того, агент западногерманской разведки; и пытались добиться от Натальи подтверждения этим «фактам». Когда это не получилось, ее стали принуждать к даче ложных показаний: требовали написать, что она вступала в связь с Азадовским до достижения 18 лет (120-я статья УК – «развратные действия в отношении несовершеннолетних», до 3 лет лишения свободы). Однако девушка нашла в себе силы дать отрицательные ответы во всех случаях. Тем не менее ей на прощание сказали, что «Азадовский – враг, который должен быть наказан и будет наказан», и взяли у нее «подписку о неразглашении».
Мы не знаем, с кем еще велись осенью 1980 года подобные разговоры; но в данном случае сотрудники органов действовали топорно: пришли к девушке, чтобы под угрозами вынуть из нее компромат на человека, к которому она относилась с симпатией и, несмотря на подписку, смогла ему все рассказать. А сколько знакомых, давших такую же подписку, ему никогда и ничего не сказали…
Конечно, такие истории не могли не обеспокоить Константина. Особенно его настораживало то, что компромат на него собирается не «политический», а определенно «уголовный».
Уже во время следствия, как он узнал вскоре, сотрудники КГБ СССР продолжили оперативную работу по дальнейшему разоблачению враждебной деятельности Азадовского и Лепилиной. Это были сотрудники УКГБ по ЛО Безверхов и Кузнецов. До сих пор в нескольких архивных коллекциях сохраняются клочки бумаги, на которых эти офицеры госбезопасности оставляли свои координаты – рукодельные визитные карточки, прямо как в теледетективе: мол, звоните, ежели чего вспомните! Копии этих «визиток» в качестве доказательства причастности КГБ к своему делу Азадовский позднее прилагал к своим заявлениям в КГБ СССР. В одном из них (1988 года) он, в частности, писал:
…В январе 1981 г. один из названных сотрудников требовал (по телефону) от гр. Цакадзе М.Г., артистки Ленгосконцерта, чтобы она прервала гастрольную поездку по стране и срочно вернулась в Ленинград только для того, чтобы «переписать» свои показания по делу Лепилиной, которые она (Цакадзе) дала на предварительном следствии. Безверхов и Кузнецов неоднократно беседовали с Цакадзе, хвастливо заявляли, что наше уголовное дело наверняка будет иметь продолжение, что нас обоих (меня и Лепилину) «для начала» лишь слегка «пожурили» и т. п.
…В январе 1981 г. Безверхов и Кузнецов приезжали к вдове моего знакомого Балцвиника М.А., убеждали ее в том, что я, будто бы, собирался продать на Запад за 50 долларов коллекцию фотографий, завещанную мне ее покойным мужем и т. д. Пытаясь склонить [Л.Г.] Петрову к лживым показаниям, сотрудники КГБ в сущности преследовали одну цель: «доказать», что я замышлял государственное преступление.
Разберем еще одну ситуацию, которая после ареста Азадовского получила в литературных кругах однозначную трактовку: провал его кандидатуры в члены Союза писателей, когда при голосовании на секретариате Ленинградского отделения СП ему «не хватило всего одного голоса».
Сперва отметим специфическое отношение к переводчикам в Союзе писателей, которое можно видеть по высказыванию Геннадия Шмакова, эмигрировавшего в декабре 1975 года в США и давшего 28 марта 1976 года интервью корреспонденту нью-йоркского бюро радио «Свобода» В.И. Юрасову. Вот что он сказал о коллегах по секции художественного перевода:
…Труд их оплачивается достаточно высоко, они пользуются правами наравне с другими членами Союза писателей – прозаиками, поэтами, критиками. С другой стороны, они – парии и неугодные личности. Они знают языки, им доступна любая литература и информация, их литературные мерки и критерии высоки, они – элита, и потому советские писатели, в массе своей прекрасно усвоившие, что соцреализм – это способ угодить партийному начальству в доступной им форме и обогатиться, испытывают к ним классовую неприязнь. К тому же они – конкуренты большинству советских писателей, для которых литература – источник привилегий. Ведь чем больше в России выходит хорошей западной литературы, тем выше уровень читательской взыскательности и вкуса…
Вообще же система избрания в Союз писателей в те времена была чем-то похожа на защиту диссертации: она занимала не менее года при самом благополучном раскладе и процедурно вконец изматывала даже карьеристов или приспособленцев, не говоря уже о рядовых писателях и переводчиках, вознамерившихся примкнуть к профессиональному сообществу. Поначалу требовалось собрать и представить рекомендации трех действующих писателей, членов Союза, а также ворох других бумаг; затем получить не менее ⅔ голосов в тайных голосованиях на всех уровнях, которых в общей сложности было четыре! Сперва секция (прозы, поэзии, критики, перевода и т. д.), затем – приемная комиссия, затем – секретариат Ленинградского отделения СП, и уже победным финалом – Москва, формально утверждавшая голосование «на местах». Главная трудность для тех, кто вполне устраивал коллег по писательскому цеху, как раз и состояла в голосовании секретариата Ленинградского отделения, где многим прошедшим два первых этапа обрезали крылышки с формулировкой «не хватило одного голоса».
У Азадовского этот процесс растянулся больше чем на год. В 1978 году он его инициировал и получил необходимые рекомендации. Его рекомендовали три члена Союза писателей: академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, доктор филологических наук Владимир Григорьевич Адмони, переводчица Рита Яковлевна Райт-Ковалева.
Так вот, 1 декабря 1980 года секретариат Ленинградской писательской организации как раз рассматривал кандидатов от переводческой секции, уже преодолевших первые две ступени, и Константину Азадовскому не хватило одного голоса. Безусловно, такое решение секретариата было для Азадовского неожиданным, да и весьма огорчительным: ведь членство в Союзе писателей – это не только возможность иметь привилегии согласно статусу, но и некоторый, хотя бы и эфемерный, иммунитет от «органов». Тем более что ленинградские чекисты всегда внимательно присматривались к тому, что происходило у их соседей-писателей.
И, наконец, еще одна история. Весной 1977 года Светлане позвонили на работу: «С Вами говорит сотрудник управления КГБ по Ленинграду; нам нужно с Вами сегодня встретиться. Подробности будут при встрече. Вам удобно у Летнего сада? Тогда договорились». Светлане было не слишком удобно, но, видимо, это было удобно сотруднику – все-таки недалеко от Литейного, 4. Вероятно, если бы ее вызвали непосредственно в Управление, она бы как-то настроилась на официальный лад, а тут – совсем непонятно; что еще за прогулки по Летнему саду?
Летний сад был уже наполнен бурной весенней зеленью липовых деревьев, людей почти не было. Она пришла раньше и пару минут подождала; они вошли внутрь и медленно шли по боковой аллее у Лебяжьей канавки. Разговор был мягкий, несколько даже с намеком на ухаживание – такой очень вежливый сотрудник, он деликатно коснулся прежней жизни Светланы, ее умершего мужа, потом – нынешней… «Ведь уже два года, как Вы вместе с Костей…»
Такая осведомленность о ее жизни Светлану испугала. Вопросы тем временем становились менее невинными. Уверена ли Светлана в своих друзьях? Понимает ли она, что Родина может в какие-то моменты нуждаться в ее помощи? Знает ли она, какой агрессии, явной и скрытой, подвергается Советский Союз со стороны западных спецслужб?..
Будучи человеком неглупым и прямым, Светлана в лоб спросила его, почему он ведет с ней этот разговор и что конкретно ему от нее нужно – ведь ни в чем предосудительном она не замешана и вряд ли к ней в связи со всем вышесказанным у КГБ могут быть какие-либо претензии. Сотрудник согласился и вообще поддержал Светлану в ее словах, но пояснил: среди ее знакомых есть люди, которые могут оступиться и принести вред не только себе, но и стране; есть те, которые общаются с иностранцами и потому находятся в группе риска…
И сотрудник предложил Светлане изредка, раз в две-три недели, встречаться, гулять, сидеть в кафе, И, быть может, он однажды попросит ее рассказать о ком-то конкретно. «Это только предложение» и т. д. Светлана была не менее откровенна. Она заявила (и, вероятно, не кривила при этом душой), что «это не для нее», что она «все равно не тот человек, который может или хочет иметь двойную жизнь» и т. д. И в конце концов сказала твердое «нет».
Расставаясь, сотрудник попросил не распространяться об этом разговоре: «Это важно и для вашего спокойствия». Буквально через полчаса, встретившись с Константином, она рассказала ему об этом. Впоследствии никто никогда ей об этом не напоминал.
Что это была за встреча? Говоря шершавым языком контрразведки, это был «личный контакт с кандидатом на вербовку в качестве агента, который позволяет выяснить, пригоден ли кандидат к агентурной работе». И действительно, в тот весенний погожий день сотрудник УКГБ выяснил, что Светлана для агентурной работы непригодна. Вероятно, после встречи он так и написал в своем отчете…
Тайна
Но где же берет начало это противостояние? Ведь кроме общения с иностранцами за ним и «вины» – то никакой не было… При этом «иностранцы» – в основном коллеги-филологи, специалисты по русской литературе.
Было ли общение с ними предосудительным? Судя по тому, что приезжали эти коллеги в СССР официально, не без труда получая визы и оформляя стажировки в академических институтах Ленинграда и Москвы, то, наверное, особой политической опасности для Советского государства они не представляли. Но и у них с точки зрения государственной безопасности иногда оказывался «скелет в шкафу». А Ленинградское управление славилось именно разработкой иностранцев.
Для КГБ не было секретом, что многие западные русисты 1960–1970-х годов, особенно англичане, учили русский язык не в университете. Дело в том, что на заре холодной войны, когда Европа ожидала агрессии от СССР, премьер-министр Великобритании Клемент Ричард Эттли (занимавший этот пост в 1945–1951 годах, в период «междуцарствия» Черчилля) озаботился тем, что почти никто в стране не знает русского языка. Правда, некоторые британские офицеры изучали русский язык в King’s College и на кафедре славистики Лондонского университета, а затем жили несколько месяцев в эмигрантских семьях, но это все-таки были разведчики и кадровые дипломаты, и численность их была крайне невелика. Речь же шла о том, что вскоре предстоит полномасштабная война с СССР и армия будет нуждаться в переводчиках в значительно большем объеме.
И тогда в 1951 году Эттли подписал секретное распоряжение о создании в системе вооруженных сил Великобритании сети языковых школ – The Joint Services School for Linguists. Они просуществовали до 1960 года, и набор в них осуществлялся официально по призыву в вооруженные силы; в результате за десять лет было подготовлено более шести тысяч молодых людей, которые знали русский язык наилучшим образом – военная дисциплина поддерживала успеваемость на высочайшем уровне. И хотя эти школы не входили в систему британской разведки и не готовили офицеров для Secret Intelligence Service, выпускникам было запрещено делиться сведениями о своей учебе как представляющими государственную тайну. При этом в СССР – в Первом главном управлении КГБ – ошибочно полагали, что эти языковые школы являются аналогами разведшкол. Именно поэтому, получив сведения о том, что гость Страны Советов имеет за плечами такое лингвистическое прошлое, чекисты не сомневались в его разведывательной миссии.
Много известных писателей и русистов изучило таким образом язык Толстого и Достоевского. Писатели Алан Беннетт и Дональд Майкл Томас тоже учились в этой школе, а последний впоследствии отметил глубину изучения языка, несмотря на военные цели. «Что гораздо важнее, – писал Томас, – она воспитала поколение молодых и позднее влиятельных британцев, испытывавших глубокие, исполненные уважения, трогательные чувства к России – вечной России Толстого, Пушкина и Пастернака».
По-видимому, Азадовский и начал по-настоящему интересовать отечественные спецслужбы именно тогда, когда стал де-факто «связью иностранца» – так на языке КГБ именовались граждане СССР, «имеющие или имевшие контакты с иностранцами, прибывшими в Советский Союз из капиталистических государств». Далее в этой связи внутренние инструкции КГБ СССР подчеркивали: «Наибольший оперативный интерес представляют контакты, устанавливаемые иностранцами из капиталистических государств, причастными или подозреваемыми к причастности к разведывательным, контрразведывательным и иным специальным службам противника».
Впрочем, Азадовский, чувствуя интерес компетентных органов к его «контактам», вряд ли в то время догадывался, что КГБ подозревает практически всех филологов-русистов в разведывательной деятельности, направленной на подрыв обороноспособности СССР.
А вот где он подозревал реальную опасность, так это в своей «прошлой жизни». В студенческие годы Азадовский работал во время каникул гидом-переводчиком в бюро международного молодежного туризма «Спутник», созданном в конце 1950-х годов на волне оттепели (по сути – молодежный вариант «Интуриста»). Эта работа кроме языковой практики и общения с иностранцами имела одно особое обстоятельство – делала фактически обязательным общение с сотрудниками КГБ. Процитируем еще раз в этой связи строки из дневника Алена Жмаева, относящиеся к 1960-м годам:
Утро я встретил на подоконнике рабочей комнаты, под сенью герани, в обществе молодой женщины с кафедры немецкого языка. Мы дурачились от души, но близился скупой рассвет, а вместе с ним трезвели и мы. Моя дама несколько лет работала в «Интуристе», и, конечно, я стал расспрашивать ее, как мы относимся к иностранцам. Этот вопрос занимал меня давно, а так впервые представилась возможность получит ответ из первых рук.
– Ужасно! – сказала она. – Просто ужасно. Ведь «Интурист» – официальный филиал КГБ. Все наши гиды у них на учете, и все мы даем подписку, что будем сообщать им обо всем подозрительном. Маршруты для иностранцев расписаны строжайше. Если мы едем в соседний город жарким днем и проезжаем живописную деревушку, а нашим гостям почему-то захотелось остановиться, размять ноги, полежать на травке, может быть, даже молочка попить, мы, гиды, обязаны письменно сообщить, сколько минут стоял автобус, кто и на какое расстояние отходил, не задавалось ли на остановке дополнительных вопросов и т. п. Доверия ни к кому из приезжих: ни коммунистам, ни антифашистам. Это ты у себя на родине, может быть, антифашист, а у нас ты – потенциальный шпион. Мы обязаны фиксировать о них всё: вопросы, замечания, интересы, рассказы о родных местах, – всё, кроме их разговоров о погоде и восхищения русской водкой.
Восемнадцатилетний студент филологического факультета Константин Азадовский, устраиваясь летом 1960 года в «Спутник» гидом-переводчиком, имел обо всем этом отдаленное представление. Его привлекала возможность активизировать свой немецкий язык – пообщаться с живыми носителями. Да и ничего устрашающе-идеологического он при поступлении на эту работу не видел. На дворе стояла хрущевская эпоха, и Константин, как и многие в ту пору, верил, что все кровавые ужасы, о которых он слышал от взрослых, в прошлом.
«Спутник» формально был независим от «Интуриста», в качестве вышестоящей организации им руководил Комитет молодежных организаций СССР (который, в свою очередь, представлял собой внешнеполитическое подразделение ЦК ВЛКСМ и формально был отдельной общественной организацией). Но если «Интурист» имел в своем штате около 800 профессиональных переводчиков и устроиться туда студенту было практически невозможно, то «Спутник» привлекал к работе именно студентов языковых вузов. Несмотря на то что они не имели официального оклада, их труд все-таки оплачивался: во-первых, они обеспечивались наравне с приезжавшими гостями, то есть имели трехразовое качественное питание, которое предлагалось гостям из-за границы советским общепитом; во-вторых, за каждый день работы с группой – от дня приезда до дня отъезда – им выдавалось по 10 рублей карманных денег.
Работал Азадовский в «Спутнике» дважды, по месяцу с небольшим, после второго и после третьего курса – летом 1960 и 1961 годов. Именно в 1961 году он и «влип».
Оказавшись с группой туристов из ФРГ на одном из южных курортов СССР, Константин, как говорится, «расслабился»: днем загорал на пляже, вечера проводил в задушевных беседах с немцами. Участвовали в этих застольях и советские отдыхающие. Говорили на разные темы, часто спорили о «социализме» и «капитализме». Как-то раз в разгаре очередной дискуссии кто-то из присутствующих предложил выпить за капитализм. Константин поддержал этот тост, что-то добавил и от себя. Наутро это стало известно «кому надо». Ни о чем не подозревая, он доставил туристов в Москву, и здесь его вызвали к одному из руководителей «Спутника». Тот хмуро посмотрел на него, сообщил о поступившем «сигнале» и объявил, что отстраняет его от работы. «По какой причине?» – «Не следует языком болтать».
В Ленинград Константин вернулся уже своим ходом. Лето еще не закончилось, студенты должны были где-то работать, и он устроился в университетский комитет ВЛКСМ. Организовывал встречи, координировал работу стройотрядов и пр. Секретарь университетского бюро Володя Калюжный относился к нему с явной симпатией. А осенью на одном из заседаний бюро ВЛКСМ ЛГУ выступила сотрудница из другого бюро – Бюро международного молодежного туризма, которая и сообщила изумленным комсомольцам о поведении студента Азадовского, не оправдавшего доверие, принимавшего участие в антисоветских разговорах и в итоге отстраненного от работы с иностранцами. Поступок студента разбирался на заседание комсомольского бюро, но дело, по счастью, не получило продолжения. Комсомольское руководство (Костя знал их почти всех лично) попросту замяло эту историю.
Этим, однако, дело не ограничилось. Вскоре его вызвали в «Спутник», где с ним пожелал встретиться некий товарищ, попросивший называть его Николай Михайлович. Расспросив Константина об обстоятельствах курортного эпизода, товарищ в духе весьма благосклонном сказал, что «органы» ему в общем-то доверяют, что они рассматривают его проступок как случайность и предлагают продолжить работу, только не в «Спутнике», а в «Интуристе». Разумеется, не сейчас – учебный год уже начался, – а в будущем сезоне, во время летних каникул 1962 года.
Чем отличалась работа в «Интуристе» от работы в «Спутнике», так это чистописанием. Несмотря на слухи, что «“Спутник” – филиал КГБ», там ничего писать не заставляли, особенно с учетом возраста гидов. В «Интуристе» же дело было поставлено куда основательнее. После работы с группой или отдельным туристом абсолютно все гиды писали отчеты; трудно поверить, что все они без исключения были на крючке у КГБ: наверное, кто-то из них был штатным сотрудником Комитета («офицером действующего резерва КГБ СССР»); кто-то, подобно Азадовскому, был тем или иным способом заловлен в сети; а кто-то, вероятно, вообще не имел никакого отношения к спецслужбам.
Словом, работа была прежней, только с обильной писаниной; но ничего особенного по-прежнему не происходило, все служебные обязанности оставались в рамках переводчика. Лишь изредка его вызывали (в «Спутнике» обычно для расспросов была комната в гостинице, в «Интуристе» же была на законных основаниях спецчасть) и задавали вопросы о ком-то из туристов. «Не показалось ли тебе, что он знает русский?» – «Нет, не показалось». – «Не пытался ли отделиться от группы?» – «Нет, не пытался».
В августе 1962 года Азадовского вновь пригласили на беседу, в этот раз – к одному из руководителей ленинградского «Интуриста». Это случалось и раньше, когда его спрашивали о впечатлении от группы или от конкретного иностранца. Но теперь разговор касался иного. Речь шла о том, что он уже взрослый человек, гражданин своей страны, что мир расколот на два враждующих лагеря и «каждый советский человек» обязан в этой ситуации сделать свой выбор. Что ему, Азадовскому, конечно же, доверяют, но этого недостаточно. Он должен написать расписку в том, что готов помогать органам. Разумеется, все это относится лишь к его работе в «Интуристе» – ничего иного от него не потребуется. В разговоре принимали участие еще несколько человек; один из них был тот самый «Николай Михайлович».





