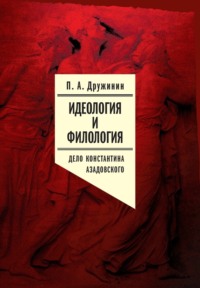Антикварная книга от А до Я, или пособие для коллекционеров и антикваров, а также для всех любителей старинных книг
Но из иллюстрированных детских книг 1920–1930‐х годов, которые считаются безусловно редкими, сразу вспоминаются несколько, из которых упомянем две. Первая – напечатанная в марте 1922 года в 15‐й государственной типографии (бывшей «Р. Голике и А. Вильборг») небольшая полностью литографированная Владимиром Лебедевым книжка «Приключения Чуч-ло». Она, в сущности, является не столько книжкой, хотя в выходных данных указано название издательства – «Эпоха», сколько графической серией, да и сам горизонтальный формат свидетельствует в пользу такой трактовки. Но главное – стиль этой книги, задуманной в 1921 году, в пору крайне голодного Петроградского безвременья, которая представляет собой графический портрет самого художника. В ней виден и Лебедев-плакатист, работавший так плодотворно в качестве художника Российского телеграфного агентства (РОСТА) и старающийся оторваться от графичности плаката в сторону живописности карандашно-зернистой литографской фактуры; и Лебедев-экспериментатор, который создает законченный графический детский цикл новой эпохи; и Лебедев-писатель, который хотя бы и не вполне удачно, но сам придумывает текст; и, наконец, мы видим Лебедева-ребенка – он сделал такую книгу, идеал которой сформировался у него в голове сообразно собственным мальчишеским впечатлениям. По той причине, что издательство «Эпоха» не специализировалось на детской литературе (хотя в число сотрудников и входил К. И. Чуковский) и само тяжелейшее время начала 1922 года не позволяло издать книгу большим тиражом – не было бумаги, а та, на которой напечатано «Чуч-ло», лежала на складе типографии с дореволюционного времени, книга эта стала не только вехой в области детской книги и русской графики вообще, но и библиофильской редкостью. Нередко эта книга попадается на антикварном рынке либо с вырезами, либо с заплатками, либо после реставрации. Все эти манипуляции призваны скрыть бывшие на экземплярах штампы государственных библиотек, откуда такие экземпляры происходят и, наверное, будут происходить в значительной степени.
Книгой же, которая совершенно ненаходима на антикварном рынке, является иллюстрированная книжка «Петяш». Внешне это более чем рядовая книга. Автор – В. А. Савин, выступивший под псевдонимом Виктор Горный, написал текст для издаваемой Московским комитетом ВЛКСМ серии «Библиотека юного пионера». Книжка увидела свет в 1926 году в издательстве «Новая Москва»; чуть больше восьмой доли, не тоненькая, как чаще бывает, – в ней без малого сто страниц, предназначена она для подростков; тираж достаточно большой: 5000 экземпляров. Прозаик, псевдоним которого говорит об уральском происхождении, повествует о жизни и борьбе юного пионера Пети с буржуями, и рассказ его ничем особенно не отличается от традиционной советской пионерской литературы худшего извода, кроме одного: он иллюстрирован выдающимся художником-плакатистом Густавом Клуцисом и его супругой Валентиной Кулагиной (более известной как Кулагина-Клуцис). Их картинки выразительны, выполнены в популярной тогда технике фотомонтажа, но с присущим этим художникам мастерством. Обложка – напротив – достаточно простая, с крупным портретом героя и крупным же текстом заглавия, не черно-белая, как иллюстрации, но с добавлением дополнительно одного цвета (я видел два варианта – один с синим цветом, другой – с зеленым).
Отчего же эта книга вдруг такая редкая? Трудно сказать доподлинно. Безусловно, что если книги мирискусников сохраняли и берегли, то подобное творчество отправлялось в макулатуру достаточно быстро; и не слишком выразительная обложка (иллюстрации выполнены характерно для Г. Клуциса), и вскоре потерявший актуальность малоинтересный текст… Возможно, что такая немыслимая редкость связана и с некими проблемами, которые подстерегали книгу после выхода в свет. Словом, когда ближе к концу XX века имя Густава Клуциса оказалось синонимом фотомонтажа, политического плаката и, наконец, русского авангарда – книги этой и след простыл. «Петяш» сгинул в котлах для переработки бумаги. Помню, когда в 1994 году нам с коллегой посчастливилось украсить свой очередной аукцион хорошо сбереженным экземпляром, то за него ожидалась – и состоялась – настоящая битва: все знали, что выдающийся коллекционер детской книги Марк Рац ищет его многие годы и якобы только из‐за этой кровоточащей дезидерата не может отдать в печать каталог своего прекрасного собрания… Словом, Марк Владимирович дождался-таки разыскиваемой долгие годы книги, а мы – никогда больше не видели в продаже ни одного экземпляра. Впрочем, неисповедимы пути книг, не дремлют библиотечные воры, да и сам тираж позволяет надеяться, что в груде хлама счастливчик найдет брошюрку с ныне архаичным вариантом имени нашего тезки – «Петяш».
Вообще детских книжек с иллюстрациями в технике фотомонтажа довольно много, и они могут составить целый раздел собирательства. В этой технике работали и сестры Галина и Ольга Чичаговы, плакатист Сергей Сенькин, выдающийся мастер книги Соломон Телингатер. Однако техника фотомонтажа заранее предопределяет связь иллюстраций со злободневной, гротескной современностью, отсюда и идеологическая направленность абсолютного большинства книг с иллюстрациями такого рода. Это порой горько и неприятно для чтения, но неотделимо как от истории нашей родины, так и от истории книги.
Авторы текстаМногие писатели прославились благодаря своим произведениям, написанным для детей, это, вероятно, не будет новостью. Опять же вспоминаются фамилии главных детских писателей XX века: Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Агнии Барто, Сергея Михалкова… Но перечень этот, пускай и в более расширенном виде, в общем-то традиционен для детской литературы, и книги этих и им подобных авторов хотя и выделяются на общем фоне, но все-таки в сравнении с менее известными детскими же авторами. Наверное, отдельно от них, и в плане коллекционирования, и в плане более высокой стоимости, отстоят книги обэриутов – Александра Введенского и Даниила Хармса. Кроме того, существуют книги в общем-то совсем не «детских» авторов, которые были написаны для детей; именно эти книжки порой становятся редкими, а некоторые из них – самыми значительными библиофильскими редкостями среди всех книг XX века. Собственно, наиболее редких книг всего несколько.
Первая хронологически – сказка Алексея Ремизова «Морщинка» с рисунками Мстислава Добужинского, героем которой являются две мышки – Алишка-кургузка и Морщинка-долгоуска. Небольшая книжка, форматом в горизонтальную малую восьмерку, в издательском картонаже; вышла она в издательстве «Шиповник» в 1907 году и была отпечатана в недавно основанной типографии «Сириус». Это была вторая отдельная книга Алексея Ремизова и первая детская книжка, иллюстрированная Добужинским. Безусловно, в этой книге Добужинский не достигает таких высот, какие ему покорились в знаменитом «Свинопасе» и других книгах, а иллюстрации к знаменитому сатирическому листку «Жупел» кажутся более выразительными; но иллюстрации к «Морщинке» – в любом случае казались современникам новаторскими. Хотя в целом ценность книги – не в иллюстрациях. Ценность в тексте Алексея Ремизова, замечательным образом написанном в традициях русских народных сказок (впрочем, некоторым современным библиофилам, наследникам классового подхода, этот текст почему-то кажется «декадентской сказкой»). Главное – то, что сказка создана в то время начинающим, но впоследствии – известным русским писателем.
Однако в том, что эта детская книжка стала одной из самых знаменитых, сыграло свою роль и еще одно немаловажное обстоятельство: редкость книги. Наверное, если бы автор так и остался начинающим, то книга была бы не менее редка, но мало кому нужна. Редкой бы она стала в любом случае, поскольку тираж ее был 300 экземпляров. Много это или мало? Для книги русского поэта начала XX века – вполне достаточно, чтобы ее можно было сыскать. Но для детского издания – это действительно очень мало. К примеру, изданная таким же тиражом первая книга Анны Ахматовой «Вечер» стала редкостью благодаря всемирной известности автора, но все равно ее можно купить, имея достаточно средств – поскольку поэзия читалась и ценилась, переходила из рук в руки и из поколения в поколение. Не так с детскими книжками, притом достаточно невзрачными – а именно так, если говорить начистоту, выглядит «Морщинка». Если что-то выдающееся детям не давали на раздирку, берегли, то «Морщинка» все-таки не достигает тех высот иллюстрированной детской книжки начала XX века. А потому – большая часть тиража была уничтожена безжалостными читателями книги – детьми. Вряд ли они могли полагать, что автор станет в будущем знаменитым русским писателем, да и пусть бы даже знали…
Но если «Морщинка» считается некоторым изыском в области детской книги, то вершиной раздела детской книги 1920–1930‐х годов, как по коллекционному значению, так и по цене, нужно считать детские книжки двух русских поэтов – Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака. Можно поспорить с тезисом, что эти книжки наиболее ценны в этом сегменте печатной книги в культурном смысле или в смысле значения для истории искусства. И действительно, «Цирк» или «Мойдодыр» во много крат значительнее и известнее. Но вот в смысле коллекционной ценности, редкости и собственно цены книги Мандельштама и Пастернака явно дадут фору всем остальным.
У Осипа Мандельштама четыре детские книжки: «Примус» с рисунками Мстислава Добужинского (Л.: Время, 1925), «2 трамвая» с рисунками Бориса Эндера (Л.: Госиздат, 1925), «Шары» с рисунками Николая Лапшина (Л.: Госиздат, 1926) и «Кухня» с рисунками Владимира Изенберга (Л.: Радуга, 1926). У Бориса Пастернака их две: «Карусель» с рисунками Дмитрия Митрохина (Л.: Госиздат, 1926) и «Зверинец» с рисунками Николая Купреянова (М.: Госиздат, 1929, тираж 10 000 экземпляров). Эти книги не все одинаково редки. Мне казалось всегда, что «Зверинец» Пастернака явно встречается чаще остальных – он и толще, и меньше форматом, и менее интересен иллюстративно. Однако именно эти несколько книг – необходимая составляющая любой коллекции детской книги, претендующей если даже не на полноту, то хотя бы на само название «коллекции». И поиск этих шести книжек (не ворованных библиотечных экземпляров, на которых стерты печати, как порой мы видим даже в печатных описаниях коллекций, а именно чистых и хорошо сохранившихся) – дело непростое, особенно если представлять себе действительные денежные эквиваленты, которые придется принести в жертву собирательской страсти.
АзбукиОтдельным направлением в собирательстве детских книжек является коллекционирование азбук начала XX века. Вероятно, можно было бы собирать азбуки и более ранние, но это тема не слишком плодотворная – такие издания крайне редки и ныне преимущественно сохранились в фондах библиотек, поскольку получены были в качестве обязательного экземпляра.
Особенно ценных азбук начала XX века не так много. Самой «главной» среди них считается азбука Александра Бенуа, потому как трудно переоценить то место, которое занимает эта книга в русском искусстве начала XX века. При этом рано или поздно коллекционер приобретает экземпляр, и дальнейшие страдания относятся лишь к замене имеющегося на экземпляр лучшей сохранности. Но существуют и такие азбуки, которые действительно очень редки. Азбука, исполненная Елизаветой Бём, практически не попадается на рынке; она была издана в Париже известным печатником цветных изоизданий и цветных открыток И. С. Лапиным, выходила выпусками по шесть букв, но в связи с началом Первой мировой войны издание прекратилось четвертым выпуском (всего 24 листа большого формата с наклеенными цветными автотипиями). И хотя издательство просуществовало в Париже до 1930‐х годов, окончить Азбуку так и не удалось. Бытует мнение, что тираж издания был очень ограниченным, но даже если это преувеличение, то сам его тип – папка с шестью иллюстрациями – сделал азбуку Елизаветы Бём редкой, ведь в силу малого объема каждого выпуска, а также неудобно большого размера (около 40 сантиметров в высоту) комплекты этого издания сохранились лишь чудом. Не лишним будет сказать, что и платежеспособный спрос на издание ограничен, поскольку и отношение к Елизавете Бём не вполне однозначное, а даже важнее – то, что азбука не вышла полностью.
Считается, что крайне редкой является неоконченная украинская азбука Георгия Нарбута – она была издана в 1921 году в Петрограде, уже после смерти художника, под названием «Четырнадцать рисунков украинской азбуки». В действительности Нарбут работал над азбукой в 1917 году специально для товарищества «Голике и Вильборг», как и гласит заглавный лист работы самого художника, но после октябрьских событий все рухнуло, а художник – покинул Петроград, то есть работа эта оказалась незаконченной, да и типография перешла в руки нового правительства, сменила громкое и знаменитое имя на «15-я гос. типография». Так вот, в 1921 году энтузиасты из Комитета популяризации художественных изданий решили спасти для искусства хотя бы часть – те листы, для которых в 1917 году были исполнены цинковые типографские клише. Часть листов уже была отпечатана (вероятно, заглавные листы с акварельной раскраской были заготовлены заранее), но сделали и новые оттиски с имевшихся в типографии форм. Небольшой библиофильский тираж составил 110 экземпляров, что, по-видимому, объяснялось ограниченным запасом качественной бумаги. Поскольку время было голодное и суровое, а цена азбуки назначена высокая, то расходилась она из рук вон плохо, а неразошедшаяся часть тиража погибла во время ленинградского наводнения 1924 года. Вследствие таких обстоятельств неудивительно, что книга очень редка. Стоит отметить, что это издание – изначально библиофильское, и каждый проданный его экземпляр попадал в библиофильское собрание. То есть если экземпляров было изначально и не так много, сохранились они гораздо лучше прочих азбук. Экземпляры этой азбуки всегда ценились собирателями, и хотя бы и дорого, но порой выходят на книжный рынок.
К безусловным и однозначным редкостям относится «Советская Азбука», изданная в 1919 году Владимиром Маяковским. Это издание – откровенно пропагандистское и просветительское в коммунистическом духе – распространялось бесплатно среди красноармейцев. И тут уже не было даже речи о том, что бумага употреблена была скверная, сообразно экономическим условиям, все равно после прочтения большинство экземпляров отправилось на цигарки. Эта книга относится к безусловным редкостям, и найти ее даже высокой ценой – затруднительно. Логически продолжает эту линию в азбуках и редкая «Азбука красноармейца» Дмитрия Моора, изданная в 1921 году для тех же читателей.
Коллекционирование и изучениеНесмотря на то что коллекционирование собственно детских книжек довольно долго не привлекало такого внимания, каковое имеется к ним последние двадцать – тридцать пять лет, они были каталогизированы намного раньше. И обязаны мы этим всецело одному человеку – уже упоминавшемуся И. И. Старцеву, который оставил нам прекрасную многотомную библиографию «Детская литература». То есть де-факто это не многотомник, просто сперва, в 1933 году, он издал в одном томе описание репертуара 1918–1931 годов, и оно является наиболее полным; в 1941 году вышел каталог изданий 1932–1939 годов, который сильно пострадал от того, что из него были выброшены все книги репрессированных авторов; в 1948 году была издана библиография за 1940–1945 годы, в 1950-м – за 1946–1948-й… И так, до самой своей смерти, он выпускал том за томом, составив библиографию детской литературы до 1966 года включительно, и отдельно был издан справочник по детским книжкам военных лет. Можно по-разному относиться к профессии библиографа, но для исследователей и коллекционеров труды И. И. Старцева – это настоящий подвиг. Сегодня, когда все справочники существуют в цифровых копиях, нет большой проблемы обратиться к ним; но долгие годы книги Старцева, особенно наиболее важный первый том, – были заветной мечтой большинства книжников.
Из коллекций, которые невозможно не отметить, я хочу сказать, во-первых, о неповторимом собрании М. В. Раца. Каталог его («Старая детская книжка, 1900–1930‐е годы: Собрание профессора Марка Раца») был напечатан в далеком уже 1997 году. Можно пенять на то, что полиграфически он издан не идеально. В тот момент, я тому свидетель, не было иной возможности, причем сам Марк Владимирович заставлял перепечатывать не только некоторые листы, но даже существует два варианта обложки – одна из них настолько не понравилась собирателю, что в типографии осенью 1997 года, когда тираж еще не пошел в свет, напечатали другую. Тогда же, в ноябре 1997-го, состоялась большая выставка собрания в Литературном музее. Однако сам текст этого каталога (в действительности – больше чем каталога), особенно введение Юрия Александровича Молока, оказывается крайне важным для изучения предмета. В этом собрании чувствуется вкус, знания самого собирателя, и в общем-то приходится признать, что хотя профессор Рац является геологом по основной своей специальности, но и в книжном собирательстве он также подлинный профессор. Наряду с детскими книжками он собирал книги издательства Academia и изданный в 1980‐м каталог – плод его трудов; им была собрана прекрасная коллекция русской поэзии начала XX века (по счастью, еще в 1990‐х годах эту коллекцию купили мы с коллегой, но по несчастью – тогда же и продали).
Однако детская книжка – главное детище Марка Владимировича – коллекционера. Он не просто стремился собрать все «главные» детские книжки – это ему казалось банальным, но интересовался художественной стороной вопроса, много сил и средств долгие годы тратил на поиск авторских эскизов, пробных оттисков, вариантов, портретов авторов и художников… Именно поэтому его коллекция и стала неповторимой: ведь книжки, пускай большими деньгами, но все-таки возможно собрать еще раз, а вот представить уникальные материалы к разделам этой коллекции – уже практически неповторимая удача. И теперь, когда это собрание физически перестало представлять единое целое, нет надежд на повторение его в будущем.
Уже в 1990‐х годах активно собирал детские книжки Валерий Юрьевич Блинов – коллекционер и нового времени, и новой идеологии собирательства, если так можно выразиться. Тем не менее он был настойчив, и коллекция его оказалась впечатляющей; в 2005 году был издан альбом-каталог «Русская детская книжка-картинка 1900–1941». Более того: книга В. Ю. Блинова положила начало тому потоку альбомов и репринтных воспроизведений детских книжек первой половины XX века, который не прекращается до сих пор. Идейный центр таких изданий – именно воспроизведение старой книжки; о глубоком книговедческом исследовании тут речи не идет (в крайнем случае – будет предисловие-жвачка о значении детской книги).
В заключение хочется сказать, что опыты практически полного воспроизведения старых детских книжек – отнюдь не новейшее изобретение, и многим они памятны. Дело тут в том, что именно с такими факсимильными изданиями связаны воспоминания многих книжников. И если сегодня цветное цифровое копирование есть главный источник подделок детских книжек, да и не только их, то в советские годы умело «подготовленный» репринт мог легко быть выдан за оригинал. Конечно, билибинские сказки, которые печатал Гознак на закате советской власти, очевидно новые – что, впрочем, не мешало им продаваться в качестве оригинала. Но основная головная боль книжников-антикваров 1990‐х проистекала от выпущенного в 1976 году издательством «Художник РСФСР» альбома Владимира Лебедева «10 книжек для детей», в котором после предисловия воспроизводятся десять знаменитых шедевров жанра – «Цирк», «Мороженое», «Усатый-полосатый» и так далее. Причем воспроизводились они практически факсимильно, а каждая из книг составляла отдельную тетрадку. То есть при уверенном владении ножницами производилось следующее: тетрадка вынималась из блока, скреплялась двумя ржавыми скрепками, не слишком изысканно старилась, и в результате – у вас в руках «настоящая книжка с иллюстрациями В. Лебедева», а они в 1990‐х годах разлетались как горячие пирожки. Учитывая, что в этом альбоме воспроизведено десять книг, из альбома 1976 года выходило десять «настоящих». По этой причине альбом 1976 года, тираж которого составлял 25 тысяч экземпляров, стал одним из наиболее дорогих изоизданий.
Такой способ заработка, освоенный некоторыми холодными букинистами, с успехом удовлетворял спрос на книги В. Лебедева, который создавался заезжими иностранцами; да и обычные букинисты попадались на такое не раз. При этом отличия оригиналов и факсимиле можно отметить. Кроме бумаги, которая в факсимиле при надрыве оказывается белоснежной в своей массе, важным отличием было и то, что факсимильные воспроизведения выполнены на офсетных машинах, а оригиналы книжек были литографированными, за исключением одной из десяти – «Усатый-полосатый» первым изданием также отпечатан на офсетной машине.
Дефекты и изъяны
В антикварной книге значительным фактором, влияющим на коллекционное значение и материальную стоимость конкретного экземпляра, является сохранность; это заявление аксиоматично, и как-то даже странно его декларировать. Однако сохранность – понятие относительное, и для кого-то даже самая что ни на есть разодранная в труху кириллическая Псалтирь начала XX века «очень хорошей сохранности», потому что «книге больше ста лет – что же вы хотите?!»; у другого надрыв страницы в издании XVIII века вызовет возмущение, потому что тем самым он почтет этот экземпляр недостаточно идеальным для запрошенной за него цены. Вместе с субъективизмом в определении сохранности экземпляра существуют методики улучшения сохранности (профессиональная реставрация), хотя порой реставрация настолько «убивает» экземпляр, что он уже навсегда теряет коллекционный интерес.
Существуют и такие факторы сохранности, которые необратимо отрицательно влияют на экземпляр. Речь идет о дефектах (недостатках, изъянах), которые даже при умелой реставрации редко удается преодолеть. Если не говорить о библиотечных печатях на книгах, которые рассмотрены нами отдельно, то нужно привести перечень тех дефектов, которые наносят серьезный урон коллекционному значению экземпляра. При этом не хочется останавливаться на ушедшем в историю точильщике, который был главным врагом библиотек в XVI–XIX веках. Перечислим те дефекты, которые наиболее часто встречаются в мире антикварной книги сегодня.
Отсутствие титульного листаТрадиционно отсутствие «титула» являлось самым скверным, что могло постигнуть антикварную книгу (в советские времена такие книги не принимались даже в букинистические магазины). Помнится, товароведы любили убеждать сдатчика в несостоятельности принесенного экземпляра беспроигрышным сравнением: «Книга без титульного листа – это как человек без паспорта!»
Происходит утрата титульного листа как от того, что на книге раньше мог быть библиотечный штамп, так и по иным причинам, уже совершенно не связанным с темным прошлым конкретного экземпляра – возможно, по небрежности владельца или же по иным обстоятельствам. Особенно обидно, когда сдатчик приносит пристойную книгу без титульного листа, а на законный в этой ситуации вопрос отвечает, что «тут был автограф автора моей жене/маме/бабушке, и потому я его вырвал и выбросил».
Безусловно, если речь идет о коллекционном экземпляре, будь то прижизненное издание Пушкина или редкий поэтический сборник, такая утрата серьезно снижает материальную ценность экземпляра. Конечно, порой лучше иметь в коллекции дефектный экземпляр редкого издания, чем вообще никакого, но в таком случае вы обречены на мучения; ведь вы не «закроете дезидерата», а за немалые деньги приобретете головную боль, поскольку обречены на долгие годы помнить о необходимости замены дефектного экземпляра на полный.
Но если речь идет не о таких изданиях, которые можно причислить к высшей степени редким или коллекционным, то ныне отсутствие титульного листа преодолевается: новые технологии позволяют отсканировать и распечатать на старой бумаге титульный лист, который будет неотличим от оригинального. Безусловно, остаются сведущие в своем деле люди, которые и без микроскопа скажут о генезисе такого новодела, но абсолютное большинство тех, кто откроет эту книгу, возможно, и не задумается об этом. Да и книга с восстановленным титульным листом во всяком случае лучше, чем книга вообще без оного.
В сущности, сама идея новодела оказывается необычайно востребованной даже в музейной практике – ведь и главные музеи страны не брезгуют муляжами, хотя если где-то и должны быть исключительно подлинники, так это в музейных экспозициях. Мы не говорим о баннерах вместо живописных полотен, потому что в нашей стране привычным стало не только «полное восстановление» (то есть постройка заново) памятников архитектуры, но и пристройка к ним никогда не существовавших сооружений, «которые сохранились только в чертежах». Навязывание таких антиисторических действий как необходимости, безусловно, влияет и на легкое отношение к копиям в рядах специалистов, которые имеют возможность распознать реставрацию экземпляра.