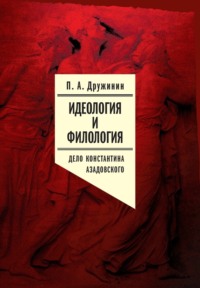Антикварная книга от А до Я, или пособие для коллекционеров и антикваров, а также для всех любителей старинных книг
Необъяснимо и ненаходимо редким является первый русский перевод «Алисы в Стране чудес» – небольшая почти квадратная книжечка «Соня в царстве дива», напечатанная в Москве в 1879 году. Известно лишь три экземпляра в мире (то есть заметно меньше, чем самого первого издания этого шедевра мировой литературы), из которых два – в России, один – в США.
Существуют также издания, которые на первый взгляд кажутся не столь безнадежной дезидерата, но де-факто уже таковыми стали. Это книги, которые появлялись на распродажах лет пятнадцать-двадцать назад, но уже прибраны к рукам: они в музеях мира или в тех коллекциях, из которых никогда не выйдут на рынок. К подобным мы бы отнесли полный экземпляр книги Казимира Малевича «Супрематизм. 34 рисунка» (Витебск, 1920). И дело уже не только в цене, по которой следующий экземпляр будет когда-либо выставлен, но в самой возможности такого факта.
Тип второй – роковые дезидератаЕсли каких-то книг, о некоторых мы сказали выше, коллекционер не сможет дождаться никогда и не купит их даже большими деньгами, то есть значительный пласт книжных редкостей, которые нет-нет да и раз в несколько или в десять-двадцать лет выходят на рынок. Очевидно, что не о каждом таком появлении говорится во всеуслышание, и часто можно просто не знать, что вот «там-то тот-то продает „Бедных людей“ Достоевского», тогда как это – незаживающая рана твоего собирательства. И даже в эпоху электронных аукционов рынок просматривается не столь хорошо.
Но именно к этой категории относятся так называемые обязательные книги монографических коллекций, без которых немыслимо достижение полноты. Если, конечно, речь идет о качественных критериях, а не о количественных.
Книг подобного толка много больше, чем в предыдущем пункте. Это первое печатное издание «Слова о полку Игореве» – «Ироическая песнь…» (1800), «первый Руслан» – первая книга А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820), которая должна быть с гравированным фронтисписом. Или же повесть «Упырь» А. К. Толстого, изданная под псевдонимом (1831), которой также требуется фронтиспис. Это и «Стихотворения» А. В. Кольцова (1835), «Стихотворения» М. Ю. Лермонтова (1840), «Кобзарь» Т. Г. Шевченко (1840), «Военные рассказы» Л. Н. Толстого (1859), «Сказки Мельпомены» А. П. Чехова (1884) в издательской обложке (экземпляр без оной все-таки встречается чаще), малотиражный доклад «О раскольниках города Риги» Н. А. Лескова (1863). Можно сказать, что это всё записные книжные редкости, известные многим поколениям собирателей именно как совершенно ненаходимые. Безусловно, мы периодически видим какие-то из изданий этого сорта на аукционах, но почти всегда это увечные экземпляры со следами бытования в библиотеках, перебеленные химией и тому подобным.
Не менее редки комплектные журналы XVIII века: может, чудом удастся приобрести одно дефектное издание, но «коллекцию журналов XVIII века» собрать архитрудно, поскольку туда входит целый перечень наименований: первая «Трудолюбивая пчела», первые «Трутень», «Живописец», «Трудолюбивый муравей», «Всякая всячина», «И то и сё», «Пустомеля», «Парнасский щепетильник», «Адская почта», «Почта духов»… А уж тобольский «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», из комплекта которого мы имели много лет назад лишь одну месячную книжку, да и ту по глупости сбыли с рук («дождемся комплекта!»), нужно бы перенести в предыдущий раздел.
Существует и некоторое число книг данной группы, общеизвестных своей редкостью, но редких изначально. Это бесцензурные варианты некоторых изданий, основной тираж которых печатался с отточиями вместо того текста, а в таких экземплярах он набран черным по белому. Несколько особенно знаменитых – «Записки о моей жизни» И. Н. Греча (1886), три тома писем В. Г. Белинского (1912–1913), три тома писем А. С. Пушкина (1906–1911). Эти издания, оттиснутые в десяти-двенадцати экземплярах, всегда искомы, а если и находимы, то с огромным трудом.
В изданиях XX века тоже образовался корпус дезидерата, однако здесь при отнесении книги к этому корпусу имеет значение не только сама книга, ее комплектность, наличие иллюстраций, но и сохранность издательской обложки. По крайней мере, в настоящем случае экземпляр без нее невозможно назвать коллекционным. Книги эти также достаточно известны: «Вечер» А. Ахматовой (1913) с обложкой и фронтисписом, а также «Что есть табак» А. Ремизова (1908) – всегда были вершиной жанра, хотя вторая малотиражна и более уважаема была собирателями XX века. Далее идут книги не столь редкие, но и достижимыми их назвать трудно: «Путь конквистадоров» Н. Гумилева (1905), «Вечерний альбом» М. Цветаевой (1910), «Камень» О. Мандельштама (1913), «Близнец в тучах» Б. Пастернака (1914), «Стихи» В. В. Набокова (1916), бесцензурный вариант «Флейты Марсия» Б. Лившица (1911), «Стихетты» Н. Хабиас (1922) с говорящей обложкой…
Неминуемо указав здесь книги «Я» В. Маяковского (1913) или «Ладомир» В. Хлебникова (1920), мы направляем свой взор к футуристическим изданиям, разделу изысканному и сложному для коллекционирования по разным причинам. Особенно редкими в нем, которые можно разыскивать годами, являются неординарные в своем исполнении «Танго с коровами» В. Каменского (1914), «Нагой среди одетых» В. Кравцова (1913), «Помада» А. Крученых в раскрашенном варианте (1913) и так далее.
Если говорить об иллюстрированных изданиях начала ХX века, то вспоминается так называемая Большая Маркиза Константина Сомова (Петроград, 1919) с откровенными вариантами эротических иллюстраций. Общеизвестно, что напечатана она была не в Венеции, как указано на титульном листе, а в Петербурге. Много труднее сказать, насколько было действительное обидно для Товарищества «Голике и Вильборг», в бывшей типографии которого книга печаталась, начертанное на титульном листе вымышленное название издательства – Cazzo et Coglioni. Ведь в переводе с итальянского это не что иное, как «Х** и Яйца».
Мы не стремимся привести список дорогих или редких книг, тем более что явно что-то пропустили. Но мы хотим представить именно смысл этого раздела роковых дезидерата: книги эти почти всегда общеизвестные, можно сказать, понятные даже не коллекционерам своим выдающимся положением на небосклоне отечественной культуры. По этой причине и недостача их в какой-либо тематической коллекции оказывается особенно ощутимой не только коллекционеру, но и его недругам и завистникам, которые будут шипеть, говоря в сторону: «Это у него без обложек; а где у него это, а где то?..» Приобретения таких и подобных им книг являются для собирателя некими вершинами, которые необходимо покорить в процессе своей жизни. И деньги здесь – не панацея, важно и везение. Но главный враг собирателя – это жадность; сколько мы видели покупателей с большими деньгами, столько же мы слышали их мнение о редкостях первой величины в жанре «это дорого, меня хотят облапошить, потом куплю дешевле». «Потом» случая может и не представиться.
Традиционные дезидератаВероятно, мы смогли добиться понимания того, что «Дезидерата» отнюдь не название какой-то редкой книги, о которой посетитель антикварного магазина каждый раз спрашивает, а нужды конкретного собирателя для поставленных им самим перед собой целей. И сколько собирателей – столько у них в голове, или в тетрадке, или в ноутбуке списков дезидерата. Поэтому мы оставим их страдать самостоятельно, а здесь скажем о дезидерата, которые имеют традиционный, рутинный характер.
Это как? А вот как: на ниве антикварной книги всегда значительным если не спортом, то уж точно соревнованием антикваров и коллекционеров было собирание различных журналов, многотомных изданий, книжных серий, собраний сочинений. Но покупались они обычно не комплектом, поскольку это могло быть попросту не по карману, а по томам. Особенно этот способ актуален тогда, когда для вас это удовольствие и особенно никуда не нужно торопиться. Так многие из нас, коллекционеров и антикваров, собирали много что.
В годы советской власти чемпионом был «Энциклопедический словарь» издательства «Брокгауз – Ефрон», который собирали если не тысячи, то уж точно сотни людей. И потому отчасти, что комплект его стоил уж очень значительных денег. Для таких охотников в каждом букинистическом магазине стоял стеллаж с отдельными томами, только покупай. И, собрав комплект, можно было наслаждаться самому или предоставить это наслаждение кому-то другому, но уже значительно дороже, чем это стоило вам по томам. Конечно, находились смельчаки, которые замахивались на комплекты «Русского архива», «Русской старины», «Исторического вестника», но это уж совсем непростая задача, как и собирание полного комплекта журнала «Нива». Особым охотником до коробок с надписью «собираем» был всегда М. М. Климов, которому, вероятно, потому и везло в этом деле, что он его азартно любил. Но то дела давно минувших дней. Ныне все-таки раз сто подумаешь, увидев «недокомплект» какого-то издания, стоит ли игра свеч и не воздержаться ли от ныряния в трясину собирания недостающих томов.
Но в чем же тогда состоит сложность, если перечисленные издания точно не назовешь малотиражными и уж тем более редкими? Это и сохранность, поскольку в годы советской власти не было возможности собрать абы что и отнести переплетному мастеру, который сделает из трухи конфетку. Также были иные тонкости, скажем, у «Брокгауза» корешки могут быть черными, а могут быть и темно-коричневыми, ну а если книги стояли напротив солнца – то и оттенками указанных цветов. Но все это малое зло по сравнению с основной сложностью такого занятия: оказывается, во многих таких изданиях есть тома «частые», а есть «редкие», а бывают и «очень редкие». То есть традиционные дезидерата. Именно в этом – главная загвоздка, да и кабы не было такой загвоздки, то люди бы, наверное, только и собирали что «Деяния Петра Великого» и «Древнюю российскую вивлиофику», где таких критических сложностей нет.
Бывает, если книга издана несколькими изданиями, один из томов служит для организации комплекта всех. Как это? Возьмем хрестоматийную редкость – двухтомник И. М. Снегирева «Москва. Подробное историческое и археологическое описание города». В 1865 году вышел первый том, в 1873‐м – второй, а также и атлас. В 1873 году вышло в свет второе издание первого тома, но продолжения не последовало. Так и получилось, что напечатанный тиражом в 600 экземпляров второй том оказывается вторым томом для обоих изданий первого, которых в сумме вдвое больше. И по этой причине комплект собрать можно при наличии второго тома, а имея первый – можно ждать много лет.
Или тот же «Брокгауз» имеет известное свойство: чем дальше от начала издания, тем более редки полутома, а особенно – дополнительные. И эти тома стоили дороже остальных, и искать их можно было годы – охотников находилось довольно много. Или, созвучно, журнал «Старые годы», где «обычные» годы продавались почти задаром (как выражался всегда коллега в таких случаях, «их в метро бесплатно раздают»), зато поди найди самый первый, 1907-й. Он даже тоньше и невзрачней… Но антиквары знают, что, приобретя 1907 год, ты уже практически подобрал комплект журнала: наверняка купишь 1908‐й и 1909-й, а остальные годы были доступны в любой момент в любом количестве. Это же касается журнала «Среди коллекционеров», в собирании комплекта которого нужно лишь разыскать 1921 год; а уж совсем непосильная задача – последний, 1918 год «Русской старины».
Вот это мы и называем традиционными дезидерата, когда в изданиях есть тома, в журналах номера или годы, недостаток которых (или изначальный, или вследствие бытования издания) сдерживает формирование комплектов коллекционерами или антикварами. Конечно, есть вариации высокого полета, вроде «Стихотворений» А. С. Пушкина в четырех частях (1829–1835), комплект которых – мечта любого собирателя, но части 3 и 4 редки более, нежели 1 и 2. Но мы коснемся более актуальных случаев. Хотя как раз в посмертном 11-томнике сочинений поэта именно тома 9, 10 и 11, изданные позднее остальных, являются основной проблемой.
Кроме уже упомянутых традиционных дезидерата, вспомним еще некоторые: последний 11‐й том издания «Промышленность и техника» – «Воздухоплавание» (1911), последние два выпуска (11 и 12) издания «Москва в ее прошлом и настоящем» (1912), 6‐й том в сочинениях А. С. Пушкина серии «Библиотека великих писателей» издательства «Брокгауз – Ефрон» (1907), равно и два тома сочинений «Мольера» (1912) из нее же; второй выпуск в трехтомнике В. А. Верещагина «Русская карикатура» (1911–1913) – «Отечественная война 1812 года».
Собирательство многотомной «Живописной России» обычно затрудняет поиск томов 10‐го «Русская Средняя Азия» (1885) и 11‐го «Западная Сибирь» (1884). И порой, как и в случае с журналом «Старые годы», один такой том не то чтобы равняется по стоимости комплекту, но уж точно не стоит начинать собирательство без приобретения «сложных» томов. Так же можно «засесть» с «Русским биографическим словарем», где не все тома равносильны по частотности.
Особенно это стало очевидно на примере журнала «Жар-птица». В советские годы этот журнал был мечтой любого библиофила, да и ныне он не перестал быть неким символом всей культуры русского зарубежья. Не будет преувеличением сказать, что мало кто имел комплект, все 14 номеров, этого журнала. Ценился он если не на вес золота, то на вес лучших библиофильских редкостей того времени. И вот рухнул железный занавес, из‐за границы хлынул поток книг, в том числе и пестрый журнал, который собирался в комплекты, переплетался и продавался за баснословные деньги. И постепенно вдруг оказалось, что все номера относительно легко раздобыть, все, но не злосчастный 13‐й номер. И в настоящий момент мы можем наблюдать любопытную ситуацию: приобретя 13‐й номер, довольно легко можно за короткое время подобрать остальные; а имея остальные – невесть сколько дожидаться шанса купить 13‐й номер. Вот и не верь после этого в «чертову дюжину»!
Детские книжки
Детские книжки являются отдельным разделом книжного собирательства. Если говорить о русской книге, то детские книжки были и в XVIII, и в XIX веке, но собственно коллекционирование детских книг относится практически всегда к определенному и не столь широкому отрезку истории книги – к изданиям первой половины XX века. Связано это прежде всего с обращением к книжной графике выдающихся русских художников; и подобно тому как книги русского авангарда ценны именно синтезом искусства и литературы, так и среди детских книжек особенно интересны именно те, в которых отражено русское искусство в наилучших образцах и именах.
В дореволюционные годы книжки для малышей были не слишком привлекательными; детские книжки для подростков в основном слишком назидательны и неинтересны (книги Л. А. Чарской мы также не склонны причислять к эталонным, хотя девочкам они безусловно нравились). Писатель Алексей Ремизов вспоминал о том, как он после 1906 года искал работу; любую. Он занимался переписью собак, потом учетом автомобилей… Но выпало ему и более тяжкое занятие: «Да, еще составлял я каталог детских книг – пожалуй, самое для меня тяжелое, тягостнее собак, вспомнить жутко <…> Все мне было не по душе: сам я в детстве не читал детских книг, меня отпугнули они своей деланностью и фальшью, у меня сказалось тогда – „почему меня считают за дурака?“ Такое отвращение у меня с детства к проповедям, нравоучениям».
Из детских книг дореволюционных лет и редкостей-то не так много, потому как интереса в этой области почти нет. Наверное, самой редкой и драгоценной детской книжкой XIX века нужно считать первый перевод «Алисы» Льюиса Кэрролла – она вышла в 1879 году в Петербурге под заглавием «Соня в царстве дива». Такая книга одна может стоить целой коллекции – настолько она ненаходима и настолько она вожделенна.
В начале ХX века начинается возрождение детской книги, которое связано с русскими художниками. Это художники «Мира искусства», которые привлекаются для их иллюстрирования. Все знают отпечатанные в Экспедиции заготовления государственных бумаг – самой великолепной в полиграфическом смысле типографии, где печатались в том числе и денежные знаки – сказки А. С. Пушкина с иллюстрациями Ивана Билибина. Для издательства Иосифа Кнебеля книги были прекрасно иллюстрированы Дмитрием Митрохиным и Георгием Нарбутом. Причем Нарбут вообще оказывается одним из знаменитых детских художников: он работал на издательство Кнебеля, для которого иллюстрировал «Как мыши кота хоронили» В. А. Жуковского, «Басни» И. А. Крылова, две книжки Г. Х. Андерсена – «Прыгун» и «Соловей», всего более десятка, а также создал картинки к изданиям, посвященным столетию Отечественной войны 1812 года, – «Спасенная Россия в баснях Крылова» для «Сириуса» и «1812 год в баснях Крылова» для Общины Св. Евгении. Отдельно стоят книжки с приторными иллюстрациями Елены Поленовой и Елизаветы Бем. При желании можно причислить к детским книгам и раскладку «Песнь о вещем Олеге», иллюстрированную Виктором Васнецовым. Но все-таки лучшей иллюстрированной книгой для детей, изданной до революции 1917 года, по праву считается «Азбука в картинах» Александра Бенуа.
Несмотря на особую значимость этих изданий для истории русской книги и русского искусства, они достаточно дороги, но, увы, не настолько редки. Книжки с рисунками И. Билибина вообще не являются редкими, разве что в девственном виде; гораздо реже в приличной сохранности – книги издательства И. Кнебеля (тираж у них был велик – 5 тысяч экземпляров), «Азбука» Бенуа также периодически встречается, хотя при ее продаже возгласы о редкости разносятся каждый раз. Конечно, придется подождать именно коллекционного в смысле сохранности экземпляра, но вопрос наличия таких книг в вашей коллекции – исключительно финансовый. Отчего же так? Дело не только в тираже – а он сам по себе был немалым, так как спрос на эти иллюстрированные детские издания после убожества XIX века был также предсказуем. Да и страдали эти книги от своих первых читателей тоже изрядно, хотя качественные полиграфические материалы, в основном – плотная, хорошо проклеенная бумага и усиленное скрепление, сделали их выносливыми. Притом и цена этих книг в продаже не слишком предрекала им массового читателя – «Азбука в картинах», к примеру, стоила 3 рубля. Но основная причина того, что книги эти дошли до нашего времени в значительном числе экземпляров – их неизменная красота. Именно по этой причине подобные книги не воспринимались в качестве временных: ими дорожили, не давали драть детям, любовались даже в сознательном возрасте, передавали из поколения в поколение. И таким образом та же «Азбука в картинах» А. Бенуа сохранилась в сильно большем количестве, нежели любая другая детская книжка сопоставимого тиража. Но место ее как памятника изобразительного и полиграфического искусства начала XX века достойно определено теми внушительными суммами, которые за нее выкладывают коллекционеры.
Если раздел дореволюционных иллюстрированных детских книг в основном ограничен, то детские книжки 1920–1930‐х годов много более трудны в смысле коллекционирования, причем на поиски некоторых нужны не просто годы, а десятилетия. Поскольку основной объем детских книг этой эпохи невероятно велик, то сформировались критерии, исходя из которых книга может быть названа коллекционной. Это неминуемая селекция, потому как собирательство всех без исключения детских книг в общем-то не самое осмысленное занятие. И даже существуют целые серии, например подавляющая часть плодовитого в 1920‐х годах издательства Г. Ф. Мириманова, который редко привлекал (или угадывал) больших художников или авторов для издаваемых им книг, оставаясь торговцем, который в эпоху НЭПа занял свою нишу в области детской книги. И в результате только книги В. Е. Ватагина и несколько других могут иметь действительный коллекционный интерес.
Конечно, я не желаю обидеть уважаемого издателя, но суть моей мысли заключается в том, что если ваша коллекция насчитывает сотни детских книг, в которых лишь несколько действительно ценных с коллекционной точки зрения, то и сама коллекция будет смотреться вялой и нелюбопытной. Иными словами, в данном случае количество редко переходит в качество.
У детской книги два основных критерия коллекционной ценности: художник, который иллюстрировал конкретную книгу, а также автор текста; эти два «слагаемых успеха» могут присутствовать одновременно, но важно наличие хотя бы одного. Тираж в случае с детскими книжками не является таким уж показательным – обычно эти книги издаются достаточным тиражом, и малотиражных среди них не так много; то есть в действительности ненаходимых книг почти нет, и здесь уже нужно брать в расчет время ожидания пристойного (как минимум не ворованного) экземпляра и ту сумму, которую придется за него выложить. Конечно, бывает, что художник или автор издают заведомо библиофильским тиражом некое якобы детское издание (скажем, «Сказ про два квадрата» Казимира Малевича), но эта книга и так ценна своим художником, и тираж тут – вторичный признак.
ХудожникиРабота художника, который выступает наравне с автором, является определяющей для детской книги. От художника зависит успех книги в момент выхода в свет, и от художника же зависит место книги в табели о рангах книжного коллекционирования. Не всегда эти позиции одинаковы и в момент выхода книги, и по прошествии ста лет; не все популярное в народе будет иметь коллекционную ценность. Это обстоятельство принадлежит к той области, когда часто невозможно угадать, что будет впоследствии цениться коллекционерами чрезвычайно высоко. Детские книги издавались как локомотивами книгоиздания – Госиздатом и основанным в 1933 году «Детгизом», так и частными издательствами – Г. Ф. Мириманова, «Радугой», входили в ассортимент издательств «Эпоха», Academia, «Сегодня», «Время», З. И. Гржебина… По подсчетам главного библиографа детской книги Ивана Ивановича Старцева (1896–1967), почти сто издательств первых пятнадцати лет советской власти издавали книжки для детей.
Но квинтэссенцией того сегмента детской книги, в которой художник играет первенствующую роль, является продукция издательства «Радуга» – частного заведения, учредителем и владельцем которого был петербургский литератор Лев Клячко. Оно возникло в Петрограде в 1921 году, но первая продукция вышла только в 1923-м. Все производство (литографская мастерская) находилось в Петербурге, а в Москве был организован склад для реализации книг. О том, насколько изобразительная часть детской книги была важна для сотрудников, говорят слова К. Чуковского относительно родившегося издательства: «Наша задача, задача „Радуги“ – сплотить вокруг детских книг все лучшее, что есть в русской живописи».
Цель была достигнута: благодаря «Радуге» не только Корней Чуковский и Самуил Маршак стали знаменитыми детскими писателями, но и художник Владимир Лебедев – главным детским художником в СССР. Конечно, были и другие авторы текста – Виталий Бианки, Евгений Шварц, Агния Барто, Софья Федорченко… Но намного больше вспоминается вереница имен знаменитых художников, связанных с «Радугой»: Владимир Конашевич, Мстислав Добужинский, Борис Кустодиев, Сергей Чехонин, Юрий Анненков, Константин Рудаков, Михаил Цехановский, Кузьма Петров-Водкин… Издательство «Радуга» быстро стало знаменитым, блистало на мировых выставках – Всемирная выставка в Париже 1925 года присудила ему медаль. Книги пользовались спросом и стали символом детства. Все мы помним «Цирк», «Багаж», «Мороженое», «Сказку о глупом мышонке», «Мойдодыр», «Детки в клетке»…
Существование свободного издательства в стране, где свобода подходила к концу, становилось сперва трудным, а вскоре и невозможным. Госиздат, который не имел прав на текст и иллюстрации, не мог равнодушно взирать на славу, а значит, и на деньги «Радуги»; причем он не только всеми силами пытался переманить как авторов, так и художников, но и сами обстоятельства ужесточения цензуры и увеличения налогового бремени подводили «Радугу» к печальному концу. Уже в 1927 году многие авторы ее покидают, а цензура настолько жестока к издательству, что от всего репертуара разрешает печатать только пятую часть. Насколько было придирчиво государство к владельцу «Радуги», отметил в дневнике Корней Чуковский: «Запретили ему в детской азбуке изображение завода и рабочего. Почему? „Рабочий просто сидит и не работает“. А завод? „Из его труб не идет дым!“» В результате – в 1930 году, уже в Ленинграде, издательство «Радуга» – лучшее отечественное детское издательство XX века – прекратило свое существование.
Но продукция его – осталась и служит предметом как изучения, так и коллекционирования. Вообще, в целом книги «Радуги» не настолько ненаходимы – этому способствовали как значительные тиражи и многочисленные переиздания, так и красочность книг, их редко выбрасывали. Основное, что ценимо всеми коллекционерами, – сохранность экземпляра. Понятно, что не должно быть никаких штампов, но и не должно быть утрат, реставрации, видимых дефектов – ибо при тиражах «Радуги» посредственные экземпляры их книг не редкость.
Конечно, были художники, книги с картинками которых разыскиваются коллекционерами, это и работы представителей аналитической школы Филонова – прежде всего Алисы Порет; и произведения «формалистов» – Натана Альтмана или Давида Штеренберга, значительную ценность представляют литографированные книжки с рисунками Алексея Пахомова…