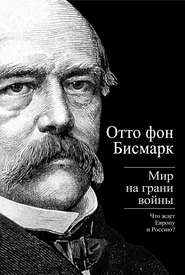По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
С русскими не играют
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как бы ни сложилось политическое будущее наших стран, участие, которое я принимал в их историческом прошлом, заставляет меня с чувством удовлетворения вспоминать, что в вопросе о союзе между ними я всегда находился в согласии с государственным деятелем, который был самым любезным из моих политических друзей. Пока я буду оставаться на своем посту, я буду верен традициям, которые вели меня в течение 25 лет и которые совпадают с мыслями, изложенными в вашем письме относительно услуг, которые могут оказать друг другу Россия и Германия и которые они оказывали более ста лет без ущерба для специальных интересов той и другой стороны. Два европейских соседа, которые за сто с лишним лет не испытывали ни малейшего желания стать врагами, уже из одного этого обстоятельства должны прийти к выводу, что их интересы не расходятся. Вот убеждение, которое руководило мной в 1848, 1854, 1863 гг., а также в нынешней ситуации, и которое я смог внушить огромному большинству моих соотечественников. Для разрушения созданного, может быть, нужно меньше усилий, чем было затрачено на созидание, особенно если мои преемники не будут с таким же постоянством, как я, поддерживать отношения, которые не будут для них привычны и для сохранения которых иногда нужно пожертвовать самолюбием и подчинить чувство обиды интересам своего государя и своей страны. Я испытал кое-что по этой части, но я не обращаю внимания на мелкие шутки, которые учиняет со мною мой старый петербургский друг и покровитель [66 - Бисмарк имеет в виду Горчакова.], а также на его – или Орлова – «флирт» с Парижем. Такой человек, как я, не даст сбить себя с пути ложной тревогой. Но будет ли так обстоять дело с канцлерами, которые придут мне на смену и которым я не могу передать мое хладнокровие и опыт?
Их, быть может, будет легче сбить с толку в их политических суждениях при помощи официозных журналов, недоброжелательных разговоров, частных писем, которые ходят по рукам. Германский министр, у которого возникнет предположение о возможности объединения на базе реванша, может, опасаясь изоляции, попытаться оградить себя от этого, завязав неудачные и, пожалуй, даже роковые отношения, которые потом трудно будет расторгнуть. В союзе обеих империй заключается такая сила и гарантия безопасности, что меня приводит в тревогу уже сама мысль о том, что он может когда-либо подвергнуться опасности без всякого политического основания, только по воле какого-нибудь государственного деятеля, любящего разнообразие или считающего, что французский язык приятнее немецкого. Я готов с ним вполне согласиться относительно этого, не подчиняя, однако, этому соображению политику моей страны. Пока я буду возглавлять наши государственные дела, вам трудно будет отделаться от союза с нами. Но это будет продолжаться не так долго. Мое здоровье быстро ухудшается. Я попытаюсь выдержать натиск в рейхстаге, сессия которого начнется через несколько дней и не может продолжаться дольше нескольких недель. Тотчас же после ее закрытия я поеду на воды и уже не вернусь к делам. У меня есть медицинское свидетельство, что я «untauglich» («негоден»), – это технический термин для того, чтобы иметь право настаивать на отставке, но в данном случае он только удостоверяет печальную истину.
Если господь позволит мне наслаждаться несколькими годами покоя в частной жизни, то я прошу вас, дорогой граф, разрешить мне поддерживать с вами и дальше те добрые дружеские отношения, которые мне удалось завязать благодаря моей служебной деятельности, а пока прошу принять выражение чувств искренне преданного вам
ф. Бисмарка.
Прошу извинить за задержку с ответом. За последние две недели я испытывал большое затруднение при писании от руки, что-то вроде судорог, которые мешают писать, как вы увидите по почерку. Но я, однако, не хотел прибегать к чужой помощи, чтобы написать вам».
«Лондон, 25 февр. 1877.
Дорогой князь!
Я был очень глубоко тронут вашим ласковым письмом, только, право, я испытываю угрызения совести при мысли о труде, которого вам стоило написать его и о драгоценном времени (когда это такое время, как ваше), которое вы на него затратили!
Это письмо останется одним из лучших воспоминаний в моей политической деятельности, и я завещаю его моему сыну. Вследствие отсутствия вестей из Берлина и Петербурга в течение года мною овладело сомнение. Я думал, что то, что существовало, – уже более не существует. Вы убедили меня в противном. Я рад этому как русский человек, рад от всего сердца. Если бы я не встретил в вашем лице, дорогой князь, человека, который неизменен в своей политике и в благоволении к своим друзьям, то я тотчас же продал бы свои русские акции, подобно тому как вы хотели это сделать три года тому назад, потому что были обо мне слишком высокого мнения. Я переписал несколько отрывков из вашего письма и отправил их моему императору. Я знаю, что он с удовольствием их прочтет. Каждый раз, когда он находился в непосредственном контакте с вами, это давало хорошие и полезные результаты; а ведь прочесть то, что вы пишете человеку, которого удостаиваете называть своим другом, это для императора равносильно тому, как если бы он находился в непосредственных отношениях с вами. Нет необходимости добавлять, что я опустил все, что касалось Горчакова, так как я рассматривал ваши намеки на его счет как доказательство доверия к моей сдержанности. Как бы плохо я ни был осведомлен (и не без основания) о том, чего хотят в Петербурге, все же отсрочка и разоружение представляются мне вероятными. Мир с Сербией и Черногорией, как говорят, будет заключен [67 - В 1876–1878 гг. Сербия и Черногория вели войну с Турцией за независимость. В 1877 г. они ненадолго заключили мир с Турцией; в конце того же года война возобновилась.]. Великий визирь [68 - Великий визирь – глава правительства в Турецкой империи, здесь имеется в виду Эдем-паша.] обратился с письмами к Деказу и Дерби, в которых заявляет, что султан [69 - Абдул Гамид II.] обещает добровольно осуществить все реформы, которые требовала конференция [70 - Речь идет о требованиях реформ со стороны Турции по отношению к христианским народностям на Балканах, сформулированных Константинопольской конференцией послов европейских держав в декабре 1876 – январе 1877 гг. Никаких практических результатов конференция не дала.]. Европа потребует от нас дать Турции время для этого. Можно ли считать такой момент благоприятным для того, чтобы объявить войну и еще больше лишиться расположения Европы?
Мои частные дела настоятельно требуют моего нахождения в России. Как только у нас будет принято решение в том или ином смысле, я рассчитываю взять небольшой отпуск. Я надеюсь, дорогой князь, что вы позволите мне повидать вас, когда я буду проезжать через Берлин, – я чрезвычайно этого хочу. Извините за длинное письмо, но по крайне мере оно не требует у вас ни одного слова ответа. Еще раз примите, дорогой князь, мою горячую благодарность за вашу любезность и за ваше письмо, относительно которого у меня есть только одно возражение и оно касается манеры, с которой вы, к сожалению, говорите о вашем здоровье. Я уверен, что господь поддержит вас, как он оберегает все, что полезно для миллионов людей и для сохранности значимых и широких интересов.
Будьте уверены, дорогой князь, что вы всегда найдете в моем лице более чем поклонника, каких у вас достаточно и без меня, короче говоря: человека, который к вам искренне привязан и предан вам от всего сердца.
Шувалов».
* * *
Еще до конгресса граф Шувалов затронул и поставил прямо вопрос о русско-германском оборонительном и наступательном союзе. Я открыто обсуждал с ним затруднения и перспективы такого союза для нас и последствия выбора между Австрией и Россией в случае, если тройственный союз восточных держав окажется непрочным. В споре он, между прочим, сказал: «У вас кошмар коалиций», на что я ответил: «Поневоле». Самым действенным против этого средством он считал средством против этого он считал прочный, нерушимый союз с Россией, так как с исключением этой державы из коалиции наших противников никакой расклад, угрожающий нашему существованию, невозможен. Я согласился с этим, но выразил опасение в том, что если германская политика ограничит свои перспективы только союзом с Россией и согласно русским пожеланиям откажет прочим государствам, то она может оказаться в неравном положении по отношению к России, так как географическое положение и самодержавный строй России дают последней возможность легче отказаться от союза, чем это могли бы сделать мы. Кроме того, сохранение старинной традиции прусско-русского союза всегда зависит лишь от одного человека, т. е. от личных симпатий царствующего в настоящий момент русского императора. Главным образом, наши отношения с Россией основаны на личных отношениях между обоими монархами, на правильном развитии этих отношений при искусности двора и дипломатии и на образе мыслей представителей обеих держав. Были случаи, когда при довольно беспомощных прусских посланниках в Петербурге взаимоотношения оставались близкими благодаря умениям таких военных уполномоченных, как генералы фон Раух и граф Мюнстер, несмотря на то, что у обеих сторон некоторые основания для обиды были. Также мы видели, что такие вспыльчивые и раздражительные представители России, как Будберг и Убри, своим поведением в Берлине и своими донесениями, основанными на личном недовольстве, создавали впечатления, которые могли оказать непоправимое воздействие на взаимоотношения обоих народов в сто пятьдесят миллионов человек. Помню, в бытность мою посланником в Петербурге князь Горчаков, чьим неограниченным доверием я пользовался в то время, давал мне читать, пока я ожидал его, еще нераспечатанные донесения из Берлина, прежде чем просматривал их сам. Порой я бывал поражен, видя из этих донесений, с каким недоброжелательством мой бывший друг Будберг подчинял задачу поддержания существующих взаимоотношений своей обиде по поводу какого-нибудь случая в обществе или даже простому желанию сообщить двору или министерству остроумную шутку о положении в Берлине. Конечно, его донесения представлялись императору без всяких комментариев и без доклада, а заметки императора на полях, которые иногда давал мне просматривать Горчаков в числе прочей деловой корреспонденции, были для меня бесспорным доказательством того, как сильно эти раздражительные донесения Будберга и Убри влияли на благожелательно расположенного к нам императора Александра II. Он делал вывод не об ошибочности суждений своих представителей, а о том, что политика Берлина недальновидна и недоброжелательна. Давая читать мне эти нераспечатанные донесения и кокетничая своим доверием, Горчаков говорил обычно: «Вы забудете то, что читать вам не следовало». Я, разумеется, давал об этом слово, просмотрев депеши в соседней комнате. Я держал это слово, пока находился в Петербурге, ведь моей целью не было омрачать отношения между нашими дворами жалобами на русского представителя в Берлине, к тому же я опасался небрежного использования моих сообщений для придворных интриг и травли. Вообще хотелось бы, чтобы нашими представителями при дружественных дворах были такие дипломаты, которые, не нарушая общей политики своей страны, старались бы по возможности сохранять отношения между обоими государствами, по возможности могли смолчать об обидах и сплетнях, сдерживая свое остроумие и скорее акцентируя положительную сторону дела. Я часто не представлял на высочайшее прочтение донесений наших представителей при германских дворах потому, что они скорее стремились сообщить что-либо пикантное, передать предпочтительно раздражающие высказывания или явления, нежели заботились об улучшении и поддержании отношений между дворами, а ведь это неизменно является задачей нашей политики в Германии. Я считал, что вправе не доносить из Петербурга и Парижа того, что могло безрезультатно раздражать или же было пригодно только для сатирических пассажей, а став министром, не представлять подобных донесений на высочайшее прочтение. В обязанность посла, аккредитованного при дворе великой державы, не входит автоматическое донесение обо всех доходящих до его слуха глупостях и злостных выпадах. Не только посол, но и каждый германский дипломат при германском дворе не должен писать таких донесений, какие посылались в Петербург Будбергом и Убри из Берлина и Балабиным из Вены в расчете, что остроумные донесения будут прочтены с интересом и вызовут веселье. Пока отношения дружественны и должны таковыми остаться, следует избегать провокаций и сплетен. Однако тот, для кого важна только внешняя форма деловых сношений, считает самым правильным, чтобы посланник сообщал безоговорочно все, что он слышит, предоставляя министру возможность по его усмотрению оставить без внимания или же особо не замечать то, что последний пожелает. Разумность этого с деловой точки зрения зависит от личности министра. Поскольку я считал себя таким же дальновидным, как господин фон Шлейниц, и принимал более вовлеченное и добросовестное участие в судьбе нашей страны, нежели он, то я считал своим правом и обязанностью не доводить до его сведения некоторых вещей, которые в его руках могли быть поводом для травли и интриг при дворе в духе той политики, которая противоречила политике короля. После этого отступления вернусь к переговорам, которые я вел во время балканской войны с графом Петром Шуваловым.
Их, быть может, будет легче сбить с толку в их политических суждениях при помощи официозных журналов, недоброжелательных разговоров, частных писем, которые ходят по рукам. Германский министр, у которого возникнет предположение о возможности объединения на базе реванша, может, опасаясь изоляции, попытаться оградить себя от этого, завязав неудачные и, пожалуй, даже роковые отношения, которые потом трудно будет расторгнуть. В союзе обеих империй заключается такая сила и гарантия безопасности, что меня приводит в тревогу уже сама мысль о том, что он может когда-либо подвергнуться опасности без всякого политического основания, только по воле какого-нибудь государственного деятеля, любящего разнообразие или считающего, что французский язык приятнее немецкого. Я готов с ним вполне согласиться относительно этого, не подчиняя, однако, этому соображению политику моей страны. Пока я буду возглавлять наши государственные дела, вам трудно будет отделаться от союза с нами. Но это будет продолжаться не так долго. Мое здоровье быстро ухудшается. Я попытаюсь выдержать натиск в рейхстаге, сессия которого начнется через несколько дней и не может продолжаться дольше нескольких недель. Тотчас же после ее закрытия я поеду на воды и уже не вернусь к делам. У меня есть медицинское свидетельство, что я «untauglich» («негоден»), – это технический термин для того, чтобы иметь право настаивать на отставке, но в данном случае он только удостоверяет печальную истину.
Если господь позволит мне наслаждаться несколькими годами покоя в частной жизни, то я прошу вас, дорогой граф, разрешить мне поддерживать с вами и дальше те добрые дружеские отношения, которые мне удалось завязать благодаря моей служебной деятельности, а пока прошу принять выражение чувств искренне преданного вам
ф. Бисмарка.
Прошу извинить за задержку с ответом. За последние две недели я испытывал большое затруднение при писании от руки, что-то вроде судорог, которые мешают писать, как вы увидите по почерку. Но я, однако, не хотел прибегать к чужой помощи, чтобы написать вам».
«Лондон, 25 февр. 1877.
Дорогой князь!
Я был очень глубоко тронут вашим ласковым письмом, только, право, я испытываю угрызения совести при мысли о труде, которого вам стоило написать его и о драгоценном времени (когда это такое время, как ваше), которое вы на него затратили!
Это письмо останется одним из лучших воспоминаний в моей политической деятельности, и я завещаю его моему сыну. Вследствие отсутствия вестей из Берлина и Петербурга в течение года мною овладело сомнение. Я думал, что то, что существовало, – уже более не существует. Вы убедили меня в противном. Я рад этому как русский человек, рад от всего сердца. Если бы я не встретил в вашем лице, дорогой князь, человека, который неизменен в своей политике и в благоволении к своим друзьям, то я тотчас же продал бы свои русские акции, подобно тому как вы хотели это сделать три года тому назад, потому что были обо мне слишком высокого мнения. Я переписал несколько отрывков из вашего письма и отправил их моему императору. Я знаю, что он с удовольствием их прочтет. Каждый раз, когда он находился в непосредственном контакте с вами, это давало хорошие и полезные результаты; а ведь прочесть то, что вы пишете человеку, которого удостаиваете называть своим другом, это для императора равносильно тому, как если бы он находился в непосредственных отношениях с вами. Нет необходимости добавлять, что я опустил все, что касалось Горчакова, так как я рассматривал ваши намеки на его счет как доказательство доверия к моей сдержанности. Как бы плохо я ни был осведомлен (и не без основания) о том, чего хотят в Петербурге, все же отсрочка и разоружение представляются мне вероятными. Мир с Сербией и Черногорией, как говорят, будет заключен [67 - В 1876–1878 гг. Сербия и Черногория вели войну с Турцией за независимость. В 1877 г. они ненадолго заключили мир с Турцией; в конце того же года война возобновилась.]. Великий визирь [68 - Великий визирь – глава правительства в Турецкой империи, здесь имеется в виду Эдем-паша.] обратился с письмами к Деказу и Дерби, в которых заявляет, что султан [69 - Абдул Гамид II.] обещает добровольно осуществить все реформы, которые требовала конференция [70 - Речь идет о требованиях реформ со стороны Турции по отношению к христианским народностям на Балканах, сформулированных Константинопольской конференцией послов европейских держав в декабре 1876 – январе 1877 гг. Никаких практических результатов конференция не дала.]. Европа потребует от нас дать Турции время для этого. Можно ли считать такой момент благоприятным для того, чтобы объявить войну и еще больше лишиться расположения Европы?
Мои частные дела настоятельно требуют моего нахождения в России. Как только у нас будет принято решение в том или ином смысле, я рассчитываю взять небольшой отпуск. Я надеюсь, дорогой князь, что вы позволите мне повидать вас, когда я буду проезжать через Берлин, – я чрезвычайно этого хочу. Извините за длинное письмо, но по крайне мере оно не требует у вас ни одного слова ответа. Еще раз примите, дорогой князь, мою горячую благодарность за вашу любезность и за ваше письмо, относительно которого у меня есть только одно возражение и оно касается манеры, с которой вы, к сожалению, говорите о вашем здоровье. Я уверен, что господь поддержит вас, как он оберегает все, что полезно для миллионов людей и для сохранности значимых и широких интересов.
Будьте уверены, дорогой князь, что вы всегда найдете в моем лице более чем поклонника, каких у вас достаточно и без меня, короче говоря: человека, который к вам искренне привязан и предан вам от всего сердца.
Шувалов».
* * *
Еще до конгресса граф Шувалов затронул и поставил прямо вопрос о русско-германском оборонительном и наступательном союзе. Я открыто обсуждал с ним затруднения и перспективы такого союза для нас и последствия выбора между Австрией и Россией в случае, если тройственный союз восточных держав окажется непрочным. В споре он, между прочим, сказал: «У вас кошмар коалиций», на что я ответил: «Поневоле». Самым действенным против этого средством он считал средством против этого он считал прочный, нерушимый союз с Россией, так как с исключением этой державы из коалиции наших противников никакой расклад, угрожающий нашему существованию, невозможен. Я согласился с этим, но выразил опасение в том, что если германская политика ограничит свои перспективы только союзом с Россией и согласно русским пожеланиям откажет прочим государствам, то она может оказаться в неравном положении по отношению к России, так как географическое положение и самодержавный строй России дают последней возможность легче отказаться от союза, чем это могли бы сделать мы. Кроме того, сохранение старинной традиции прусско-русского союза всегда зависит лишь от одного человека, т. е. от личных симпатий царствующего в настоящий момент русского императора. Главным образом, наши отношения с Россией основаны на личных отношениях между обоими монархами, на правильном развитии этих отношений при искусности двора и дипломатии и на образе мыслей представителей обеих держав. Были случаи, когда при довольно беспомощных прусских посланниках в Петербурге взаимоотношения оставались близкими благодаря умениям таких военных уполномоченных, как генералы фон Раух и граф Мюнстер, несмотря на то, что у обеих сторон некоторые основания для обиды были. Также мы видели, что такие вспыльчивые и раздражительные представители России, как Будберг и Убри, своим поведением в Берлине и своими донесениями, основанными на личном недовольстве, создавали впечатления, которые могли оказать непоправимое воздействие на взаимоотношения обоих народов в сто пятьдесят миллионов человек. Помню, в бытность мою посланником в Петербурге князь Горчаков, чьим неограниченным доверием я пользовался в то время, давал мне читать, пока я ожидал его, еще нераспечатанные донесения из Берлина, прежде чем просматривал их сам. Порой я бывал поражен, видя из этих донесений, с каким недоброжелательством мой бывший друг Будберг подчинял задачу поддержания существующих взаимоотношений своей обиде по поводу какого-нибудь случая в обществе или даже простому желанию сообщить двору или министерству остроумную шутку о положении в Берлине. Конечно, его донесения представлялись императору без всяких комментариев и без доклада, а заметки императора на полях, которые иногда давал мне просматривать Горчаков в числе прочей деловой корреспонденции, были для меня бесспорным доказательством того, как сильно эти раздражительные донесения Будберга и Убри влияли на благожелательно расположенного к нам императора Александра II. Он делал вывод не об ошибочности суждений своих представителей, а о том, что политика Берлина недальновидна и недоброжелательна. Давая читать мне эти нераспечатанные донесения и кокетничая своим доверием, Горчаков говорил обычно: «Вы забудете то, что читать вам не следовало». Я, разумеется, давал об этом слово, просмотрев депеши в соседней комнате. Я держал это слово, пока находился в Петербурге, ведь моей целью не было омрачать отношения между нашими дворами жалобами на русского представителя в Берлине, к тому же я опасался небрежного использования моих сообщений для придворных интриг и травли. Вообще хотелось бы, чтобы нашими представителями при дружественных дворах были такие дипломаты, которые, не нарушая общей политики своей страны, старались бы по возможности сохранять отношения между обоими государствами, по возможности могли смолчать об обидах и сплетнях, сдерживая свое остроумие и скорее акцентируя положительную сторону дела. Я часто не представлял на высочайшее прочтение донесений наших представителей при германских дворах потому, что они скорее стремились сообщить что-либо пикантное, передать предпочтительно раздражающие высказывания или явления, нежели заботились об улучшении и поддержании отношений между дворами, а ведь это неизменно является задачей нашей политики в Германии. Я считал, что вправе не доносить из Петербурга и Парижа того, что могло безрезультатно раздражать или же было пригодно только для сатирических пассажей, а став министром, не представлять подобных донесений на высочайшее прочтение. В обязанность посла, аккредитованного при дворе великой державы, не входит автоматическое донесение обо всех доходящих до его слуха глупостях и злостных выпадах. Не только посол, но и каждый германский дипломат при германском дворе не должен писать таких донесений, какие посылались в Петербург Будбергом и Убри из Берлина и Балабиным из Вены в расчете, что остроумные донесения будут прочтены с интересом и вызовут веселье. Пока отношения дружественны и должны таковыми остаться, следует избегать провокаций и сплетен. Однако тот, для кого важна только внешняя форма деловых сношений, считает самым правильным, чтобы посланник сообщал безоговорочно все, что он слышит, предоставляя министру возможность по его усмотрению оставить без внимания или же особо не замечать то, что последний пожелает. Разумность этого с деловой точки зрения зависит от личности министра. Поскольку я считал себя таким же дальновидным, как господин фон Шлейниц, и принимал более вовлеченное и добросовестное участие в судьбе нашей страны, нежели он, то я считал своим правом и обязанностью не доводить до его сведения некоторых вещей, которые в его руках могли быть поводом для травли и интриг при дворе в духе той политики, которая противоречила политике короля. После этого отступления вернусь к переговорам, которые я вел во время балканской войны с графом Петром Шуваловым.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: