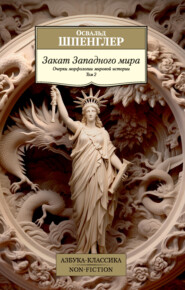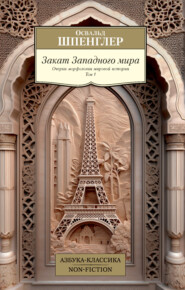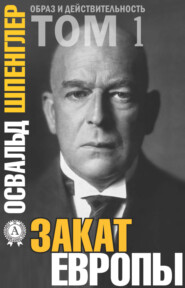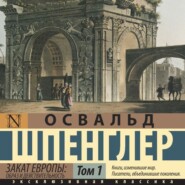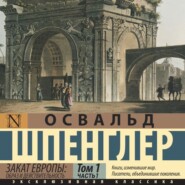По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сознание того, что число форм всемирно-исторических явлений ограниченно, что времена, эпохи, положения, лица повторяются как типы, существовало всегда. Фигуру Наполеона вообще почти никогда и не рассматривали без того, чтобы не оглянуться при этом на Цезаря и Александра Великого (причем первый из них, как мы еще убедимся, морфологически с ним несопоставим, сравнение же со вторым вполне оправданно). Сам Наполеон додумался до родства своего положения с положением Карла Великого. В конвенте говорили о Карфагене, подразумевая при этом Англию, а якобинцы называли себя римлянами. Бытуют сравнения (весьма неодинаковой степени оправданности) Флоренции с Афинами, Будды – с Христом, древнего христианства – с современным социализмом, римских финансовых воротил времен Цезаря – с янки. Петрарка, первый страстный археолог (ведь сама археология представляет собой выражение того чувства, что история повторяется), вспоминал, размышляя о себе, о Цицероне, и еще совсем недавно Сесиль Родс, организатор английской Южной Африки, библиотека которого располагала сделанным специально для него переводом жизнеописаний цезарей, уже применительно к себе – об Адриане[4 - Подробнее о С. Родсе см.: Давидсон А. Сесиль Родс и его время. М., 1984.]. Настоящим проклятием для шведского короля Карла XII явилось то, что он с юных лет таскал в кармане составленное Курцием Руфом жизнеописание Александра Великого и хотел подражать этому завоевателю во всем.
В собственных политических меморандумах (таких как «Considеrations» [«Размышления» (фр.)] 1738 г.) Фридрих Великий уверенно пролагает себе путь посредством аналогий – дабы обозначить свое понимание всемирно-политического положения, как, например, когда он сравнивает французов с македонянами при Филиппе, а немцев – с греками: «Эльзас и Лотарингия, эти Фермопилы Германии, уже в руках у Филиппа». Все это относилось главным образом к политике кардинала Флери. Далее следует сравнение политики, проводимой домами Габсбургов и Бурбонов, с проскрипциями Антония и Октавиана.
Однако все это продолжало носить отрывочный и произвольный характер и, как правило, в большей степени отвечало сиюминутной потребности выразиться поэтично и остроумно, нежели углубленному историческому чувству формы.
Так, сравнения Ранке, этого мастера искусной аналогии, Киаксара с Генрихом I, набегов киммерийцев с набегами венгров не имеют никакого смысла в плане морфологии, и лишь немногим лучше часто встречающиеся у него же сравнения греческих городов с республиками Возрождения. Более глубоко, хотя и имеет случайный характер, сходство Алкивиада с Наполеоном. Ранке, как и остальным, они внушены Плутарховым, т. е. народно-романтическим вкусом, который принимает во внимание только сходство обстановки на мировой сцене, и действует он уж никак не со строгостью математика, прозревающего внутреннее родство двух групп дифференциальных уравнений, между тем как непосвященный видит в них одни только различия во внешней форме.
Нетрудно заметить, что, вообще говоря, подбор образов определяется исключительно прихотью, а вовсе не идеей, не ощущением необходимости. Мы еще очень далеки от техники сравнения. Бездна сравнений возникает уже теперь, однако все это бессистемно и бессвязно; и если подчас они оказываются удачны в глубинном смысле, который еще предстоит установить, мы обязаны этим везению, куда реже – инстинкту, и никогда – принципу. До сих пор никто и не помышлял о том, чтобы разработать в этой области метод. Ни у кого не возникало даже неясной догадки на тот счет, что здесь следует искать ответ, причем ответ единственный, из которого может возникнуть великое решение проблемы истории.
Сравнения могли бы составить счастье исторического мышления, поскольку они раскрывают органическую структуру истории. Под воздействием всеохватной идеи их технике следовало бы развиться до не оставляющей выбора необходимости, до логического мастерства. Доныне же они оказывались несчастьем, потому что, как вопрос исключительно вкуса, сравнения избавляли историка от осознания и усилия рассматривать язык исторических форм и их анализ в качестве своей самой тяжелой и непосредственной, вплоть до нынешнего времени все еще даже и не понятой (уж не говоря о том, чтобы ее разрешить) задачи. Сравнения бывали частью поверхностными, как, например, когда Цезаря называли основателем римской официальной газеты, или, что еще хуже, до крайности запутанными, связывающими внутренне чуждые для нас явления античного существования с нынешними модными словечками – такими как социализм, импрессионизм, капитализм, клерикализм; подчас же этим сравнениям бывала свойственна причудливая извращенность, как практиковавшемуся якобинцами культу Брута, того самого миллионера и ростовщика Брута, который в качестве идеолога олигархического государственного устройства при одобрении патрицианского сената зарезал подлинного демократа[1 - См. сноску 907.][5 - Т. е. Цезаря.].
3
Так задача, первоначально охватывавшая лишь ограниченную проблему нынешней цивилизации, раздвигает свои рамки вплоть до новой философии, и именно философии будущего, поскольку таковая может произрасти на метафизически истощенной почве Запада. Однако это – единственная философия, принадлежащая по крайней мере к возможностям западноевропейского духа на его последующих стадиях, выходя на идею морфологии всемирной истории, мира как истории, которая в противоположность морфологии природы, бывшей доныне единственной темой философии, охватывает в себе все образы и движения мира в их глубочайшем и окончательнейшем смысле, и хотя делает это повторно, однако в совершенно ином порядке, обобщая все познанное не в собирательную картину, но в образ жизни как таковой, в образ не ставшего, но становящегося.
Мир как история, постигнутый, рассмотренный, оформленный исходя из его противоположности, мира как природы – вот новый аспект человеческого бытия на этой планете. Разработку этого представления во всем его колоссальном практическом и теоретическом значении не признавали в качестве задачи вплоть до сегодняшнего дня, а, быть может, лишь смутно ощущали, нередко усматривали вдали; однако никогда к ней – со всеми вытекающими из нее последствиями – не отваживались приступить. Здесь кроются две возможности того, как человек может внутренне овладевать окружающим его миром и его переживать. Я максимально резко разделяю – по форме, но не сущностно – органическое впечатление от мира от впечатления механического, совокупность образов – от совокупности законов, образ и символ – от формулы и системы, однажды реализуемое – от постоянно возможного, цель планомерно упорядочивающей силы воображения – от целенаправленно разлагающего опыта, чтобы назвать здесь еще никогда до сих пор не замеченную, однако полную значения противоположность, а именно области действия хронологического числа и числа математического[2 - Вот имевший гигантское значение и не преодоленный до сих пор промах Канта: вначале он совершенно схематически связал внешнего и внутреннего человека с многозначными и прежде всего не неизменными понятиями пространства и времени, а тем самым абсолютно ненадлежащим образом увязал и геометрию с арифметикой, вместо чего здесь следовало бы по крайней мере назвать куда более глубокую противоположность математического и хронологического числа. И геометрия, и арифметика – это пространственные исчисления, в высших своих областях вообще неразличимые. Исчисление времени, понятие которого на уровне ощущений предельно ясно простецу, отвечает на вопрос когда, а не что и сколько.].
Соответственно вышесказанному в исследовании, подобном нашему, речь должна идти не о том, чтобы принять как должное лежащие на поверхности злободневные события духовно-политического порядка, расположить их по «причинам» и «следствиям» и проследить в соответствии с их мнимыми, доступными для рассудка тенденциями. Такое – «прагматическое» – обращение с историей было бы не чем иным, как замаскированным естествознанием, чего и не скрывают приверженцы материалистического понимания истории, между тем как их оппоненты еще недостаточно отчетливо сознают степень сходства того и другого подхода. Речь идет не о том, чем являются конкретные факты сами по себе и как таковые, как явления какой-либо эпохи, но о том, что означают их явления, на что они намекают. Современные историки убеждены, что вершат куда больше, чем от них требуется, когда привлекают религиозные, социальные подробности, всякого рода мелочи из истории искусств, чтобы «проиллюстрировать» политическое содержание эпохи. Однако они забывают главное, а именно главное постольку, поскольку зримая история – это выражение, знак, оформившаяся душевность. Я не отыскал еще ни одного исследователя, который занялся бы всерьез изучением морфологического родства, внутренне связывающего язык форм всех культурных областей, кто бы обстоятельно углубился – поверх всех фактов политической жизни – в краеугольные и основополагающие математические идеи эллинов, арабов, западноевропейцев, в смысл их ранней орнаментики, их архитектонических, метафизических, драматических базовых форм, подбор и направление их великих искусств, подробности их художественных приемов и выбор материалов, уж не говоря о том, чтобы познать все эти предметы в их решающем значении для проблемы исторической формы. Кому ведомо, что между дифференциальным исчислением и династическими государственными принципами эпохи Людовика XIV, между античной государственной формой полиса и евклидовой геометрией, между пространственной перспективой западноевропейской живописи и преодолением пространства посредством дорог, телефонов и огнестрельного оружия, между контрапунктированной инструментальной музыкой и кредитной системой в экономике существует глубинная формальная связь? Будучи рассмотрены под этим углом зрения, даже самые прозаические факты из сферы политики принимают символический, прямо-таки метафизический характер и, быть может, впервые в истории такие предметы, как египетская система управления, античная монетная система, аналитическая геометрия, чек, Суэцкий канал, китайское книгопечатание, прусская армия и римская техника возведения дорог понимаются здесь в равной степени как символы и в качестве таковых истолковываются.
Здесь-то и выясняется, что просветленного посредством теории искусства исторического рассмотрения все еще не существует: то, что так называют, привлекает свои методы почти исключительно из сферы той науки, в которой – единственной из всех – методы познания достигли строгой разработанности, а именно из физики. Прослеживая причинно-следственные связи, историк пребывает в убеждении, что занимается историческим исследованием. Примечателен тот факт, что философия в старом стиле никогда и не помышляла о возможности иного отношения между понимающим человеческим бодрствованием и окружающим миром. Кант, установивший в главном своем труде формальные правила познания, привлек в качестве объекта деятельности рассудка лишь природу, причем никто этого так до сих пор и не заметил. Для него знание – это лишь математическое знание. Когда он говорит о прирожденных формах созерцания и категориях рассудка, он никогда не помышляет о совершенно иных по характеру понятиях исторических впечатлений, а Шопенгауэр, который, что весьма многозначительно, принимает во внимание из кантовских категорий лишь причинность, говорит об истории исключительно с презрением[3 - Надо быть в состоянии прочувствовать, насколько глубина формального комбинирования и энергия абстрагирования в области, например, исследования Возрождения или истории Великого переселения народов отстают от тех, которые являются чем-то само собой разумеющимся для теории функций и теоретической оптики. Сравнивая историка с физиком и математиком, мы видим, насколько небрежен первый, стоит ему только перейти от собирания и упорядочения материала к его истолкованию.]. То, что помимо необходимости причины и следствия (я назвал бы это логикой пространства) в жизни существует еще и органическая необходимость судьбы (логика времени), представляет собой факт глубочайшей внутренней достоверности, факт, наполняющий собой все вообще мифологическое, религиозное и художественное мышление и образующий суть и ядро всякой истории в противоположность природе, оставаясь, однако, недоступным для тех форм познания, которые исследует «Критика чистого разума». Но до соответствующей теоретической формулировки еще далеко. Как пишет Галилей в знаменитом месте своего «Saggiatore» [«Пробирщика» (ит.)], в великую книгу природы философия «scritta in lingua matematica» [вписана математическим языком (ит.)]. Однако мы все еще ожидаем ответа философа на вопрос, на каком языке написана история и как его следует читать.
Математика и принцип причинности ведут к естественному, хронология и идея судьбы – к историческому упорядочению явлений. Оба этих порядка охватывают – каждый для себя – весь мир. Другим оказывается только глаз, в котором и через который осуществляется этот мир.
4
Природа – это образ, посредством которого человек, принадлежащий к высшей культуре, придает единство и смысл непосредственным впечатлениям своих чувств. История – образ, исходя из которого его фантазия силится постичь живое бытие мира в связи с собственной жизнью, углубив тем самым ее действительность. Способен ли он к такому образотворчеству и какой из них господствует в его бодрствующем сознании – вот первовопрос всего человеческого существования.
Здесь имеются две возможности миротворения человеком. Тем самым уже сказано, что не обязательно они же и осуществляются. Так что, если впоследствии мы зададимся вопросом относительно смысла всей истории, вначале надо будет разрешить вопрос, прежде никогда не ставившийся. Для кого существует история? На первый взгляд, парадоксальный вопрос. Несомненно, для всякого, поскольку всякий человек со всем его бытием и бодрствованием является составной частью истории. Однако большая разница, живет ли некто под постоянным впечатлением того, что его жизнь – это составная часть куда большей биографии, простирающейся на столетия или тысячелетия, или же он воспринимает ее как нечто в самом себе закругленное и завершенное. Разумеется, для последнего рода бодрствования не существует никакой всемирной истории, никакого мира как истории. Однако что происходит, если на таком антиисторическом основании базируется самосознание целой нации, когда из него исходит целая культура? Каковой должна ей представляться действительность? Мир? Жизнь? Если мы задумаемся над тем, что в миросознании греков все пережитое, причем не одно только личное, но и все прошедшее вообще тотчас же переходило в лишенный времени, неподвижный, мифически оформленный фон извечно мгновенного настоящего – до такой степени, что история Александра Великого еще прежде его смерти начала для античного сознания сливаться воедино с легендой о Дионисе, а Цезарь воспринимал свое происхождение от Венеры как по крайней мере не противоречащее здравому смыслу, нам придется признать, что для нас, людей Запада, с нашим мощным ощущением временны?х отстояний, на основании которого повседневное летоисчисление в системе «до» и «после» Рождения Христа стало чем-то само собой разумеющимся, почти невозможно заново пережить такие душевные состояния, однако мы не имеем права просто игнорировать этот факт в контексте проблемы истории.
Что означают дневники и автобиографии для отдельного человека, тем же оказываются для души целой культуры исторические исследования в наиболее широком объеме, когда они включают в себя также и все разновидности сравнительного психологического анализа чуждых народов, эпох, обычаев и нравов. Однако античная культура не обладала никакой памятью, никаким историческим органом в этом специальном смысле. «Память» античного человека (при этом мы, разумеется, бесцеремонно вкладываем в чужую душу понятие, выведенное на основании собственной душевной картины) представляет собой нечто совершенно иное, потому что здесь в бодрствовании отсутствуют прошлое и будущее в качестве упорядочивающих перспектив, наполняет же его с неведомой нам мощью «чистое настоящее», которым так часто восторгался Гёте во всех проявлениях античной жизни, но в первую очередь в скульптуре. Это чистое настоящее, величайшим символом которого является дорическая колонна, оказывается на самом деле отрицанием времени (направления). Для Геродота и Софокла, точно так же как для Фемистокла и римского консула, прошлое тут же испаряется в покоящееся вне времени впечатление с полярной, непериодической структурой (потому что таков конечный смысл одухотворенного мифотворчества), в то время как для нашего мироощущения и внутреннего взора прошлое представляет собой четко расчлененный, направленный во времени организм, образованный веками и тысячелетиями. Однако лишь этот фон и придает жизни – как античной, так и западной – особую окраску. То, что называл космосом грек, было картиной мира, который не становится, но есть. Следовательно, сам грек был таким человеком, который никогда не становился, но извечно был.
Поэтому античный человек, хотя он располагал строгой хронологией и календарным исчислением, а потому был прекрасно знаком с мощным, проявляющимся в наблюдении небесных тел и точном измерении громадных временны?х протяжений ощущением вечности и ничтожества настоящего мгновения в вавилонской и прежде всего в египетской культуре, внутренне ничего из этого не усвоил. То, что упоминают иной раз античные философы, они лишь услышали от других, но не испытали сами. Открытое же отдельными светлыми умами, происходившими по преимуществу из азиатской Греции, такими как Гиппарх и Аристарх, отвергалось как стоическим, так и аристотелевским умонастроением и вообще не принималось во внимание за узкими пределами специальной дисциплины. Ни у Платона, ни у Аристотеля не было обсерватории. В последние годы Перикла в Афинах было проведено постановление народного собрания, грозившее строгой формой иска эйсангелии[6 - Эйсангелия – в древнеаттическом праве (а также в праве ряда других греческих полисов) разновидность публичного иска в уголовных делах, а также сами процессуальные действия, следовавшие за таким иском. Вначале были направлены против еще не встречавшихся и в связи с этим не предусмотренных законодательством правонарушений, однако ок. сер. IV в. до Р. X. был принят специальный «эйсангелический» закон, охвативший и обобщивший отдельные случаи. Вначале за исполнением закона мог надзирать только ареопаг, позднее существовало много инстанций, уполномоченных применять его в отдельных случаях (народное собрание, Совет пятисот, архонт и др.).] всякому, кто станет распространять астрономические теории. То был акт глубочайшей символики, в котором выразилась воля античной души изгнать из своего миросознания даль в любом смысле этого слова.
Что касается античной историографии, взглянем на Фукидида. Мастерство этого автора заключается в подлинно античной способности осмысленно и на себе самом пережить современные события, к чему добавляется еще тот изумительный дар проникновения в факты прирожденного государственного деятеля, который сам был полководцем и администратором. Этот практический опыт, который, к сожалению, путают с чувством исторического, справедливо делает Фукидида в глазах чистых ученых, занимающихся историографией, непревзойденным образцом. Что, однако, осталось для него всецело недоступным – это тот наделенный перспективой взгляд на историю столетий, который, по нашему представлению, понятие историка должно включать в себя как нечто само собой разумеющееся. Все славные творения в жанре античного исторического повествования ограничиваются политической современностью автора, что самым резким образом контрастирует с нами, поскольку все без исключения наши исторические шедевры трактуют отдаленное прошлое. Фукидид провалился бы уже на теме Греко-персидских войн, не говоря об общей истории Греции или тем более истории Египта. Он, как и Полибий с Тацитом, также практические политики, тут же утрачивает всю свою проницательность, стоит ему натолкнуться в прошлом, зачастую на отстоянии в несколько десятилетий, на такие движущие силы, которые из собственной практики знакомы ему не были. Полибию непонятна 1-я Пуническая война, Тациту невнятен уже Август, а совершенно неисторическое (при сравнении с нашими ориентированными перспективно исследованиями) мышление Фукидида раскрывается уже в его неслыханном утверждении, сделанном им прямо на первой же странице его труда, что до его времени (приблизительно 400 г.!) в мире не происходило ничего достопамятного (?? µ????? ????????)[4 - В высшей степени наивными оказались начавшиеся лишь очень поздно попытки греков создать нечто наподобие календаря или хронологии по египетскому образцу. Исчисление времени по Олимпиадам вовсе не представляет собой эры, как, например, христианское исчисление времени, а кроме того, это очень поздний, чисто литературный паллиатив, не имевший хождения в народе. Народ вообще не испытывал потребности в исчислении, при помощи которого можно было бы связать воедино опыт дедов и прадедов, пускай там отдельные ученые продолжали интересоваться проблемой календаря. Важно здесь не то, плох календарь или хорош, а находится ли он в употреблении, протекает ли в соответствии с ним жизнь общества в целом. Однако измышлением чистой воды являются как списки победителей до 500 г., так и древнейшие списки аттических архонтов или римских консулов. В отношении колонизации не существует ни одной подлинной даты (Meyer Ed., Gesch. d. Alt. II, 442; Beloch, Griech. Gesch. I, 2, 219). До V в. никто в Греции и не помышлял о том, чтобы делать выписки из отчетов об исторических событиях (Beloch, I, 1, 125). До нас дошла надпись с текстом договора между Элидой и Хереей, который должен был действовать «сотню лет начиная с нынешнего года». Что это был за год, не указано. Так что через некоторое время никто уже и не знал, как долго существует договор, и очевидно, что никто этого и не предвидел. Вероятно, эти люди настоящего вообще о нем забыли уже очень скоро. Отличительным признаком легендарно-ребяческого характера античной картины истории является то, что упорядоченная датировка таких, например, фактов, как «Троянская война», которая по отстоянию соответствует нашим Крестовым походам, была бы воспринята прямо-таки как погрешность против хорошего стиля. Также и географические познания античности оказываются далеко позади египетских и вавилонских. Эд. Мейер (Gesch. d. Alt. III, 102) демонстрирует, как на отрезке от Геродота (основывавшегося на персидских источниках) до Аристотеля приходило в упадок знание о том, как выглядит Африка. То же касается и римлян как наследников карфагенян. Вначале они пересказывали чужие сведения, а потом постепенно их забывали.].
По этой причине античная история вплоть до Греко-персидских войн, а сверх того еще и традиционная периодизация куда более поздних эпох являются продуктом мифического по сути своей мышления. История государственного устройства Спарты (Ликург, чья биография рассказывается во всех подробностях, был, вероятно, незначительным лесным божеством на Тайгете) представляет собой измышление эллинистического времени, а римская история до Ганнибала пребывала в состоянии активного созидания еще во времена Цезаря. Изгнание Тарквиниев Брутом – рассказ, моделью для которого послужил один из современников цензора Аппия Клавдия (310 г.). Имена римских царей были образованы на основе имен разбогатевших плебейских родов (К. Й. Нойман). Уж не говоря о «Сервиевой конституции», ко времени Ганнибала не существовало еще даже и знаменитых Лициниевых земельных законов (Б. Низе). Стоило Эпаминонду освободить мессенцев и аркадян и объединить их в одном государстве, как они придумали себе древнюю историю. Чудовищно здесь не то, что такое происходило, но то, что истории другого рода, по сути, и не было вовсе. Невозможно с лучшей наглядностью продемонстрировать противоположность западного и античного воззрения на все историческое, нежели указав на то, что вся римская история до 250 г., какой ее знали при Цезаре, в сущности фальшивка, а то немногое, что удалось установить нам, было абсолютно неведомо римлянам более поздних эпох. Отличительной особенностью того смысла, который вкладывали в слово «история» в античности, является то, что александрийские романы оказали в отношении материала сильнейшее действие на вполне серьезную политическую и религиозную историографию. Никто и не помышлял о том, чтобы проводить фундаментальное различие между романами и данными, основанными на актах. Когда в последние годы существования республики Варрон взялся за то, чтобы зафиксировать римскую религию, стремительно исчезавшую из народной памяти, он разделил божества, служение которым государство скрупулезнейшим образом соблюдало, на di certi [известные боги (лат.)] и di incerti [неизвестные боги (лат.)], т. е. на таких, о которых еще было что-то известно, и таких, от которых, несмотря на продолжающийся общественный культ, осталось одно лишь имя. И в самом деле, религия римского общества его времени, какой ее черпали из римских поэтов, не испытывая при этом никаких подозрений, не только Гёте, но и сам Ницше – это по большей части порождение эллинизировавшей литературы и не имело почти никакой связи с древним культом, которого никто уже не понимал.
Моммзен четко сформулировал западноевропейскую точку зрения, когда назвал римских историков (имея в виду в первую очередь Тацита) людьми, «говорившими то, что можно было бы и умолчать, и замалчивавшими то, что было необходимо сказать».
Индийская культура, чья идея (брахманской) нирваны является наиболее определенным выражением совершенно неисторической души, какое только можно приискать, никогда не обладала ни малейшим чутьем на «когда» в каком бы то ни было смысле. Не существует никакой подлинно индийской астрономии, никакого индийского календаря, а значит, никакой индийской истории, поскольку под этим понимается духовный концентрат сознательного развития. О зримом течении этой культуры, органическая часть которой завершилась с возникновением буддизма, мы знаем куда меньше, нежели об истории античной, несомненно богатой великими историческими событиями в период с XII по VIII в. И та, и другая запечатлелась исключительно в сновидчески-мифическом обличье. Лишь целым тысячелетием спустя после Будды, ок. 500 г. после Р. X., на Цейлоне возникла «Махавамса», отдаленно напоминающая нечто вроде историографии.
Миросознание индийского человека до такой степени неисторично, что даже появление на свет написанной каким-либо автором книги не воспринималось им в качестве определенного во временно?м смысле события. Вместо органического ряда персонально обособленных сочинений постепенно возникала аморфная масса текстов, в которую всякий вписывал все, что заблагорассудится, притом что понятия индивидуальной духовной собственности, развития мысли, духовной эпохи не играли здесь никакой роли. В таком анонимном виде (а это и вид всей вообще индийской истории) предстает нашему взору индийская философия. Сравните с ней очерченную донельзя резче – как книгами, так и лицами – историю философии Запада.
Индийский человек забывал все, египетский же ничего не мог забыть. Индийского портретного искусства (этой биографии in nuce [в зародыше (лат.)]) никогда и не существовало вовсе; египетская же скульптура вообще почти не знает другой темы.
Египетская душа, с ее преимущественно историческими задатками и ее прамировой страстной устремленностью к бесконечности, воспринимала прошлое и будущее в качестве своего цельного мира, а настоящее, тождественное с бодрствующим сознанием, виделось ей лишь тонкой границей между двумя неизмеримыми далями. Египетская культура является воплощением заботы (этого душевного аналога дали), заботы о будущем, что находило выражение в выборе гранита и базальта в качестве художественных материалов[5 - В противоположность этому – и без каких-либо аналогов в истории искусства – греки, в пику микенской эпохе, причем в изобилующей камнем стране, от каменного строительства вернулись обратно к использованию дерева, чем и объясняется отсутствие архитектурных остатков, относящихся к эпохе между 1200 и 600 гг. до н. э. Египетская растительная колонна изначально была каменной, дорическая же – деревянной. В этом о себе заявляет глубинная враждебность античной души к длительности.], в выбитых на камне документах, в формировании продуманной до деталей системы управления и в развитии густой сети орошения[6 - Выполнил ли хоть один греческий город хотя бы одну масштабную работу, которая говорила бы о заботе о будущем поколении? Система улиц и оросительная сеть, наличие которых было доказано в микенскую, т. е. доантичную эпоху, с явлением на свет античных народов (значит, с начала гомеровского времени) пришли в упадок и оказались забыты. Чтобы понять всю необычность того факта, что буквенное письмо было перенято античностью лишь после 900 г., и то в ограниченном объеме и, несомненно, лишь для самых неотложных хозяйственных целей, что с несомненностью доказывается отсутствием эпиграфических находок, следует вспомнить, что в египетской, вавилонской, мексиканской и китайской культурах разработка письменности начинается в седой древности, что германцы создали себе рунический алфавит, а впоследствии засвидетельствовали свое благоговение перед письмом все вновь и вновь повторяющейся орнаментальной разработкой каллиграфических шрифтов, между тем как ранняя античность совершенно игнорировала множество употреблявшихся на Юге и Востоке систем письма. Мы располагаем многочисленными письменными памятниками из хеттской Малой Азии и с Крита, от гомеровской же эпохи у нас нет ни одного, ср. т. 2, с. 208 слл.], и по необходимости связанной с этим заботы о прошлом. Египетская мумия представляет собой символ высшего порядка. Тело покойника увековечивали подобно тому, как его личности, ка, сообщали вечную длительность посредством исполненных зачастую во многих экземплярах скульптурных изображений, к понимаемому в весьма возвышенном смысле сходству с которыми она была привязана.
Существует тесная связь между поведением по отношению к историческому прошлому и представлением о смерти, что выражается в форме погребения. Египтянин отрицает бренность, античный человек подтверждает ее всем языком форм своей культуры. Египтяне сохраняли мумии также и собственной истории: хронологические даты и числа. В то время как от истории греков до Солона не уцелело ничего – ни одной даты, ни одного подлинного имени, ни одного реального события, – что придает преувеличенную весомость тем остаткам, которые нам только и известны, мы знаем имена и даже точные даты правления многих египетских царей в 3-м тысячелетии и еще раньше, а уж в отношении Нового царства на этот счет следовало бы иметь лишенные пропусков сведения. Еще и сегодня тела великих фараонов с вполне характерными чертами лица возлежат в наших музеях в качестве ужасного символа этой воли к длительности. На отполированной до блеска гранитной верхушке пирамиды Аменемхета III еще и теперь можно прочитать слова: «Аменемхет наблюдает красоту Солнца», а с другой стороны: «Душа Аменемхета выше, чем высота Ориона, и она связана с загробным миром». Вот преодоление бренности, чистого настоящего, и все это в высшей степени неантично.
5
В противоположность этой могучей группе египетских жизненных символов уже на пороге античной культуры, соответствуя забвению, которое она распространяет на все области своего внешнего и внутреннего прошлого, появляется трупосожжение. Сакральное выделение этой формы погребения из прочих, в равной степени практиковавшихся первобытными народами каменного века, совершенно чуждо микенской эпохе. Царские могилы свидетельствуют скорее о предпочтении в пользу трупоположения. Однако в гомеровское время, точно так же, как и в ведическое, происходит внезапный, имеющий лишь душевное обоснование переход от погребения к сожжению, которое, как показывает «Илиада», проводилось со всей силой символического акта как праздничное уничтожение, отрицание всякой исторической длительности.
С этого момента приходит к завершению и пластичность душевного развития отдельного человека. Насколько мало допускает античная драма подлинно исторические мотивы, настолько же мало допускает она и тему внутреннего развития, и нам известно, как решительно греческий инстинкт отвергает портрет в изобразительном искусстве. Вплоть до императорского времени античное искусство знает лишь один, так сказать, естественный для себя материал – миф[7 - От Гомера и вплоть до трагедий Сенеки, сплошь на протяжении целого тысячелетия, такие мифические образы, как Фиест, Клитемнестра, Геракл, несмотря на свое ограниченное число, появляются все вновь и вновь в неизменном виде, между тем как в поэзии Запада фаустовский человек является сначала как Парсифаль и Тристан, преображаясь затем в духе эпохи в Гамлета, Дон Кихота, Дон Жуана, и, наконец, в последнем, обусловленном временем перевоплощении – предстает как Фауст и Вертер, а потом в качестве героя современного романа мировой столицы, однако неизменно это происходит в атмосфере и обусловленности определенной эпохой.]. Также и идеальные изображения эллинистической скульптуры мифичны, подобно тому как таковы же и типичные биографии наподобие Плутарховых. Ни один великий грек так никогда и не написал воспоминаний, которые бы зафиксировали ушедшую эпоху перед его духовным взором. Даже сам Сократ не произнес ничего значительного (в нашем смысле слова) в отношении своей внутренней жизни. Спрашивается, возможна ли вообще таковая в античной душе, как то предполагается – в качестве вполне естественной потребности – самим возникновением Парсифаля, Гамлета и Вертера. В Платоне нам недостает какого-либо сознания развития его собственного учения. Отдельные его сочинения представляют собой лишь изводы совершенно различных точек зрения, на которые он переходил в разные периоды. Генетическая связь между ними вовсе не была предметом его размышлений. Однако уже в самом начале западной духовной истории на свет является плод глубочайшего самоанализа – «Новая жизнь» Данте. Уже отсюда можно заключить, как мало античного, т. е. чисто нынешнего, было в Гёте, который ничего не забывал и произведения которого были, по его же собственным словам, лишь отрывками одной большой исповеди[7 - См.: «Поэзия и правда», часть II, кн. 7.].
После разрушения Афин персами все произведения древнего искусства были выброшены на свалку, из которой мы их сегодня извлекаем, и никому и никогда не приходилось слышать, чтобы кто-либо в Греции озаботился судьбой руин Микен или Феста с целью получения исторических фактов. Все читали своего Гомера, однако никто и не помышлял о том, чтобы, подобно Шлиману, раскопать троянский холм. Требовался миф, а не история. Уже в эллинистическую эпоху была утрачена часть сочинений Эсхила и досократовских философов. Напротив того, уже Петрарка собирал древности, монеты, рукописи с присущим одной лишь этой культуре благоговением и задушевностью созерцания – как наделенный чувством исторического, оглядывающийся на отдаленные миры, стремящийся вдаль человек (он был первым, предпринявшим восхождение на одну из альпийских вершин[8 - На Монт-Венту недалеко от Авиньона.]), бывший по существу чужим в своей собственной эпохе. Душу собирателя можно понять только в связи с его отношением к времени. Быть может, еще больше страсти заключает в себе китайская страсть к собирательству, однако она имеет иную окрашенность. Тому, кто пускается в путь в Китае, желательно проследить «древние следы», ку-ци, и только на основании глубокого исторического чувства следует толковать недоступное переводу фундаментальное понятие китайского существа, дао[8 - См. сноску 699.]. Все же, что, напротив того, повсюду собирали в эллинистическую эпоху, было достопримечательностями, наделенными мифической притягательностью, как описывает их Павсаний, и в их случае строго исторические «когда» и «почему» вообще не принимались во внимание, между тем как египетский ландшафт уже во времена великого Тутмоса превратился в один исполинский музей со строгими традициями.
Это немцы – среди народов Запада – изобрели механические часы, наглядный символ бегущего времени, и их бой, раздающийся днем и ночью с бесчисленных башен по всей Западной Европе, является, быть может, самым величественным выражением, на которое вообще способно историческое мироощущение[9 - Ок. 1000 г., т. е. с появлением романского стиля и в начале движения крестоносцев, первых проявлений новой души, монах Герберт (папа Сильвестр II), друг императора Оттона III, изобрел конструкцию часов с боем и колесных часов. Ок. 1200 г. также в Германии появились первые башенные часы, а несколько позже – карманные часы. Следует обратить внимание на весьма значительную связь измерения времени с культовым зданием.]. Среди вневременных античных ландшафтов и городов мы ни с чем подобным не столкнемся. Вплоть до Перикла время дня оценивали лишь по длине отбрасываемой тени и лишь начиная с Аристотеля слово ??? приобретает значение «час» (вавилонское). А прежде того никакого точного подразделения дня вообще не существовало. В Вавилоне и Египте водяные и солнечные часы были изобретены в древнейшую эпоху, однако только Платон ввел в Афинах действительно пригодную к использованию в качестве часов форму клепсидры, а еще позднее были заимствованы солнечные часы – лишь как малозначительная повседневная утварь, без того чтобы это хоть в малейшей степени повлияло на античное жизнечувствование.
Здесь следует еще упомянуть соответствующее, весьма глубокое и никогда в достаточной степени не оцененное различие между античной и западной математикой. Античное числовое мышление ухватывает вещи такими, каковы они есть, как величины, во вневременном и чисто современном смысле. Это привело к евклидовой геометрии, математической статике и завершению духовной системы учением о конических сечениях. Мы же постигаем вещи такими, какими они становятся, как они себя ведут, в качестве функций. Это привело к динамике, к аналитической геометрии, а от нее – к дифференциальному исчислению[10 - У Ньютона оно называется, что весьма характерно, исчислением флуксий – с учетом определенных метафизических представлений о сущности времени. В греческой математике время вообще не встречается.]. Современная теория функций представляет собой исполинское упорядочение всей этой массы идей. Поразительный, но находящий строгое душевное обоснование факт: греческая физика (как статика в противоположность динамике) не знает употребления часов и нисколько от этого не страдает, всецело абстрагируясь от измерений времени, между тем как мы оперируем тысячными долями секунды. Аристотелевская энтелехия – вот единственное вневременное (т. е. неисторическое) понятие развития, которое вообще существует.
Тем самым наша задача определена. Мы, люди западноевропейской культуры, с нашим чувством исторического, являемся исключением, а не правилом, всемирная история – это наша картина мира, а вовсе не всего «человечества». Для индийского и античного человека никакой картины становящегося мира не существовало, и, быть может, когда западная цивилизация однажды угаснет, уже никогда больше не будет культуры, а значит, и человеческого типа, для которого такой мощной формой бодрствования была бы «всемирная история».
6
И кстати – что такое всемирная история? Упорядоченное представление прошедшего, внутренний постулат, выражение чувства формы – все это так. Однако определенное лишь таким образом чувство вовсе не является действительной формой, и насколько несомненно то, что все мы ощущаем всемирную историю, переживаем ее, полагаем, что с величайшей уверенностью обозреваем ее облик, настолько же несомненно и то, что еще и сегодня нам знакомы лишь ее формы, но не та единственная форма, верный слепок нашей внутренней жизни.
Разумеется, всякий, если его об этом спросить, будет убежден, что он отчетливо и ясно прозревает внутреннюю форму истории. Эта иллюзия основана на том, что никто всерьез над этим не задумывался и люди не особенно склонны сомневаться в своем знании именно потому, что никто и не догадывается о том, в чем здесь вообще можно сомневаться. Действительно, образ всемирной истории представляет собой не подлежащее проверке духовное достояние, передававшееся по наследству из поколения в поколение, в том числе и среди профессиональных историков, так что чего здесь в высшей степени недостает, так это небольшой доли скептицизма, который со временем Галилея расчленил и углубил прирожденную нам картину природы.
«Древний мир – Средние века – Новое время»: вот в высшей степени сомнительная и лишенная смысла схема, безоговорочное господство которой над нашим историческим мышлением извечно мешало нам правильно и по достоинству оценить положение той малой части мира, которая со времен германских императоров развивается на территории Западной Европы, в ее соотнесенности с общей историей высшего человечества, – оценить ее прежде всего по ее значимости, по образу, по продолжительности существования. Будущим культурам представится весьма сомнительным то, что этот наш эскиз с его упрощенным прямолинейным течением, его бессмысленными пропорциями, становящимися все более невозможными от века к веку и не допускающими естественного включения в себя областей, заново открывающихся свету нашего исторического сознания, все же так ни разу и не подвергся серьезной перетряске на предмет своей законности. Потому что никакого значения не имеет то, что у историков уже давно вошло в привычку выдвигать против этой схемы возражения. Тем самым они лишь затушевывали единственный имеющийся в наличии набросок, его не заменяя. Можно сколько угодно рассуждать о греческом Средневековье и германской древности, все равно это не дает нам отчетливой и внутренне необходимой картины, в которой собственное органическое место отыскалось бы для Китая и Мексики, Аксумского царства и Сасанидов. Также и перемещение точки отсчета «Нового времени» с Крестовых походов на Возрождение, а оттуда – на начало XIX в. доказывает лишь то, что саму схему продолжают считать неколебимой.
Это сокращает охват истории, однако еще хуже то, что это суживает и ее сцену. Ландшафт Западной Европы[11 - На историка здесь также оказывает влияние роковой географический предрассудок (чтобы не сказать вызванная географической картой суггестия), принимающий в расчет лишь одну часть света – Европу, в силу которого он чувствует себя обязанным осуществить также и соответствующее идеальное отграничение от Азии. Слово «Европа» вообще следовало бы вычеркнуть из истории. Никакого «европейца» как исторического типа не существует. В высшей степени глупо рассуждать о «европейской древности» в связи с греками (Гомер, Гераклит и Пифагор были в таком случае «азиатами»?), как и об их «миссии» по культурному сближению Азии с Европой. Все это слова, происходящие из поверхностного истолкования географической карты, и в действительности им ничего не соответствует. Лишь слово «Европа» с пребывающей под его влиянием совокупностью идей связало в нашем историческом сознании Россию с Западом в одно ничем не оправданное единство. Здесь, среди воспитанной на книгах читательской культуры, чистой воды абстракция привела к колоссальным последствиям в реальности. Эти читатели в лице Петра Великого на столетия подменили историческую тенденцию примитивной народной массы, притом что русский инстинкт справедливо и глубоко – с нашедшей свое воплощение в Толстом, Аксакове и Достоевском враждебностью – отграничивает «Европу» от «матушки России». Запад и Восток – понятия, наделенные подлинным историческим содержанием. «Европа» – пустой звук. Все великое, что произвела на свет античность, возникло под знаком отрицания этой континентальной границы между Римом и Кипром, Византией и Александрией. Все, что называется европейской культурой, возникло между Вислой, Адриатикой и Гвадалквивиром. И если мы примем, что во времена Перикла Греция «располагалась в Европе», теперь она там больше не находится.] образует здесь покоящуюся ось (выражаясь математически, сингулярную точку на поверхности шара), причем ответа на вопрос, почему это так, не знает никто, если только не считать основанием для этого тот факт, что мы, авторы этой картины истории, здесь-то и обитаем, и вокруг этой оси со всей возможной скромностью обращаются тысячелетия исполинской истории и расположенные вдали колоссальные культуры. Вот уж действительно своеобразно измышленная планетная система. Один-единственный ландшафт был избран в качестве естественной срединной точки одной исторической системы. Вот центральное светило. Исходя из него все события истории предстают в подлинном свете. Исходя из этого пункта происходит оценка их значимости – в перспективном изображении. Однако на самом деле здесь заявляет о себе необузданное никаким скептицизмом тщеславие западноевропейского человека, в уме которого и развертывается этот фантом – «всемирная история». Это его следует нам благодарить за сделавшийся уже давно привычным грандиозный оптический обман, в соответствии с которым насчитывающая тысячелетия, но находящаяся на отдалении история таких областей, как Китай и Египет, съеживается до незначительного эпизода, между тем как вблизи собственного местоположения со времен Лютера и особенно Наполеона десятилетия раздуваются как на дрожжах. Нам известно: это лишь иллюзия, что облако летит тем медленнее, чем выше оно находится, и движущийся за дальним лесом поезд лишь отсюда представляется едва ползущим, однако мы убеждены, что темп ранних индийской, вавилонской, египетской культур на самом деле был замедленным в сравнении с нашим недавним прошлым. Нам кажется, что их субстанция пожиже, их формы притуплены и разбросаны, потому что мы не научились принимать в расчет внутреннее и внешнее отдаление.
То, что для культуры Запада существование Афин, Флоренции и Парижа гораздо важнее, чем существование Лояна и Паталипутры, понятно само собой. Однако следует ли ценностные оценки такого рода класть в основание схемы всемирной истории? Тогда бы оказался прав и китайский историк, наметивший такую всемирную историю, в которой Крестовые походы и Возрождение, Цезарь и Фридрих Великий были бы обойдены молчанием как нечто малозначительное. Почему, если рассматривать с точки зрения морфологии, XVIII в. должен оказаться важнее, чем шестьдесят ему предшествовавших? Не смешно ли «Новое время», охватывающее несколько столетий, да еще и протекающее по преимуществу в Европе, противопоставлять обнимающей столько же тысячелетий «Древности», в которую скопом, без попытки глубокого расчленения, в качестве довеска включены все без исключения догреческие культуры? Не разделались ли мы с Египтом и Вавилоном как с некоей прелюдией античности лишь для того, чтобы спасти устарелую схему, между тем как история каждого из них по отдельности с многократным запасом перевешивает эту самую иллюзорную «всемирную историю» от Карла Великого до мировой войны? Могучие же комплексы индийской и китайской культур мы со смущением на лицах отнесли в примечание, между тем как великие американские культуры вообще проигнорировали – потому, мол, что у них отсутствует «связь» (с чем же это?).
Я называю эту имеющую хождение между нынешними западноевропейцами схему, в которой высшие культуры прочерчивают свой путь вокруг нас как мнимой срединной точки всех событий в мире, Птолемеевой системой истории, и я рассматриваю в качестве коперниканского открытия в области истории то, что в настоящей книге на ее место заступает такая система, в которой античность и Запад занимают свое никоим образом не привилегированное место наряду с Индией, Вавилоном, Китаем, Египтом, арабской и мексиканской культурой, этими отдельными мирами становления, чья весомость в общей картине истории ничуть не меньше, а по величественности душевной конституции, по мощи взлета они намного превосходят античность.
7
Схема «Древний мир – Средневековье – Новое время» была по первому своему замыслу порождением магического мирочувствования, впервые возникшего в персидской и иудейской религиях со времени Кира[12 - Ср. с. 525, 748 слл.]; в учении Книги Даниила о четырех мировых эпохах ей было придано апокалиптическое звучание, а в послехристианских религиях Востока, прежде всего в гностических системах[13 - Windelband, Gesch. d. Phil. (1900). S. 275 ff.], она получила вид всемирной истории.
В пределах чрезвычайно узких рамок, которые образуют духовные предпосылки этой выдающейся концепции, она всецело справедлива. Ни индийская, ни даже египетская история не попадают здесь в поле зрения. В устах этих мыслителей слова «всемирная история» означают разовый, в высшей степени драматический акт, разыгрывавшийся на пространстве между Грецией и Персией. В этом находит выражение строго дуалистическое мироощущение уроженцев Востока, причем не полярное, как то было в тогдашней метафизике с ее противоположностью души и духа, добра и зла, а периодическое[14 - В Новом Завете полярная точка зрения представлена по преимуществу диалектикой апостола Павла, периодическая – Апокалипсисом.], рассматриваемое как катастрофа, как смена двух временны?х эпох между сотворением мира и его гибелью, и это в отвлечении от всех моментов, которые не были зафиксированы, с одной стороны, в античной литературе, а с другой – в Библии или в той священной книге, которая занимала в соответствующей системе ее место. В этой картине мира в качестве «Древности» и «Нового времени» является очевидная на тот момент противоположность языческого и иудейского или христианского, античного и восточного, статуи и догмата, природы и духа во временно?м аспекте, как драма преодоления одного другим. Исторический переход несет на себе религиозные черты спасения. Несомненно, это – основанная всецело на провинциальных воззрениях, однако логичная и завершенная точка зрения, однако она привязана к данному ландшафту и данной человеческой породе и не была способна ни к какому естественному расширению.
Лишь в результате прибавления на западноевропейской почве третьей эпохи – нашего «Нового времени» – в картину оказался привнесенным момент движения. Восточная картина была покоящейся, замкнутой, закосневшей в равновесии антитезой, с единоразовым божественным действием в качестве среднего элемента. Перенятая и усвоенная людьми совершенно иного рода, теперь она внезапно, без того чтобы кто-либо отдал себе отчет в нелепости такой перемены, оказалась продолженной в виде линии, которая тянется вверх или вниз – это смотря по персональному вкусу историка, мыслителя или художника, с неограниченной свободой интерпретировавшего трехчленную картину – от Гомера или Адама (возможность выбора обогатилась ныне индогерманцами, каменным веком и обезьянолюдьми) через Иерусалим, Рим, Флоренцию и Париж.
Таким образом, к дополнявшим друг друга понятиям язычества и христианства прибавили завершающее «Новое время», которое по своему смыслу не допускает продолжения процесса и после того, как неоднократно «продлевалось» со времени Крестовых походов, представляется теперь уже неспособным к дальнейшему удлинению[15 - В этом можно убедиться по продиктованному отчаянием и смехотворному выражению «Новейшая история».]. Бытовало не высказанное в явной форме убеждение, что здесь, по другую сторону древности и Средневековья, начинается нечто окончательное, третье царство, в котором каким-то образом имеет место исполнение, высшая точка, цель, открытие которой всякий – от схоластиков до социалистов наших дней – приписывает лишь себе одному. Итак, то было прозрение в ход вещей – сколь покойное, столь же и лестное для того, кто его совершал. Произошло просто-напросто приравнивание западного духа, как он отображался в уме отдельного человека, к смыслу всего мира. Великие мыслители обратили духовную нужду в метафизическую добродетель, когда возвысили до основания философии освященную consensus omnium [всеобщим согласием (лат.)] схему, не подвергнув ее серьезной критике, и утруждали Бога в качестве автора того или иного измышленного ими «мирового замысла». И без того уже мистическая троичность несла в себе некий соблазн для метафизического вкуса. Гердер назвал историю воспитанием рода человеческого, Кант – развитием понятия свободы, Гегель – самораскрытием мирового духа, прочие – по-иному. Однако тот, кто вкладывал в данную как факт троичность эпох абстрактный смысл, полагал, что в достаточной степени поразмыслил насчет основных форм истории.
Уже на рубеже западной культуры является великий Иоахим Флорский († 1202)[16 - Burdach К. Reformation, Renaissance, Humanismus (1918). S. 48 ff.], первый мыслитель гегелевского чекана, который камня на камне не оставил от дуалистической картины мира Августина и в полном соответствии с ощущениями подлинного человека готики противопоставил христианство своего времени, как нечто третье, – религии Ветхого и Нового Заветов: эпоха Отца, Сына и Св. Духа. Он внес смятение в души лучших францисканцев, доминиканцев, Данте и Фомы Аквинского и вызвал к жизни такое воззрение на мир, которое неспешно овладело всем историческим мышлением нашей культуры. Лессинг, который нередко запросто называл собственное время по отношению к античности ее отпрыском[17 - Выражение «древние», в дуалистическом смысле, встречается уже во «Введении» Порфирия (ок. 300 по Р. X.).], заимствовал идеи для «Воспитания человеческого рода» (со стадиями: ребенок, юноша и мужчина) из учений мистиков XIV в., а Ибсен, основательно рассмотревший это воззрение в драме «Кесарь и Галилеянин» (где в образе волшебника Максима мы наталкиваемся непосредственно на гностическое миромышление), так и не двинулся ни на шаг дальше в своей известной Стокгольмской речи 1887 г. Очевидно, такова потребность западного самоощущения: провозглашать при своем появлении некоего рода завершение и конец.
Однако творение аббата из Фьоре было мистическим взглядом в тайны божественного миропорядка. При рассудочном его восприятии, когда его превратили в предпосылку научного мышления, оно должно было лишиться всякого смысла, что и происходило во всевозрастающих масштабах начиная с XVII в. Однако это – абсолютно несостоятельный метод истолкования всемирной истории, когда кто-либо дает волю своим политическим, религиозным или общественным убеждениям и придает все тем же трем эпохам, посягнуть на которые не отваживается, то направление, что ведет как раз к той позиции, которую занимает он сам и, смотря по ней, прикладывает господство разума, гуманизм, счастье большинства, экономический прогресс, просвещение, свободу народов, покорение природы, мир во всем мире и тому подобное в качестве меры к тысячелетиям, относительно которых доказано, что они не постигли или не достигли правды, а на самом деле желали чего-то иного, нежели мы. «Очевидно, в жизни важна жизнь, а не ее результат»[9 - Goethe J. W. Werke. Berlin, Aufbau-Verlag, 1970. Bd. 17. S. 583. («Предисловие к немецкому Жиль Блазу», цитируется О. Шпенглером по памяти.) Ср.: Goethe J. W. Werke. Weimarer Ausgabe. 4. Abt. Bd. 11. S. 22 (Письмо И. г. Майеру от 8 февраля 1796 г.).] – вот слова Гёте, которые следовало бы противопоставить всем дурацким попыткам разгадать тайну исторической формы при помощи программы.
Подобную же картину рисуют и историки всякого отдельного искусства и отдельной науки, политической экономии и философии. Мы наталкиваемся здесь на то, что живопись «вообще», от Египта (или от пещерного человека) до импрессионизма, музыка «вообще», от слепого певца Гомера и до Байрейта, общественное устройство «вообще», от обитателей свайных построек до социализма, воспринимаются как свершающийся по единой линии подъем, без того чтобы принять во внимание возможность того, что у искусств – отмеренный им срок жизни, что они привязаны к одному ландшафту и определенному типу людей, как их выражение, и что поэтому эти общие истории являются всего лишь результатом механического суммирования некоторого числа единичных развитий, отдельных искусств, у которых общее лишь название и кое-что из ремесленной техники исполнения.
Относительно всякого организма нам известно, что темп, облик и продолжительность его жизни и всякого его единичного жизненного проявления определяются особенностями вида, к которому он принадлежит. Никто не предполагает относительно тысячелетнего дуба, что вот сейчас-то он и начнет развиваться. Никто не ждет от гусеницы, наблюдая за ее ежедневным ростом, что, быть может, это продлится еще пару лет. Всякому здесь дано наделенное безусловной несомненностью ощущение рубежа, тождественное с чувством внутренней формы. По отношению же к истории высшего человечества господствует безбрежный, презирающий всякий исторический, а значит, и органический опыт оптимизм в отношении хода будущего, так что всякий в случайном настоящем усматривает «задатки» некоего особо выдающегося линеарного «дальнейшего развития» – не потому, что оно научно доказано, а потому, что он такого развития желает. Здесь принимаются в расчет только безграничные возможности и никогда – естественный конец, и на основании положения в каждый отдельный миг выстраивается исполненная наивности конструкция продолжения.
Однако у «человечества как такового» нет никакой цели, никакой идеи, никакого плана, как нет цели у вида бабочек или орхидей. «Человечество в целом» – это лишь зоологическое понятие или звук пустой[18 - «Человечество? Это абстракция. Извечно существовали одни только люди, и будут существовать только люди» (Гёте – Лудену)[706 - Беседа с Генрихом Луденом (1780–1847), профессором философии и истории в Йене с 1806 г., от 19 августа 1806 г. (см.: Goethes Gespr?che. Hrsg. von W. von Biedermann. Leipzig, 1889–1896. Bd. 2. S. 82).].]. Изгоните этот призрак из круга проблем исторической формы – и вы увидите, как на сцену явится ошеломляющее богатство форм действительных. Вот где неизмеримая полнота, глубина и подвижность живого, которая скрывалась доныне под лозунгом, под сухой схемой, под личными «идеалами». Взамен этой унылой картины линиеобразной всемирной истории, которая может сохранять свою действительность, лишь пока мы закрываем глаза на подавляющее множество фактов, я вижу драму с участием множества могучих культур, с первозданной мощью расцветающих на лоне материнского ландшафта, с которым каждая из них нерушимо связана на всем протяжении своего существования, и каждая из них напечатлевает на своем материале, человечестве, свою собственную форму, и у каждой – собственная идея, собственные страсти, собственные жизнь, воля, чувствования и собственная смерть. Мы встретим здесь цвета, лучи и движения, которые не открывались до сих пор ни одному духовному взору. Бывают расцветающие и стареющие культуры, народы, языки, истины, боги, ландшафты, подобно тому как бывают молодые и старые дубы и пинии, цветы, ветви и листья, однако никакого стареющего «человечества» нет в природе. Всякая культура располагает своими новыми возможностями выражения, которые появляются, зреют и увядают, никогда больше не повторяясь. Существует много в глубинном существе друг с другом не связанных живописей и ваяний, математик и физик, и всякая из них имеет ограниченную продолжительность жизни, всякая замкнута в самой себе, подобно тому как имеет свои собственные цветы и плоды, собственный тип роста и гибели всякий вид растений. Эти культуры, живые существа высшего порядка, вырастают в возвышенной бесцельности, подобно полевым цветам. Как и растения с животными, они относятся к живой природе Гёте, а не к мертвой природе Ньютона. Во всемирной истории я усматриваю картину постоянного образования и преобразования, восхитительного становления и гибели органических форм. Ремесленному же историку она представляется глистой, неустанно вычленяющей из себя все новые эпохи.
Между тем ряд «Древний мир – Средневековье – Новое время» наконец-то утратил свою действенность. При всей своей угловатой узости и плоскости как научного фундамента все же он представлял собой единственную не вовсе лишенную философского основания формулировку, которой мы располагали для систематизации наших результатов, и все, что удалось до сих пор упорядочить как всемирную историю, обязано своим небогатым содержанием именно ей. Однако число столетий, которые в самом благоприятном случае могла удерживать воедино данная схема, уже давно достигнуто. По мере стремительного роста исторического материала, и в первую очередь такого, который находится всецело за пределами данного порядка, картина начинает распадаться в необозримый хаос. Это видит и чувствует всякий не вовсе лишенный зрения историк, и он любой ценой держится за единственную известную ему схему лишь для того, чтобы как-то удержаться на плаву. Слову «Средневековье»[19 - «Средневековье» – это история области, в которой господствовал латинский – церковный и ученый – язык. Исполинские судьбы восточного христианства, задолго до Бонифация продвинувшегося через Туркестан до Китая и через Сабу до Абиссинии, не принимаются этой «всемирной историей» в расчет.], изобретенному в 1667 г. проф. Горном в Лейдене, приходится ныне покрывать собой бесформенную, постоянно распространяющуюся вширь массу всего того, что чисто негативным образом ни под каким предлогом не может быть причислено к двум другим, кое-как упорядоченным группам. Примерами этого является неуверенность процедур и оценок в отношении новоперсидской, арабской и русской истории. Прежде всего больше нет возможности замалчивать то обстоятельство, что эта якобы история мира на самом деле поначалу ограничивалась областью Восточного Средиземноморья, впоследствии же, начиная с переселения народов (важного лишь для нас одних и потому сильно переоцениваемого события, которое значимо только для Запада и никак не затрагивает уже арабскую культуру) имеет место внезапная смена места действия и эта история мира ограничивается уже средней частью Западной Европы. Гегель простодушно заявлял, что будет игнорировать те народы, которые не укладываются в его систему истории. Однако то было лишь честное признание в отношении методических предпосылок, без которых ни один историк и не достигал своей цели. На этом можно проводить проверку состоятельности целых томов по истории. В самом деле, теперь это уже вопрос научного такта: какие исторические явления честно принимаются в расчет, а какие – нет. Хорошим примером здесь может служить Ранке.
В собственных политических меморандумах (таких как «Considеrations» [«Размышления» (фр.)] 1738 г.) Фридрих Великий уверенно пролагает себе путь посредством аналогий – дабы обозначить свое понимание всемирно-политического положения, как, например, когда он сравнивает французов с македонянами при Филиппе, а немцев – с греками: «Эльзас и Лотарингия, эти Фермопилы Германии, уже в руках у Филиппа». Все это относилось главным образом к политике кардинала Флери. Далее следует сравнение политики, проводимой домами Габсбургов и Бурбонов, с проскрипциями Антония и Октавиана.
Однако все это продолжало носить отрывочный и произвольный характер и, как правило, в большей степени отвечало сиюминутной потребности выразиться поэтично и остроумно, нежели углубленному историческому чувству формы.
Так, сравнения Ранке, этого мастера искусной аналогии, Киаксара с Генрихом I, набегов киммерийцев с набегами венгров не имеют никакого смысла в плане морфологии, и лишь немногим лучше часто встречающиеся у него же сравнения греческих городов с республиками Возрождения. Более глубоко, хотя и имеет случайный характер, сходство Алкивиада с Наполеоном. Ранке, как и остальным, они внушены Плутарховым, т. е. народно-романтическим вкусом, который принимает во внимание только сходство обстановки на мировой сцене, и действует он уж никак не со строгостью математика, прозревающего внутреннее родство двух групп дифференциальных уравнений, между тем как непосвященный видит в них одни только различия во внешней форме.
Нетрудно заметить, что, вообще говоря, подбор образов определяется исключительно прихотью, а вовсе не идеей, не ощущением необходимости. Мы еще очень далеки от техники сравнения. Бездна сравнений возникает уже теперь, однако все это бессистемно и бессвязно; и если подчас они оказываются удачны в глубинном смысле, который еще предстоит установить, мы обязаны этим везению, куда реже – инстинкту, и никогда – принципу. До сих пор никто и не помышлял о том, чтобы разработать в этой области метод. Ни у кого не возникало даже неясной догадки на тот счет, что здесь следует искать ответ, причем ответ единственный, из которого может возникнуть великое решение проблемы истории.
Сравнения могли бы составить счастье исторического мышления, поскольку они раскрывают органическую структуру истории. Под воздействием всеохватной идеи их технике следовало бы развиться до не оставляющей выбора необходимости, до логического мастерства. Доныне же они оказывались несчастьем, потому что, как вопрос исключительно вкуса, сравнения избавляли историка от осознания и усилия рассматривать язык исторических форм и их анализ в качестве своей самой тяжелой и непосредственной, вплоть до нынешнего времени все еще даже и не понятой (уж не говоря о том, чтобы ее разрешить) задачи. Сравнения бывали частью поверхностными, как, например, когда Цезаря называли основателем римской официальной газеты, или, что еще хуже, до крайности запутанными, связывающими внутренне чуждые для нас явления античного существования с нынешними модными словечками – такими как социализм, импрессионизм, капитализм, клерикализм; подчас же этим сравнениям бывала свойственна причудливая извращенность, как практиковавшемуся якобинцами культу Брута, того самого миллионера и ростовщика Брута, который в качестве идеолога олигархического государственного устройства при одобрении патрицианского сената зарезал подлинного демократа[1 - См. сноску 907.][5 - Т. е. Цезаря.].
3
Так задача, первоначально охватывавшая лишь ограниченную проблему нынешней цивилизации, раздвигает свои рамки вплоть до новой философии, и именно философии будущего, поскольку таковая может произрасти на метафизически истощенной почве Запада. Однако это – единственная философия, принадлежащая по крайней мере к возможностям западноевропейского духа на его последующих стадиях, выходя на идею морфологии всемирной истории, мира как истории, которая в противоположность морфологии природы, бывшей доныне единственной темой философии, охватывает в себе все образы и движения мира в их глубочайшем и окончательнейшем смысле, и хотя делает это повторно, однако в совершенно ином порядке, обобщая все познанное не в собирательную картину, но в образ жизни как таковой, в образ не ставшего, но становящегося.
Мир как история, постигнутый, рассмотренный, оформленный исходя из его противоположности, мира как природы – вот новый аспект человеческого бытия на этой планете. Разработку этого представления во всем его колоссальном практическом и теоретическом значении не признавали в качестве задачи вплоть до сегодняшнего дня, а, быть может, лишь смутно ощущали, нередко усматривали вдали; однако никогда к ней – со всеми вытекающими из нее последствиями – не отваживались приступить. Здесь кроются две возможности того, как человек может внутренне овладевать окружающим его миром и его переживать. Я максимально резко разделяю – по форме, но не сущностно – органическое впечатление от мира от впечатления механического, совокупность образов – от совокупности законов, образ и символ – от формулы и системы, однажды реализуемое – от постоянно возможного, цель планомерно упорядочивающей силы воображения – от целенаправленно разлагающего опыта, чтобы назвать здесь еще никогда до сих пор не замеченную, однако полную значения противоположность, а именно области действия хронологического числа и числа математического[2 - Вот имевший гигантское значение и не преодоленный до сих пор промах Канта: вначале он совершенно схематически связал внешнего и внутреннего человека с многозначными и прежде всего не неизменными понятиями пространства и времени, а тем самым абсолютно ненадлежащим образом увязал и геометрию с арифметикой, вместо чего здесь следовало бы по крайней мере назвать куда более глубокую противоположность математического и хронологического числа. И геометрия, и арифметика – это пространственные исчисления, в высших своих областях вообще неразличимые. Исчисление времени, понятие которого на уровне ощущений предельно ясно простецу, отвечает на вопрос когда, а не что и сколько.].
Соответственно вышесказанному в исследовании, подобном нашему, речь должна идти не о том, чтобы принять как должное лежащие на поверхности злободневные события духовно-политического порядка, расположить их по «причинам» и «следствиям» и проследить в соответствии с их мнимыми, доступными для рассудка тенденциями. Такое – «прагматическое» – обращение с историей было бы не чем иным, как замаскированным естествознанием, чего и не скрывают приверженцы материалистического понимания истории, между тем как их оппоненты еще недостаточно отчетливо сознают степень сходства того и другого подхода. Речь идет не о том, чем являются конкретные факты сами по себе и как таковые, как явления какой-либо эпохи, но о том, что означают их явления, на что они намекают. Современные историки убеждены, что вершат куда больше, чем от них требуется, когда привлекают религиозные, социальные подробности, всякого рода мелочи из истории искусств, чтобы «проиллюстрировать» политическое содержание эпохи. Однако они забывают главное, а именно главное постольку, поскольку зримая история – это выражение, знак, оформившаяся душевность. Я не отыскал еще ни одного исследователя, который занялся бы всерьез изучением морфологического родства, внутренне связывающего язык форм всех культурных областей, кто бы обстоятельно углубился – поверх всех фактов политической жизни – в краеугольные и основополагающие математические идеи эллинов, арабов, западноевропейцев, в смысл их ранней орнаментики, их архитектонических, метафизических, драматических базовых форм, подбор и направление их великих искусств, подробности их художественных приемов и выбор материалов, уж не говоря о том, чтобы познать все эти предметы в их решающем значении для проблемы исторической формы. Кому ведомо, что между дифференциальным исчислением и династическими государственными принципами эпохи Людовика XIV, между античной государственной формой полиса и евклидовой геометрией, между пространственной перспективой западноевропейской живописи и преодолением пространства посредством дорог, телефонов и огнестрельного оружия, между контрапунктированной инструментальной музыкой и кредитной системой в экономике существует глубинная формальная связь? Будучи рассмотрены под этим углом зрения, даже самые прозаические факты из сферы политики принимают символический, прямо-таки метафизический характер и, быть может, впервые в истории такие предметы, как египетская система управления, античная монетная система, аналитическая геометрия, чек, Суэцкий канал, китайское книгопечатание, прусская армия и римская техника возведения дорог понимаются здесь в равной степени как символы и в качестве таковых истолковываются.
Здесь-то и выясняется, что просветленного посредством теории искусства исторического рассмотрения все еще не существует: то, что так называют, привлекает свои методы почти исключительно из сферы той науки, в которой – единственной из всех – методы познания достигли строгой разработанности, а именно из физики. Прослеживая причинно-следственные связи, историк пребывает в убеждении, что занимается историческим исследованием. Примечателен тот факт, что философия в старом стиле никогда и не помышляла о возможности иного отношения между понимающим человеческим бодрствованием и окружающим миром. Кант, установивший в главном своем труде формальные правила познания, привлек в качестве объекта деятельности рассудка лишь природу, причем никто этого так до сих пор и не заметил. Для него знание – это лишь математическое знание. Когда он говорит о прирожденных формах созерцания и категориях рассудка, он никогда не помышляет о совершенно иных по характеру понятиях исторических впечатлений, а Шопенгауэр, который, что весьма многозначительно, принимает во внимание из кантовских категорий лишь причинность, говорит об истории исключительно с презрением[3 - Надо быть в состоянии прочувствовать, насколько глубина формального комбинирования и энергия абстрагирования в области, например, исследования Возрождения или истории Великого переселения народов отстают от тех, которые являются чем-то само собой разумеющимся для теории функций и теоретической оптики. Сравнивая историка с физиком и математиком, мы видим, насколько небрежен первый, стоит ему только перейти от собирания и упорядочения материала к его истолкованию.]. То, что помимо необходимости причины и следствия (я назвал бы это логикой пространства) в жизни существует еще и органическая необходимость судьбы (логика времени), представляет собой факт глубочайшей внутренней достоверности, факт, наполняющий собой все вообще мифологическое, религиозное и художественное мышление и образующий суть и ядро всякой истории в противоположность природе, оставаясь, однако, недоступным для тех форм познания, которые исследует «Критика чистого разума». Но до соответствующей теоретической формулировки еще далеко. Как пишет Галилей в знаменитом месте своего «Saggiatore» [«Пробирщика» (ит.)], в великую книгу природы философия «scritta in lingua matematica» [вписана математическим языком (ит.)]. Однако мы все еще ожидаем ответа философа на вопрос, на каком языке написана история и как его следует читать.
Математика и принцип причинности ведут к естественному, хронология и идея судьбы – к историческому упорядочению явлений. Оба этих порядка охватывают – каждый для себя – весь мир. Другим оказывается только глаз, в котором и через который осуществляется этот мир.
4
Природа – это образ, посредством которого человек, принадлежащий к высшей культуре, придает единство и смысл непосредственным впечатлениям своих чувств. История – образ, исходя из которого его фантазия силится постичь живое бытие мира в связи с собственной жизнью, углубив тем самым ее действительность. Способен ли он к такому образотворчеству и какой из них господствует в его бодрствующем сознании – вот первовопрос всего человеческого существования.
Здесь имеются две возможности миротворения человеком. Тем самым уже сказано, что не обязательно они же и осуществляются. Так что, если впоследствии мы зададимся вопросом относительно смысла всей истории, вначале надо будет разрешить вопрос, прежде никогда не ставившийся. Для кого существует история? На первый взгляд, парадоксальный вопрос. Несомненно, для всякого, поскольку всякий человек со всем его бытием и бодрствованием является составной частью истории. Однако большая разница, живет ли некто под постоянным впечатлением того, что его жизнь – это составная часть куда большей биографии, простирающейся на столетия или тысячелетия, или же он воспринимает ее как нечто в самом себе закругленное и завершенное. Разумеется, для последнего рода бодрствования не существует никакой всемирной истории, никакого мира как истории. Однако что происходит, если на таком антиисторическом основании базируется самосознание целой нации, когда из него исходит целая культура? Каковой должна ей представляться действительность? Мир? Жизнь? Если мы задумаемся над тем, что в миросознании греков все пережитое, причем не одно только личное, но и все прошедшее вообще тотчас же переходило в лишенный времени, неподвижный, мифически оформленный фон извечно мгновенного настоящего – до такой степени, что история Александра Великого еще прежде его смерти начала для античного сознания сливаться воедино с легендой о Дионисе, а Цезарь воспринимал свое происхождение от Венеры как по крайней мере не противоречащее здравому смыслу, нам придется признать, что для нас, людей Запада, с нашим мощным ощущением временны?х отстояний, на основании которого повседневное летоисчисление в системе «до» и «после» Рождения Христа стало чем-то само собой разумеющимся, почти невозможно заново пережить такие душевные состояния, однако мы не имеем права просто игнорировать этот факт в контексте проблемы истории.
Что означают дневники и автобиографии для отдельного человека, тем же оказываются для души целой культуры исторические исследования в наиболее широком объеме, когда они включают в себя также и все разновидности сравнительного психологического анализа чуждых народов, эпох, обычаев и нравов. Однако античная культура не обладала никакой памятью, никаким историческим органом в этом специальном смысле. «Память» античного человека (при этом мы, разумеется, бесцеремонно вкладываем в чужую душу понятие, выведенное на основании собственной душевной картины) представляет собой нечто совершенно иное, потому что здесь в бодрствовании отсутствуют прошлое и будущее в качестве упорядочивающих перспектив, наполняет же его с неведомой нам мощью «чистое настоящее», которым так часто восторгался Гёте во всех проявлениях античной жизни, но в первую очередь в скульптуре. Это чистое настоящее, величайшим символом которого является дорическая колонна, оказывается на самом деле отрицанием времени (направления). Для Геродота и Софокла, точно так же как для Фемистокла и римского консула, прошлое тут же испаряется в покоящееся вне времени впечатление с полярной, непериодической структурой (потому что таков конечный смысл одухотворенного мифотворчества), в то время как для нашего мироощущения и внутреннего взора прошлое представляет собой четко расчлененный, направленный во времени организм, образованный веками и тысячелетиями. Однако лишь этот фон и придает жизни – как античной, так и западной – особую окраску. То, что называл космосом грек, было картиной мира, который не становится, но есть. Следовательно, сам грек был таким человеком, который никогда не становился, но извечно был.
Поэтому античный человек, хотя он располагал строгой хронологией и календарным исчислением, а потому был прекрасно знаком с мощным, проявляющимся в наблюдении небесных тел и точном измерении громадных временны?х протяжений ощущением вечности и ничтожества настоящего мгновения в вавилонской и прежде всего в египетской культуре, внутренне ничего из этого не усвоил. То, что упоминают иной раз античные философы, они лишь услышали от других, но не испытали сами. Открытое же отдельными светлыми умами, происходившими по преимуществу из азиатской Греции, такими как Гиппарх и Аристарх, отвергалось как стоическим, так и аристотелевским умонастроением и вообще не принималось во внимание за узкими пределами специальной дисциплины. Ни у Платона, ни у Аристотеля не было обсерватории. В последние годы Перикла в Афинах было проведено постановление народного собрания, грозившее строгой формой иска эйсангелии[6 - Эйсангелия – в древнеаттическом праве (а также в праве ряда других греческих полисов) разновидность публичного иска в уголовных делах, а также сами процессуальные действия, следовавшие за таким иском. Вначале были направлены против еще не встречавшихся и в связи с этим не предусмотренных законодательством правонарушений, однако ок. сер. IV в. до Р. X. был принят специальный «эйсангелический» закон, охвативший и обобщивший отдельные случаи. Вначале за исполнением закона мог надзирать только ареопаг, позднее существовало много инстанций, уполномоченных применять его в отдельных случаях (народное собрание, Совет пятисот, архонт и др.).] всякому, кто станет распространять астрономические теории. То был акт глубочайшей символики, в котором выразилась воля античной души изгнать из своего миросознания даль в любом смысле этого слова.
Что касается античной историографии, взглянем на Фукидида. Мастерство этого автора заключается в подлинно античной способности осмысленно и на себе самом пережить современные события, к чему добавляется еще тот изумительный дар проникновения в факты прирожденного государственного деятеля, который сам был полководцем и администратором. Этот практический опыт, который, к сожалению, путают с чувством исторического, справедливо делает Фукидида в глазах чистых ученых, занимающихся историографией, непревзойденным образцом. Что, однако, осталось для него всецело недоступным – это тот наделенный перспективой взгляд на историю столетий, который, по нашему представлению, понятие историка должно включать в себя как нечто само собой разумеющееся. Все славные творения в жанре античного исторического повествования ограничиваются политической современностью автора, что самым резким образом контрастирует с нами, поскольку все без исключения наши исторические шедевры трактуют отдаленное прошлое. Фукидид провалился бы уже на теме Греко-персидских войн, не говоря об общей истории Греции или тем более истории Египта. Он, как и Полибий с Тацитом, также практические политики, тут же утрачивает всю свою проницательность, стоит ему натолкнуться в прошлом, зачастую на отстоянии в несколько десятилетий, на такие движущие силы, которые из собственной практики знакомы ему не были. Полибию непонятна 1-я Пуническая война, Тациту невнятен уже Август, а совершенно неисторическое (при сравнении с нашими ориентированными перспективно исследованиями) мышление Фукидида раскрывается уже в его неслыханном утверждении, сделанном им прямо на первой же странице его труда, что до его времени (приблизительно 400 г.!) в мире не происходило ничего достопамятного (?? µ????? ????????)[4 - В высшей степени наивными оказались начавшиеся лишь очень поздно попытки греков создать нечто наподобие календаря или хронологии по египетскому образцу. Исчисление времени по Олимпиадам вовсе не представляет собой эры, как, например, христианское исчисление времени, а кроме того, это очень поздний, чисто литературный паллиатив, не имевший хождения в народе. Народ вообще не испытывал потребности в исчислении, при помощи которого можно было бы связать воедино опыт дедов и прадедов, пускай там отдельные ученые продолжали интересоваться проблемой календаря. Важно здесь не то, плох календарь или хорош, а находится ли он в употреблении, протекает ли в соответствии с ним жизнь общества в целом. Однако измышлением чистой воды являются как списки победителей до 500 г., так и древнейшие списки аттических архонтов или римских консулов. В отношении колонизации не существует ни одной подлинной даты (Meyer Ed., Gesch. d. Alt. II, 442; Beloch, Griech. Gesch. I, 2, 219). До V в. никто в Греции и не помышлял о том, чтобы делать выписки из отчетов об исторических событиях (Beloch, I, 1, 125). До нас дошла надпись с текстом договора между Элидой и Хереей, который должен был действовать «сотню лет начиная с нынешнего года». Что это был за год, не указано. Так что через некоторое время никто уже и не знал, как долго существует договор, и очевидно, что никто этого и не предвидел. Вероятно, эти люди настоящего вообще о нем забыли уже очень скоро. Отличительным признаком легендарно-ребяческого характера античной картины истории является то, что упорядоченная датировка таких, например, фактов, как «Троянская война», которая по отстоянию соответствует нашим Крестовым походам, была бы воспринята прямо-таки как погрешность против хорошего стиля. Также и географические познания античности оказываются далеко позади египетских и вавилонских. Эд. Мейер (Gesch. d. Alt. III, 102) демонстрирует, как на отрезке от Геродота (основывавшегося на персидских источниках) до Аристотеля приходило в упадок знание о том, как выглядит Африка. То же касается и римлян как наследников карфагенян. Вначале они пересказывали чужие сведения, а потом постепенно их забывали.].
По этой причине античная история вплоть до Греко-персидских войн, а сверх того еще и традиционная периодизация куда более поздних эпох являются продуктом мифического по сути своей мышления. История государственного устройства Спарты (Ликург, чья биография рассказывается во всех подробностях, был, вероятно, незначительным лесным божеством на Тайгете) представляет собой измышление эллинистического времени, а римская история до Ганнибала пребывала в состоянии активного созидания еще во времена Цезаря. Изгнание Тарквиниев Брутом – рассказ, моделью для которого послужил один из современников цензора Аппия Клавдия (310 г.). Имена римских царей были образованы на основе имен разбогатевших плебейских родов (К. Й. Нойман). Уж не говоря о «Сервиевой конституции», ко времени Ганнибала не существовало еще даже и знаменитых Лициниевых земельных законов (Б. Низе). Стоило Эпаминонду освободить мессенцев и аркадян и объединить их в одном государстве, как они придумали себе древнюю историю. Чудовищно здесь не то, что такое происходило, но то, что истории другого рода, по сути, и не было вовсе. Невозможно с лучшей наглядностью продемонстрировать противоположность западного и античного воззрения на все историческое, нежели указав на то, что вся римская история до 250 г., какой ее знали при Цезаре, в сущности фальшивка, а то немногое, что удалось установить нам, было абсолютно неведомо римлянам более поздних эпох. Отличительной особенностью того смысла, который вкладывали в слово «история» в античности, является то, что александрийские романы оказали в отношении материала сильнейшее действие на вполне серьезную политическую и религиозную историографию. Никто и не помышлял о том, чтобы проводить фундаментальное различие между романами и данными, основанными на актах. Когда в последние годы существования республики Варрон взялся за то, чтобы зафиксировать римскую религию, стремительно исчезавшую из народной памяти, он разделил божества, служение которым государство скрупулезнейшим образом соблюдало, на di certi [известные боги (лат.)] и di incerti [неизвестные боги (лат.)], т. е. на таких, о которых еще было что-то известно, и таких, от которых, несмотря на продолжающийся общественный культ, осталось одно лишь имя. И в самом деле, религия римского общества его времени, какой ее черпали из римских поэтов, не испытывая при этом никаких подозрений, не только Гёте, но и сам Ницше – это по большей части порождение эллинизировавшей литературы и не имело почти никакой связи с древним культом, которого никто уже не понимал.
Моммзен четко сформулировал западноевропейскую точку зрения, когда назвал римских историков (имея в виду в первую очередь Тацита) людьми, «говорившими то, что можно было бы и умолчать, и замалчивавшими то, что было необходимо сказать».
Индийская культура, чья идея (брахманской) нирваны является наиболее определенным выражением совершенно неисторической души, какое только можно приискать, никогда не обладала ни малейшим чутьем на «когда» в каком бы то ни было смысле. Не существует никакой подлинно индийской астрономии, никакого индийского календаря, а значит, никакой индийской истории, поскольку под этим понимается духовный концентрат сознательного развития. О зримом течении этой культуры, органическая часть которой завершилась с возникновением буддизма, мы знаем куда меньше, нежели об истории античной, несомненно богатой великими историческими событиями в период с XII по VIII в. И та, и другая запечатлелась исключительно в сновидчески-мифическом обличье. Лишь целым тысячелетием спустя после Будды, ок. 500 г. после Р. X., на Цейлоне возникла «Махавамса», отдаленно напоминающая нечто вроде историографии.
Миросознание индийского человека до такой степени неисторично, что даже появление на свет написанной каким-либо автором книги не воспринималось им в качестве определенного во временно?м смысле события. Вместо органического ряда персонально обособленных сочинений постепенно возникала аморфная масса текстов, в которую всякий вписывал все, что заблагорассудится, притом что понятия индивидуальной духовной собственности, развития мысли, духовной эпохи не играли здесь никакой роли. В таком анонимном виде (а это и вид всей вообще индийской истории) предстает нашему взору индийская философия. Сравните с ней очерченную донельзя резче – как книгами, так и лицами – историю философии Запада.
Индийский человек забывал все, египетский же ничего не мог забыть. Индийского портретного искусства (этой биографии in nuce [в зародыше (лат.)]) никогда и не существовало вовсе; египетская же скульптура вообще почти не знает другой темы.
Египетская душа, с ее преимущественно историческими задатками и ее прамировой страстной устремленностью к бесконечности, воспринимала прошлое и будущее в качестве своего цельного мира, а настоящее, тождественное с бодрствующим сознанием, виделось ей лишь тонкой границей между двумя неизмеримыми далями. Египетская культура является воплощением заботы (этого душевного аналога дали), заботы о будущем, что находило выражение в выборе гранита и базальта в качестве художественных материалов[5 - В противоположность этому – и без каких-либо аналогов в истории искусства – греки, в пику микенской эпохе, причем в изобилующей камнем стране, от каменного строительства вернулись обратно к использованию дерева, чем и объясняется отсутствие архитектурных остатков, относящихся к эпохе между 1200 и 600 гг. до н. э. Египетская растительная колонна изначально была каменной, дорическая же – деревянной. В этом о себе заявляет глубинная враждебность античной души к длительности.], в выбитых на камне документах, в формировании продуманной до деталей системы управления и в развитии густой сети орошения[6 - Выполнил ли хоть один греческий город хотя бы одну масштабную работу, которая говорила бы о заботе о будущем поколении? Система улиц и оросительная сеть, наличие которых было доказано в микенскую, т. е. доантичную эпоху, с явлением на свет античных народов (значит, с начала гомеровского времени) пришли в упадок и оказались забыты. Чтобы понять всю необычность того факта, что буквенное письмо было перенято античностью лишь после 900 г., и то в ограниченном объеме и, несомненно, лишь для самых неотложных хозяйственных целей, что с несомненностью доказывается отсутствием эпиграфических находок, следует вспомнить, что в египетской, вавилонской, мексиканской и китайской культурах разработка письменности начинается в седой древности, что германцы создали себе рунический алфавит, а впоследствии засвидетельствовали свое благоговение перед письмом все вновь и вновь повторяющейся орнаментальной разработкой каллиграфических шрифтов, между тем как ранняя античность совершенно игнорировала множество употреблявшихся на Юге и Востоке систем письма. Мы располагаем многочисленными письменными памятниками из хеттской Малой Азии и с Крита, от гомеровской же эпохи у нас нет ни одного, ср. т. 2, с. 208 слл.], и по необходимости связанной с этим заботы о прошлом. Египетская мумия представляет собой символ высшего порядка. Тело покойника увековечивали подобно тому, как его личности, ка, сообщали вечную длительность посредством исполненных зачастую во многих экземплярах скульптурных изображений, к понимаемому в весьма возвышенном смысле сходству с которыми она была привязана.
Существует тесная связь между поведением по отношению к историческому прошлому и представлением о смерти, что выражается в форме погребения. Египтянин отрицает бренность, античный человек подтверждает ее всем языком форм своей культуры. Египтяне сохраняли мумии также и собственной истории: хронологические даты и числа. В то время как от истории греков до Солона не уцелело ничего – ни одной даты, ни одного подлинного имени, ни одного реального события, – что придает преувеличенную весомость тем остаткам, которые нам только и известны, мы знаем имена и даже точные даты правления многих египетских царей в 3-м тысячелетии и еще раньше, а уж в отношении Нового царства на этот счет следовало бы иметь лишенные пропусков сведения. Еще и сегодня тела великих фараонов с вполне характерными чертами лица возлежат в наших музеях в качестве ужасного символа этой воли к длительности. На отполированной до блеска гранитной верхушке пирамиды Аменемхета III еще и теперь можно прочитать слова: «Аменемхет наблюдает красоту Солнца», а с другой стороны: «Душа Аменемхета выше, чем высота Ориона, и она связана с загробным миром». Вот преодоление бренности, чистого настоящего, и все это в высшей степени неантично.
5
В противоположность этой могучей группе египетских жизненных символов уже на пороге античной культуры, соответствуя забвению, которое она распространяет на все области своего внешнего и внутреннего прошлого, появляется трупосожжение. Сакральное выделение этой формы погребения из прочих, в равной степени практиковавшихся первобытными народами каменного века, совершенно чуждо микенской эпохе. Царские могилы свидетельствуют скорее о предпочтении в пользу трупоположения. Однако в гомеровское время, точно так же, как и в ведическое, происходит внезапный, имеющий лишь душевное обоснование переход от погребения к сожжению, которое, как показывает «Илиада», проводилось со всей силой символического акта как праздничное уничтожение, отрицание всякой исторической длительности.
С этого момента приходит к завершению и пластичность душевного развития отдельного человека. Насколько мало допускает античная драма подлинно исторические мотивы, настолько же мало допускает она и тему внутреннего развития, и нам известно, как решительно греческий инстинкт отвергает портрет в изобразительном искусстве. Вплоть до императорского времени античное искусство знает лишь один, так сказать, естественный для себя материал – миф[7 - От Гомера и вплоть до трагедий Сенеки, сплошь на протяжении целого тысячелетия, такие мифические образы, как Фиест, Клитемнестра, Геракл, несмотря на свое ограниченное число, появляются все вновь и вновь в неизменном виде, между тем как в поэзии Запада фаустовский человек является сначала как Парсифаль и Тристан, преображаясь затем в духе эпохи в Гамлета, Дон Кихота, Дон Жуана, и, наконец, в последнем, обусловленном временем перевоплощении – предстает как Фауст и Вертер, а потом в качестве героя современного романа мировой столицы, однако неизменно это происходит в атмосфере и обусловленности определенной эпохой.]. Также и идеальные изображения эллинистической скульптуры мифичны, подобно тому как таковы же и типичные биографии наподобие Плутарховых. Ни один великий грек так никогда и не написал воспоминаний, которые бы зафиксировали ушедшую эпоху перед его духовным взором. Даже сам Сократ не произнес ничего значительного (в нашем смысле слова) в отношении своей внутренней жизни. Спрашивается, возможна ли вообще таковая в античной душе, как то предполагается – в качестве вполне естественной потребности – самим возникновением Парсифаля, Гамлета и Вертера. В Платоне нам недостает какого-либо сознания развития его собственного учения. Отдельные его сочинения представляют собой лишь изводы совершенно различных точек зрения, на которые он переходил в разные периоды. Генетическая связь между ними вовсе не была предметом его размышлений. Однако уже в самом начале западной духовной истории на свет является плод глубочайшего самоанализа – «Новая жизнь» Данте. Уже отсюда можно заключить, как мало античного, т. е. чисто нынешнего, было в Гёте, который ничего не забывал и произведения которого были, по его же собственным словам, лишь отрывками одной большой исповеди[7 - См.: «Поэзия и правда», часть II, кн. 7.].
После разрушения Афин персами все произведения древнего искусства были выброшены на свалку, из которой мы их сегодня извлекаем, и никому и никогда не приходилось слышать, чтобы кто-либо в Греции озаботился судьбой руин Микен или Феста с целью получения исторических фактов. Все читали своего Гомера, однако никто и не помышлял о том, чтобы, подобно Шлиману, раскопать троянский холм. Требовался миф, а не история. Уже в эллинистическую эпоху была утрачена часть сочинений Эсхила и досократовских философов. Напротив того, уже Петрарка собирал древности, монеты, рукописи с присущим одной лишь этой культуре благоговением и задушевностью созерцания – как наделенный чувством исторического, оглядывающийся на отдаленные миры, стремящийся вдаль человек (он был первым, предпринявшим восхождение на одну из альпийских вершин[8 - На Монт-Венту недалеко от Авиньона.]), бывший по существу чужим в своей собственной эпохе. Душу собирателя можно понять только в связи с его отношением к времени. Быть может, еще больше страсти заключает в себе китайская страсть к собирательству, однако она имеет иную окрашенность. Тому, кто пускается в путь в Китае, желательно проследить «древние следы», ку-ци, и только на основании глубокого исторического чувства следует толковать недоступное переводу фундаментальное понятие китайского существа, дао[8 - См. сноску 699.]. Все же, что, напротив того, повсюду собирали в эллинистическую эпоху, было достопримечательностями, наделенными мифической притягательностью, как описывает их Павсаний, и в их случае строго исторические «когда» и «почему» вообще не принимались во внимание, между тем как египетский ландшафт уже во времена великого Тутмоса превратился в один исполинский музей со строгими традициями.
Это немцы – среди народов Запада – изобрели механические часы, наглядный символ бегущего времени, и их бой, раздающийся днем и ночью с бесчисленных башен по всей Западной Европе, является, быть может, самым величественным выражением, на которое вообще способно историческое мироощущение[9 - Ок. 1000 г., т. е. с появлением романского стиля и в начале движения крестоносцев, первых проявлений новой души, монах Герберт (папа Сильвестр II), друг императора Оттона III, изобрел конструкцию часов с боем и колесных часов. Ок. 1200 г. также в Германии появились первые башенные часы, а несколько позже – карманные часы. Следует обратить внимание на весьма значительную связь измерения времени с культовым зданием.]. Среди вневременных античных ландшафтов и городов мы ни с чем подобным не столкнемся. Вплоть до Перикла время дня оценивали лишь по длине отбрасываемой тени и лишь начиная с Аристотеля слово ??? приобретает значение «час» (вавилонское). А прежде того никакого точного подразделения дня вообще не существовало. В Вавилоне и Египте водяные и солнечные часы были изобретены в древнейшую эпоху, однако только Платон ввел в Афинах действительно пригодную к использованию в качестве часов форму клепсидры, а еще позднее были заимствованы солнечные часы – лишь как малозначительная повседневная утварь, без того чтобы это хоть в малейшей степени повлияло на античное жизнечувствование.
Здесь следует еще упомянуть соответствующее, весьма глубокое и никогда в достаточной степени не оцененное различие между античной и западной математикой. Античное числовое мышление ухватывает вещи такими, каковы они есть, как величины, во вневременном и чисто современном смысле. Это привело к евклидовой геометрии, математической статике и завершению духовной системы учением о конических сечениях. Мы же постигаем вещи такими, какими они становятся, как они себя ведут, в качестве функций. Это привело к динамике, к аналитической геометрии, а от нее – к дифференциальному исчислению[10 - У Ньютона оно называется, что весьма характерно, исчислением флуксий – с учетом определенных метафизических представлений о сущности времени. В греческой математике время вообще не встречается.]. Современная теория функций представляет собой исполинское упорядочение всей этой массы идей. Поразительный, но находящий строгое душевное обоснование факт: греческая физика (как статика в противоположность динамике) не знает употребления часов и нисколько от этого не страдает, всецело абстрагируясь от измерений времени, между тем как мы оперируем тысячными долями секунды. Аристотелевская энтелехия – вот единственное вневременное (т. е. неисторическое) понятие развития, которое вообще существует.
Тем самым наша задача определена. Мы, люди западноевропейской культуры, с нашим чувством исторического, являемся исключением, а не правилом, всемирная история – это наша картина мира, а вовсе не всего «человечества». Для индийского и античного человека никакой картины становящегося мира не существовало, и, быть может, когда западная цивилизация однажды угаснет, уже никогда больше не будет культуры, а значит, и человеческого типа, для которого такой мощной формой бодрствования была бы «всемирная история».
6
И кстати – что такое всемирная история? Упорядоченное представление прошедшего, внутренний постулат, выражение чувства формы – все это так. Однако определенное лишь таким образом чувство вовсе не является действительной формой, и насколько несомненно то, что все мы ощущаем всемирную историю, переживаем ее, полагаем, что с величайшей уверенностью обозреваем ее облик, настолько же несомненно и то, что еще и сегодня нам знакомы лишь ее формы, но не та единственная форма, верный слепок нашей внутренней жизни.
Разумеется, всякий, если его об этом спросить, будет убежден, что он отчетливо и ясно прозревает внутреннюю форму истории. Эта иллюзия основана на том, что никто всерьез над этим не задумывался и люди не особенно склонны сомневаться в своем знании именно потому, что никто и не догадывается о том, в чем здесь вообще можно сомневаться. Действительно, образ всемирной истории представляет собой не подлежащее проверке духовное достояние, передававшееся по наследству из поколения в поколение, в том числе и среди профессиональных историков, так что чего здесь в высшей степени недостает, так это небольшой доли скептицизма, который со временем Галилея расчленил и углубил прирожденную нам картину природы.
«Древний мир – Средние века – Новое время»: вот в высшей степени сомнительная и лишенная смысла схема, безоговорочное господство которой над нашим историческим мышлением извечно мешало нам правильно и по достоинству оценить положение той малой части мира, которая со времен германских императоров развивается на территории Западной Европы, в ее соотнесенности с общей историей высшего человечества, – оценить ее прежде всего по ее значимости, по образу, по продолжительности существования. Будущим культурам представится весьма сомнительным то, что этот наш эскиз с его упрощенным прямолинейным течением, его бессмысленными пропорциями, становящимися все более невозможными от века к веку и не допускающими естественного включения в себя областей, заново открывающихся свету нашего исторического сознания, все же так ни разу и не подвергся серьезной перетряске на предмет своей законности. Потому что никакого значения не имеет то, что у историков уже давно вошло в привычку выдвигать против этой схемы возражения. Тем самым они лишь затушевывали единственный имеющийся в наличии набросок, его не заменяя. Можно сколько угодно рассуждать о греческом Средневековье и германской древности, все равно это не дает нам отчетливой и внутренне необходимой картины, в которой собственное органическое место отыскалось бы для Китая и Мексики, Аксумского царства и Сасанидов. Также и перемещение точки отсчета «Нового времени» с Крестовых походов на Возрождение, а оттуда – на начало XIX в. доказывает лишь то, что саму схему продолжают считать неколебимой.
Это сокращает охват истории, однако еще хуже то, что это суживает и ее сцену. Ландшафт Западной Европы[11 - На историка здесь также оказывает влияние роковой географический предрассудок (чтобы не сказать вызванная географической картой суггестия), принимающий в расчет лишь одну часть света – Европу, в силу которого он чувствует себя обязанным осуществить также и соответствующее идеальное отграничение от Азии. Слово «Европа» вообще следовало бы вычеркнуть из истории. Никакого «европейца» как исторического типа не существует. В высшей степени глупо рассуждать о «европейской древности» в связи с греками (Гомер, Гераклит и Пифагор были в таком случае «азиатами»?), как и об их «миссии» по культурному сближению Азии с Европой. Все это слова, происходящие из поверхностного истолкования географической карты, и в действительности им ничего не соответствует. Лишь слово «Европа» с пребывающей под его влиянием совокупностью идей связало в нашем историческом сознании Россию с Западом в одно ничем не оправданное единство. Здесь, среди воспитанной на книгах читательской культуры, чистой воды абстракция привела к колоссальным последствиям в реальности. Эти читатели в лице Петра Великого на столетия подменили историческую тенденцию примитивной народной массы, притом что русский инстинкт справедливо и глубоко – с нашедшей свое воплощение в Толстом, Аксакове и Достоевском враждебностью – отграничивает «Европу» от «матушки России». Запад и Восток – понятия, наделенные подлинным историческим содержанием. «Европа» – пустой звук. Все великое, что произвела на свет античность, возникло под знаком отрицания этой континентальной границы между Римом и Кипром, Византией и Александрией. Все, что называется европейской культурой, возникло между Вислой, Адриатикой и Гвадалквивиром. И если мы примем, что во времена Перикла Греция «располагалась в Европе», теперь она там больше не находится.] образует здесь покоящуюся ось (выражаясь математически, сингулярную точку на поверхности шара), причем ответа на вопрос, почему это так, не знает никто, если только не считать основанием для этого тот факт, что мы, авторы этой картины истории, здесь-то и обитаем, и вокруг этой оси со всей возможной скромностью обращаются тысячелетия исполинской истории и расположенные вдали колоссальные культуры. Вот уж действительно своеобразно измышленная планетная система. Один-единственный ландшафт был избран в качестве естественной срединной точки одной исторической системы. Вот центральное светило. Исходя из него все события истории предстают в подлинном свете. Исходя из этого пункта происходит оценка их значимости – в перспективном изображении. Однако на самом деле здесь заявляет о себе необузданное никаким скептицизмом тщеславие западноевропейского человека, в уме которого и развертывается этот фантом – «всемирная история». Это его следует нам благодарить за сделавшийся уже давно привычным грандиозный оптический обман, в соответствии с которым насчитывающая тысячелетия, но находящаяся на отдалении история таких областей, как Китай и Египет, съеживается до незначительного эпизода, между тем как вблизи собственного местоположения со времен Лютера и особенно Наполеона десятилетия раздуваются как на дрожжах. Нам известно: это лишь иллюзия, что облако летит тем медленнее, чем выше оно находится, и движущийся за дальним лесом поезд лишь отсюда представляется едва ползущим, однако мы убеждены, что темп ранних индийской, вавилонской, египетской культур на самом деле был замедленным в сравнении с нашим недавним прошлым. Нам кажется, что их субстанция пожиже, их формы притуплены и разбросаны, потому что мы не научились принимать в расчет внутреннее и внешнее отдаление.
То, что для культуры Запада существование Афин, Флоренции и Парижа гораздо важнее, чем существование Лояна и Паталипутры, понятно само собой. Однако следует ли ценностные оценки такого рода класть в основание схемы всемирной истории? Тогда бы оказался прав и китайский историк, наметивший такую всемирную историю, в которой Крестовые походы и Возрождение, Цезарь и Фридрих Великий были бы обойдены молчанием как нечто малозначительное. Почему, если рассматривать с точки зрения морфологии, XVIII в. должен оказаться важнее, чем шестьдесят ему предшествовавших? Не смешно ли «Новое время», охватывающее несколько столетий, да еще и протекающее по преимуществу в Европе, противопоставлять обнимающей столько же тысячелетий «Древности», в которую скопом, без попытки глубокого расчленения, в качестве довеска включены все без исключения догреческие культуры? Не разделались ли мы с Египтом и Вавилоном как с некоей прелюдией античности лишь для того, чтобы спасти устарелую схему, между тем как история каждого из них по отдельности с многократным запасом перевешивает эту самую иллюзорную «всемирную историю» от Карла Великого до мировой войны? Могучие же комплексы индийской и китайской культур мы со смущением на лицах отнесли в примечание, между тем как великие американские культуры вообще проигнорировали – потому, мол, что у них отсутствует «связь» (с чем же это?).
Я называю эту имеющую хождение между нынешними западноевропейцами схему, в которой высшие культуры прочерчивают свой путь вокруг нас как мнимой срединной точки всех событий в мире, Птолемеевой системой истории, и я рассматриваю в качестве коперниканского открытия в области истории то, что в настоящей книге на ее место заступает такая система, в которой античность и Запад занимают свое никоим образом не привилегированное место наряду с Индией, Вавилоном, Китаем, Египтом, арабской и мексиканской культурой, этими отдельными мирами становления, чья весомость в общей картине истории ничуть не меньше, а по величественности душевной конституции, по мощи взлета они намного превосходят античность.
7
Схема «Древний мир – Средневековье – Новое время» была по первому своему замыслу порождением магического мирочувствования, впервые возникшего в персидской и иудейской религиях со времени Кира[12 - Ср. с. 525, 748 слл.]; в учении Книги Даниила о четырех мировых эпохах ей было придано апокалиптическое звучание, а в послехристианских религиях Востока, прежде всего в гностических системах[13 - Windelband, Gesch. d. Phil. (1900). S. 275 ff.], она получила вид всемирной истории.
В пределах чрезвычайно узких рамок, которые образуют духовные предпосылки этой выдающейся концепции, она всецело справедлива. Ни индийская, ни даже египетская история не попадают здесь в поле зрения. В устах этих мыслителей слова «всемирная история» означают разовый, в высшей степени драматический акт, разыгрывавшийся на пространстве между Грецией и Персией. В этом находит выражение строго дуалистическое мироощущение уроженцев Востока, причем не полярное, как то было в тогдашней метафизике с ее противоположностью души и духа, добра и зла, а периодическое[14 - В Новом Завете полярная точка зрения представлена по преимуществу диалектикой апостола Павла, периодическая – Апокалипсисом.], рассматриваемое как катастрофа, как смена двух временны?х эпох между сотворением мира и его гибелью, и это в отвлечении от всех моментов, которые не были зафиксированы, с одной стороны, в античной литературе, а с другой – в Библии или в той священной книге, которая занимала в соответствующей системе ее место. В этой картине мира в качестве «Древности» и «Нового времени» является очевидная на тот момент противоположность языческого и иудейского или христианского, античного и восточного, статуи и догмата, природы и духа во временно?м аспекте, как драма преодоления одного другим. Исторический переход несет на себе религиозные черты спасения. Несомненно, это – основанная всецело на провинциальных воззрениях, однако логичная и завершенная точка зрения, однако она привязана к данному ландшафту и данной человеческой породе и не была способна ни к какому естественному расширению.
Лишь в результате прибавления на западноевропейской почве третьей эпохи – нашего «Нового времени» – в картину оказался привнесенным момент движения. Восточная картина была покоящейся, замкнутой, закосневшей в равновесии антитезой, с единоразовым божественным действием в качестве среднего элемента. Перенятая и усвоенная людьми совершенно иного рода, теперь она внезапно, без того чтобы кто-либо отдал себе отчет в нелепости такой перемены, оказалась продолженной в виде линии, которая тянется вверх или вниз – это смотря по персональному вкусу историка, мыслителя или художника, с неограниченной свободой интерпретировавшего трехчленную картину – от Гомера или Адама (возможность выбора обогатилась ныне индогерманцами, каменным веком и обезьянолюдьми) через Иерусалим, Рим, Флоренцию и Париж.
Таким образом, к дополнявшим друг друга понятиям язычества и христианства прибавили завершающее «Новое время», которое по своему смыслу не допускает продолжения процесса и после того, как неоднократно «продлевалось» со времени Крестовых походов, представляется теперь уже неспособным к дальнейшему удлинению[15 - В этом можно убедиться по продиктованному отчаянием и смехотворному выражению «Новейшая история».]. Бытовало не высказанное в явной форме убеждение, что здесь, по другую сторону древности и Средневековья, начинается нечто окончательное, третье царство, в котором каким-то образом имеет место исполнение, высшая точка, цель, открытие которой всякий – от схоластиков до социалистов наших дней – приписывает лишь себе одному. Итак, то было прозрение в ход вещей – сколь покойное, столь же и лестное для того, кто его совершал. Произошло просто-напросто приравнивание западного духа, как он отображался в уме отдельного человека, к смыслу всего мира. Великие мыслители обратили духовную нужду в метафизическую добродетель, когда возвысили до основания философии освященную consensus omnium [всеобщим согласием (лат.)] схему, не подвергнув ее серьезной критике, и утруждали Бога в качестве автора того или иного измышленного ими «мирового замысла». И без того уже мистическая троичность несла в себе некий соблазн для метафизического вкуса. Гердер назвал историю воспитанием рода человеческого, Кант – развитием понятия свободы, Гегель – самораскрытием мирового духа, прочие – по-иному. Однако тот, кто вкладывал в данную как факт троичность эпох абстрактный смысл, полагал, что в достаточной степени поразмыслил насчет основных форм истории.
Уже на рубеже западной культуры является великий Иоахим Флорский († 1202)[16 - Burdach К. Reformation, Renaissance, Humanismus (1918). S. 48 ff.], первый мыслитель гегелевского чекана, который камня на камне не оставил от дуалистической картины мира Августина и в полном соответствии с ощущениями подлинного человека готики противопоставил христианство своего времени, как нечто третье, – религии Ветхого и Нового Заветов: эпоха Отца, Сына и Св. Духа. Он внес смятение в души лучших францисканцев, доминиканцев, Данте и Фомы Аквинского и вызвал к жизни такое воззрение на мир, которое неспешно овладело всем историческим мышлением нашей культуры. Лессинг, который нередко запросто называл собственное время по отношению к античности ее отпрыском[17 - Выражение «древние», в дуалистическом смысле, встречается уже во «Введении» Порфирия (ок. 300 по Р. X.).], заимствовал идеи для «Воспитания человеческого рода» (со стадиями: ребенок, юноша и мужчина) из учений мистиков XIV в., а Ибсен, основательно рассмотревший это воззрение в драме «Кесарь и Галилеянин» (где в образе волшебника Максима мы наталкиваемся непосредственно на гностическое миромышление), так и не двинулся ни на шаг дальше в своей известной Стокгольмской речи 1887 г. Очевидно, такова потребность западного самоощущения: провозглашать при своем появлении некоего рода завершение и конец.
Однако творение аббата из Фьоре было мистическим взглядом в тайны божественного миропорядка. При рассудочном его восприятии, когда его превратили в предпосылку научного мышления, оно должно было лишиться всякого смысла, что и происходило во всевозрастающих масштабах начиная с XVII в. Однако это – абсолютно несостоятельный метод истолкования всемирной истории, когда кто-либо дает волю своим политическим, религиозным или общественным убеждениям и придает все тем же трем эпохам, посягнуть на которые не отваживается, то направление, что ведет как раз к той позиции, которую занимает он сам и, смотря по ней, прикладывает господство разума, гуманизм, счастье большинства, экономический прогресс, просвещение, свободу народов, покорение природы, мир во всем мире и тому подобное в качестве меры к тысячелетиям, относительно которых доказано, что они не постигли или не достигли правды, а на самом деле желали чего-то иного, нежели мы. «Очевидно, в жизни важна жизнь, а не ее результат»[9 - Goethe J. W. Werke. Berlin, Aufbau-Verlag, 1970. Bd. 17. S. 583. («Предисловие к немецкому Жиль Блазу», цитируется О. Шпенглером по памяти.) Ср.: Goethe J. W. Werke. Weimarer Ausgabe. 4. Abt. Bd. 11. S. 22 (Письмо И. г. Майеру от 8 февраля 1796 г.).] – вот слова Гёте, которые следовало бы противопоставить всем дурацким попыткам разгадать тайну исторической формы при помощи программы.
Подобную же картину рисуют и историки всякого отдельного искусства и отдельной науки, политической экономии и философии. Мы наталкиваемся здесь на то, что живопись «вообще», от Египта (или от пещерного человека) до импрессионизма, музыка «вообще», от слепого певца Гомера и до Байрейта, общественное устройство «вообще», от обитателей свайных построек до социализма, воспринимаются как свершающийся по единой линии подъем, без того чтобы принять во внимание возможность того, что у искусств – отмеренный им срок жизни, что они привязаны к одному ландшафту и определенному типу людей, как их выражение, и что поэтому эти общие истории являются всего лишь результатом механического суммирования некоторого числа единичных развитий, отдельных искусств, у которых общее лишь название и кое-что из ремесленной техники исполнения.
Относительно всякого организма нам известно, что темп, облик и продолжительность его жизни и всякого его единичного жизненного проявления определяются особенностями вида, к которому он принадлежит. Никто не предполагает относительно тысячелетнего дуба, что вот сейчас-то он и начнет развиваться. Никто не ждет от гусеницы, наблюдая за ее ежедневным ростом, что, быть может, это продлится еще пару лет. Всякому здесь дано наделенное безусловной несомненностью ощущение рубежа, тождественное с чувством внутренней формы. По отношению же к истории высшего человечества господствует безбрежный, презирающий всякий исторический, а значит, и органический опыт оптимизм в отношении хода будущего, так что всякий в случайном настоящем усматривает «задатки» некоего особо выдающегося линеарного «дальнейшего развития» – не потому, что оно научно доказано, а потому, что он такого развития желает. Здесь принимаются в расчет только безграничные возможности и никогда – естественный конец, и на основании положения в каждый отдельный миг выстраивается исполненная наивности конструкция продолжения.
Однако у «человечества как такового» нет никакой цели, никакой идеи, никакого плана, как нет цели у вида бабочек или орхидей. «Человечество в целом» – это лишь зоологическое понятие или звук пустой[18 - «Человечество? Это абстракция. Извечно существовали одни только люди, и будут существовать только люди» (Гёте – Лудену)[706 - Беседа с Генрихом Луденом (1780–1847), профессором философии и истории в Йене с 1806 г., от 19 августа 1806 г. (см.: Goethes Gespr?che. Hrsg. von W. von Biedermann. Leipzig, 1889–1896. Bd. 2. S. 82).].]. Изгоните этот призрак из круга проблем исторической формы – и вы увидите, как на сцену явится ошеломляющее богатство форм действительных. Вот где неизмеримая полнота, глубина и подвижность живого, которая скрывалась доныне под лозунгом, под сухой схемой, под личными «идеалами». Взамен этой унылой картины линиеобразной всемирной истории, которая может сохранять свою действительность, лишь пока мы закрываем глаза на подавляющее множество фактов, я вижу драму с участием множества могучих культур, с первозданной мощью расцветающих на лоне материнского ландшафта, с которым каждая из них нерушимо связана на всем протяжении своего существования, и каждая из них напечатлевает на своем материале, человечестве, свою собственную форму, и у каждой – собственная идея, собственные страсти, собственные жизнь, воля, чувствования и собственная смерть. Мы встретим здесь цвета, лучи и движения, которые не открывались до сих пор ни одному духовному взору. Бывают расцветающие и стареющие культуры, народы, языки, истины, боги, ландшафты, подобно тому как бывают молодые и старые дубы и пинии, цветы, ветви и листья, однако никакого стареющего «человечества» нет в природе. Всякая культура располагает своими новыми возможностями выражения, которые появляются, зреют и увядают, никогда больше не повторяясь. Существует много в глубинном существе друг с другом не связанных живописей и ваяний, математик и физик, и всякая из них имеет ограниченную продолжительность жизни, всякая замкнута в самой себе, подобно тому как имеет свои собственные цветы и плоды, собственный тип роста и гибели всякий вид растений. Эти культуры, живые существа высшего порядка, вырастают в возвышенной бесцельности, подобно полевым цветам. Как и растения с животными, они относятся к живой природе Гёте, а не к мертвой природе Ньютона. Во всемирной истории я усматриваю картину постоянного образования и преобразования, восхитительного становления и гибели органических форм. Ремесленному же историку она представляется глистой, неустанно вычленяющей из себя все новые эпохи.
Между тем ряд «Древний мир – Средневековье – Новое время» наконец-то утратил свою действенность. При всей своей угловатой узости и плоскости как научного фундамента все же он представлял собой единственную не вовсе лишенную философского основания формулировку, которой мы располагали для систематизации наших результатов, и все, что удалось до сих пор упорядочить как всемирную историю, обязано своим небогатым содержанием именно ей. Однако число столетий, которые в самом благоприятном случае могла удерживать воедино данная схема, уже давно достигнуто. По мере стремительного роста исторического материала, и в первую очередь такого, который находится всецело за пределами данного порядка, картина начинает распадаться в необозримый хаос. Это видит и чувствует всякий не вовсе лишенный зрения историк, и он любой ценой держится за единственную известную ему схему лишь для того, чтобы как-то удержаться на плаву. Слову «Средневековье»[19 - «Средневековье» – это история области, в которой господствовал латинский – церковный и ученый – язык. Исполинские судьбы восточного христианства, задолго до Бонифация продвинувшегося через Туркестан до Китая и через Сабу до Абиссинии, не принимаются этой «всемирной историей» в расчет.], изобретенному в 1667 г. проф. Горном в Лейдене, приходится ныне покрывать собой бесформенную, постоянно распространяющуюся вширь массу всего того, что чисто негативным образом ни под каким предлогом не может быть причислено к двум другим, кое-как упорядоченным группам. Примерами этого является неуверенность процедур и оценок в отношении новоперсидской, арабской и русской истории. Прежде всего больше нет возможности замалчивать то обстоятельство, что эта якобы история мира на самом деле поначалу ограничивалась областью Восточного Средиземноморья, впоследствии же, начиная с переселения народов (важного лишь для нас одних и потому сильно переоцениваемого события, которое значимо только для Запада и никак не затрагивает уже арабскую культуру) имеет место внезапная смена места действия и эта история мира ограничивается уже средней частью Западной Европы. Гегель простодушно заявлял, что будет игнорировать те народы, которые не укладываются в его систему истории. Однако то было лишь честное признание в отношении методических предпосылок, без которых ни один историк и не достигал своей цели. На этом можно проводить проверку состоятельности целых томов по истории. В самом деле, теперь это уже вопрос научного такта: какие исторические явления честно принимаются в расчет, а какие – нет. Хорошим примером здесь может служить Ранке.