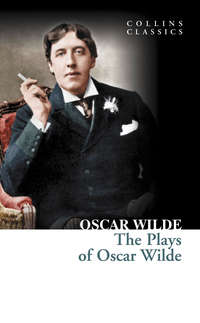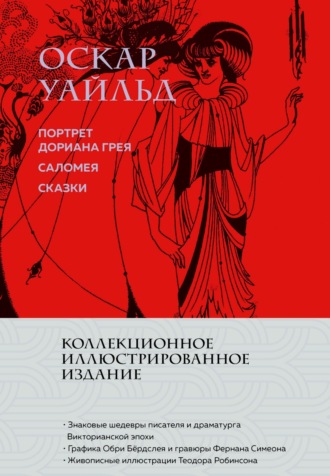
Портрет Дориана Грея. Саломея. Сказки
Лорд Генри расхохотался.
– Все мы готовы верить в других по той простой причине, что боимся за себя. В основе оптимизма лежит чистейший страх. Мы приписываем нашим ближним те добродетели, из которых можем извлечь выгоду для себя, и воображаем, что делаем это из великодушия. Хвалим банкира, потому что хочется верить, что он увеличит нам кредит в своём банке, и находим хорошие черты даже у разбойника с большой дороги в надежде, что он пощадит наши карманы. Поверь, Бэзил, всё, что я говорю, я говорю вполне серьёзно. Больше всего на свете я презираю оптимизм… Ты боишься, что жизнь Дориана будет разбита, а по-моему, разбитой можно считать лишь ту жизнь, которая остановилась в своём развитии. Исправлять и переделывать человеческую натуру – значит только портить её. Ну а что касается женитьбы Дориана… Конечно, это глупость. Но есть иные, более интересные формы близости между мужчиной и женщиной. И я неизменно поощряю их… А вот и сам Дориан! От него ты узнаешь больше, чем от меня.
– Гарри, Бэзил, дорогие мои, можете меня поздравить! – сказал Дориан, сбросив подбитый шёлком плащ и пожимая руки друзьям. – Никогда ещё я не был так счастлив. Разумеется, всё это довольно неожиданно, как неожиданны все чудеса в жизни. Но, мне кажется, я всегда искал и ждал именно этого.
Он порозовел от волнения и радости и был в эту минуту удивительно красив.
– Желаю вам большого счастья на всю жизнь, Дориан, – сказал Холлуорд. – А почему же вы не сообщили мне о своей помолвке? Это непростительно. Ведь Гарри вы известили.
– А ещё непростительнее то, что вы опоздали к обеду, – вмешался лорд Генри, с улыбкой положив руку на плечо Дориана. – Ну, давайте сядем за стол и посмотрим, каков новый здешний шеф-повар. И потом вы нам расскажете всё по порядку.
– Да тут и рассказывать почти нечего, – отозвался Дориан, когда они уселись за небольшой круглый стол. – Вот как всё вышло: вчера вечером, уйдя от вас, Гарри, я переоделся, пообедал в том итальянском ресторанчике на Руперт-стрит, куда вы меня водили, а в восемь часов отправился в театр. Сибила играла Розалинду. Декорации были, конечно, ужасные, Орландо просто смешон. Но Сибила! Ах, если бы вы её видели! В костюме мальчика она просто загляденье. На ней была зелёная бархатная куртка с рукавами цвета корицы, коричневые короткие штаны, плотно обтягивавшие ноги, изящная зелёная шапочка с соколиным пером, прикреплённым блестящей пряжкой, и плащ с капюшоном на тёмно-красной подкладке. Никогда ещё она не казалась мне такой прелестной! Своей хрупкой грацией она напоминала танагрскую статуэтку[41], которую я видел у вас в студии, Бэзил. Волосы обрамляли её личико, как тёмные листья – бледную розу. А её игра… ну, да вы сами сегодня увидите. Она просто рождена для сцены. Я сидел в убогой ложе совершенно очарованный. Забыл, что я в Лондоне, что у нас теперь девятнадцатый век. Я был с моей возлюбленной далеко, в дремучем лесу, где не ступала нога человека… После спектакля я пошёл за кулисы и говорил с нею. Мы сидели рядом, и вдруг в её глазах я увидел выражение, какого никогда не замечал раньше. Губы мои нашли её губы. Мы поцеловались… Не могу вам передать, что я чувствовал в этот миг. Казалось, вся моя жизнь сосредоточилась в этой чудесной минуте. Сибила вся трепетала, как белый нарцисс на стебле… И вдруг опустилась на колени и стала целовать мои руки. Знаю, мне не следовало бы рассказывать вам всё это, но я не могу удержаться… Помолвка наша, разумеется, – строжайший секрет, Сибила даже матери ничего не сказала. Не знаю, что запоют мои опекуны. Лорд Рэдли, наверно, ужасно разгневается. Пусть сердится, мне всё равно! Меньше чем через год я буду совершеннолетний и смогу делать что хочу. Ну, скажите, Бэзил, разве не прекрасно, что любить меня научила поэзия, что жену я нашёл в драмах Шекспира? Губы, которые Шекспир учил говорить, прошептали мне на ухо свою тайну. Меня обнимали руки Розалинды, и я целовал Джульетту.
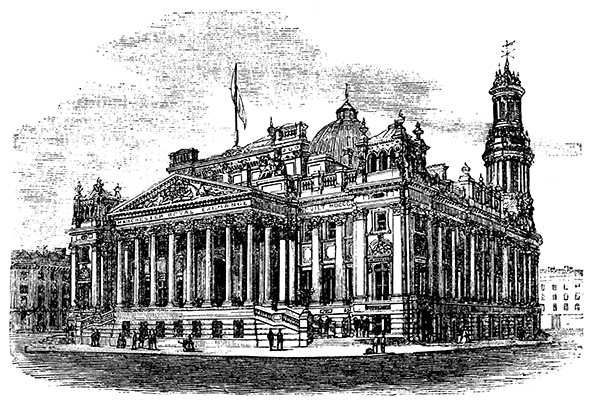
– Да, Дориан, мне кажется, вы правы, – с расстановкой отозвался Холлуорд.
– А сегодня вы с ней виделись? – спросил лорд Генри.
Дориан Грей покачал головой.
– Я оставил её в Арденнских лесах – и встречу снова в одном из садов Вероны.
Лорд Генри в задумчивости отхлебнул глоток шампанского.
– А когда же именно вы заговорили с нею о браке, Дориан? И что она ответила? Или вы уже не помните?
– Дорогой мой, я не делал ей официального предложения, потому что для меня это был не деловой разговор. Я сказал, что люблю её, а она ответила, что недостойна быть моей женой. Недостойна! Господи, да для меня весь мир – ничто в сравнении с ней!
– Женщины в высшей степени практичный народ, – пробормотал лорд Генри. – Они много практичнее нас. Мужчина в такие моменты частенько забывает поговорить о браке, а женщина всегда помнит об этом…
Холлуорд жестом остановил его:
– Перестань, Гарри, ты обижаешь Дориана. Он не такой, как другие, он слишком благороден, чтобы сделать женщину несчастной.
Лорд Генри посмотрел через стол на Дориана.
– Дориан на меня никогда не сердится, – возразил он. – Я задал ему этот вопрос из самого лучшего побуждения, единственного, которое оправдывает какие бы то ни было вопросы: из простого любопытства. Хотел проверить своё наблюдение, что обычно не мужчина женщине, а она ему делает предложение. Только в буржуазных кругах бывает иначе. Но буржуазия ведь отстала от века.
Дориан Грей рассмеялся и покачал головой:
– Вы неисправимы, Гарри, но сердиться на вас невозможно. Когда увидите Сибилу Вэйн, вы поймёте, что обидеть её способен только негодяй, человек без сердца. Я не понимаю, как можно позорить ту, кого любишь. Я люблю Сибилу – и хотел бы поставить её на золотой пьедестал, видеть весь мир у ног моей любимой. Что такое брак? Нерушимый обет. Вам это смешно? Не смейтесь, Гарри! Именно такой обет хочу я дать. Доверие Сибилы обязывает меня быть честным, её вера в меня делает меня лучше! Когда Сибила со мной, я стыжусь всего того, чему вы, Гарри, научили меня, и становлюсь совсем другим. Да, при одном прикосновении её руки я забываю вас и ваши увлекательные, но отравляющие и неверные теории.
– Какие именно? – спросил лорд Генри, принимаясь за салат.
– Ну, о жизни, о любви, о наслаждении. Вообще все ваши теории, Гарри.
– Единственное, что стоит возвести в теорию, это наслаждение, – медленно произнёс лорд Генри своим мелодичным голосом. – Но, к сожалению, теорию наслаждения я не вправе приписывать себе. Автор её не я, а Природа. Наслаждение – тот пробный камень, которым она испытывает человека, и знак её благословения. Когда человек счастлив, он всегда хорош. Но не всегда хорошие люди бывают счастливы.
– А кого ты называешь хорошим? – воскликнул Бэзил Холлуорд.
– Да, – подхватил и Дориан, откинувшись на спинку стула и глядя на лорда Генри поверх пышного букета пурпурных ирисов, стоявшего посреди стола. – Кто, по-вашему, хорош, Гарри?
– Быть хорошим – значит жить в согласии с самим собой, – пояснил лорд Генри, обхватив ножку бокала тонкими белыми пальцами. – А кто принуждён жить в согласии с другими, тот бывает в разладе с самим собой. Своя жизнь – вот что самое главное. Филистеры или пуритане могут, если им угодно, навязывать другим свои нравственные правила, но я утверждаю, что вмешиваться в жизнь наших ближних – вовсе не наше дело. Притом у индивидуализма, несомненно, более высокие цели. Современная мораль требует от нас, чтобы мы разделяли общепринятые понятия своей эпохи. Я же полагаю, что культурному человеку покорно принимать мерило своего времени ни в коем случае не следует, – это грубейшая форма безнравственности.
– Но согласись, Гарри, жизнь только для себя покупается слишком дорогой ценой, – заметил художник.
– Да, в нынешние времена за всё приходится платить слишком дорого. Пожалуй, трагедия бедняков – в том, что только самоотречение им по средствам. Красивые грехи, как и красивые вещи, – привилегия богатых.
– За жизнь для себя расплачиваешься не деньгами, а другим.
– Чем же ещё, Бэзил?
– Ну, мне кажется, угрызениями совести, страданиями… сознанием своего морального падения.
Лорд Генри пожал плечами.
– Милый мой, средневековое искусство великолепно, но средневековые чувства и представления устарели. Конечно, для литературы они годятся, – но ведь для романа вообще годится только то, что в жизни уже вышло из употребления. Поверь, культурный человек никогда не раскаивается в том, что предавался наслаждениям, а человек некультурный не знает, что такое наслаждение.
– Я теперь знаю, что такое наслаждение, – воскликнул Дориан Грей. – Это – обожать кого-нибудь.
– Конечно, лучше обожать, чем быть предметом обожания, – отозвался лорд Генри, выбирая себе фрукты. – Терпеть чьё-то обожание – это скучно и тягостно. Женщины относятся к нам, мужчинам, так же, как человечество – к своим богам: они нам поклоняются – и надоедают, постоянно требуя чего-то.
– По-моему, они требуют лишь того, что первые дарят нам, – сказал Дориан тихо и серьёзно. – Они пробуждают в нас Любовь и вправе ждать её от нас.
– Вот это совершенно верно, Дориан! – воскликнул Холлуорд.
– Есть ли что абсолютно верное на свете? – возразил лорд Генри.
– Да, есть, Гарри, – сказал Дориан Грей. – Вы же не станете отрицать, что женщины отдают мужчинам самое драгоценное в жизни.
– Возможно, – согласился лорд Генри со вздохом. – Но они неизменно требуют его обратно – и всё самой мелкой монетой. В том-то и горе! Как сказал один остроумный француз, женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить.
– Гарри, вы несносный циник. Право, не понимаю, за что я вас так люблю!
– Вы всегда будете меня любить, Дориан… Кофе хотите, друзья?.. Принесите нам кофе, fine-champagne[42] и папиросы… Впрочем, папирос не нужно: у меня есть, Бэзил, я не дам тебе курить сигары, возьми папиросу! Папиросы – это совершеннейший вид высшего наслаждения, тонкого и острого, но оставляющего нас неудовлетворёнными. Чего ещё желать?.. Да, Дориан, вы всегда будете любить меня. В ваших глазах я – воплощение всех грехов, которые у вас не хватает смелости совершить.
– Вздор вы говорите, Гарри! – воскликнул молодой человек, зажигая папиросу от серебряного огнедышащего дракона, которого лакей поставил на стол. – Едемте-ка лучше в театр. Когда вы увидите Сибилу на сцене, жизнь представится вам совсем иной. Она откроет вам нечто такое, чего вы не знали до сих пор.
– Я всё изведал и узнал, – возразил лорд Генри, и глаза его приняли усталое выражение. – Я всегда рад новым впечатлениям, боюсь, однако, что мне уже их ждать нечего. Впрочем, быть может, ваша чудо-девушка и расшевелит меня. Я люблю сцену, на ней всё гораздо правдивее, чем в жизни! Едем! Дориан, вы со мной. Мне очень жаль, Бэзил, что в моём кабриолете могут поместиться только двое. Вам придётся ехать за нами в кебе.
Они встали из-за стола и, надев пальто, допили кофе стоя. Художник был молчалив и рассеян, им овладело уныние. Не по душе ему был этот брак, хотя он понимал, что с Дорианом могло случиться многое похуже.
Через несколько минут все трое сошли вниз. Как было решено, Холлуорд ехал один за экипажем лорда Генри. Глядя на мерцавшие впереди фонари, он испытывал новое чувство утраты. Он понимал, что никогда больше Дориан Грей не будет для него тем, чем был. Жизнь встала между ними…
Глаза Холлуорда затуманились, и ярко освещённые людные улицы расплывались перед ним мутными пятнами. К тому времени, когда кеб подкатил к театру, художнику уже казалось, что он сегодня постарел на много лет.
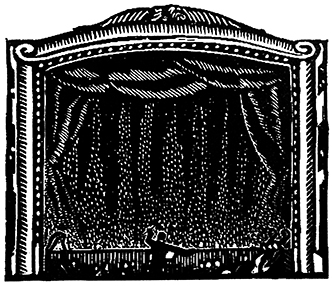
Глава VII

В этот вечер театр почему-то был полон, и толстый директор, встретивший Дориана и его друзей у входа, сиял и ухмылялся до ушей приторной, заискивающей улыбкой. Он проводил их в ложу весьма торжественно и подобострастно, жестикулируя пухлыми руками в перстнях и разглагольствуя во весь голос. Дориан наблюдал за ним с ещё большим отвращением, чем всегда, испытывая чувства влюблённого, который пришёл за Мирандой, а наткнулся на Калибана. Зато лорду Генри еврей, видимо, понравился. Так он, во всяком случае, объявил и непременно захотел пожать ему руку, уверив его, что гордится знакомством с человеком, который открыл подлинный талант и разорился из-за любви к поэту. Холлуорд рассматривал публику партера. Жара стояла удушающая, и большая люстра пылала, как гигантский георгин с огненными лепестками. На галёрке молодые люди, сняв пиджаки и жилеты, развесили их на барьере. Они переговаривались через весь зал и угощали апельсинами безвкусно разодетых девиц, сидевших с ними рядом. В партере громко хохотали какие-то женщины. Их визгливые голоса резали слух. Из буфета доносилось щёлканье пробок.
– И в таком месте вы нашли своё божество! – сказал лорд Генри.
– Да, – отозвался Дориан Грей. – Здесь я нашёл её, богиню среди простых смертных. Когда она играет, забываешь всё на свете. Это неотёсанное простонародье, люди с грубыми лицами и вульгарными манерами совершенно преображаются, когда она на сцене. Они сидят, затаив дыхание, и смотрят на неё. Они плачут и смеются по её воле. Она делает их чуткими, как скрипка, она их одухотворяет, и тогда я чувствую – это люди из той же плоти и крови, что и я.
– Из той же плоти и крови? Ну, надеюсь, что нет! – воскликнул лорд Генри, разглядывавший в бинокль публику на галёрке.
– Не слушайте его, Дориан, – сказал художник. – Я понимаю, что вы хотите сказать, и верю в эту девушку. Если вы её полюбили, значит, она хороша. И, конечно, девушка, которая так влияет на людей, обладает душой прекрасной и возвышенной. Облагораживать своё поколение – это немалая заслуга. Если ваша избранница способна вдохнуть душу в тех, кто до сих пор существовал без души, если она будит любовь к прекрасному в людях, чья жизнь грязна и безобразна, заставляет их отрешиться от эгоизма и проливать слёзы сострадания к чужому горю, – она достойна вашей любви, и мир должен преклоняться перед ней. Хорошо, что вы женитесь на ней. Я раньше был другого мнения, но теперь вижу, что это хорошо. Сибилу Вэйн боги создали для вас. Без неё жизнь ваша была бы неполна.
– Спасибо, Бэзил, – сказал Дориан Грей, пожимая ему руку. – Я знал, что вы меня поймёте. А Гарри просто в ужас меня приводит своим цинизмом… Ага, вот и оркестр! Он прескверный, но играет только каких-нибудь пять минут. Потом поднимется занавес, и вы увидите ту, которой я отдам всю жизнь, которой я уже отдал лучшее, что есть во мне.
Через четверть часа на сцену под гром рукоплесканий вышла Сибила Вэйн. Ею и в самом деле можно было залюбоваться, и даже лорд Генри сказал себе, что никогда ещё не видывал девушки очаровательнее. В её застенчивой грации и робком выражении глаз было что-то, напоминавшее молодую лань. Когда она увидела переполнявшую зал восторженную толпу, на щеках её вспыхнул лёгкий румянец, как тень розы в серебряном зеркале. Она отступила на несколько шагов, и губы её дрогнули. Бэзил Холлуорд вскочил и стал аплодировать. Дориан сидел неподвижно, как во сне, и не сводил с неё глаз. А лорд Генри всё смотрел в бинокль и бормотал: «Прелесть! Прелесть!»
Сцена представляла зал в доме Капулетти. Вошёл Ромео в одежде монаха, с ним Меркуцио и ещё несколько приятелей. Снова заиграл скверный оркестр, и начались танцы. В толпе неуклюжих и убого одетых актёров Сибила Вэйн казалась существом из другого, высшего мира. Когда она танцевала, стан её покачивался, как тростник над водой. Шея изгибом напоминала белоснежную лилию, а руки были словно выточены из слоновой кости.
Однако она оставалась до странности безучастной. Лицо её не выразило никакой радости, когда она увидела Ромео. И первые слова Джульетты:
Любезный пилигрим, ты строг чрезмерноК своей руке: лишь благочестье в ней.Есть руки у святых: их может, верно,Коснуться пилигрим рукой своей [43], —как и последовавшие за ними реплики во время короткого диалога, прозвучали фальшиво. Голос был дивный, но интонации совершенно неверные. И этот неверно взятый тон делал стихи неживыми, выраженное в них чувство – неискренним.
Дориан Грей смотрел, слушал – и лицо его становилось всё бледнее. Он был поражён, встревожен. Ни лорд Генри, ни Холлуорд не решались заговорить с ним. Сибила Вэйн казалась им совершенно бездарной, и они были крайне разочарованы.
Понимая, однако, что подлинный пробный камень для всякой актрисы, играющей Джульетту, – это сцена на балконе во втором акте, они выжидали. Если Сибиле и эта сцена не удастся, значит, у неё нет даже искры таланта.
Она была обворожительно хороша, когда появилась на балконе в лунном свете, – этого нельзя было отрицать. Но игра её была нестерпимо театральна – и чем дальше, тем хуже. Жесты были искусственны до нелепости, произносила она всё с преувеличенным пафосом. Великолепный монолог:
Моё лицо под маской ночи скрыто,Но всё оно пылает от стыдаЗа то, что ты подслушал нынче ночью, —она произнесла с неуклюжей старательностью ученицы, обученной каким-нибудь второразрядным учителем декламации. А когда, наклонясь через перила балкона, дошла до следующих дивных строк:
Нет, не клянись. Хоть радость ты моя,Но сговор наш ночной мне не на радость.Он слишком скор, внезапен, необдуман,Как молния, что исчезает раньше,Чем скажем мы: «Вот молния!» О милый,Спокойной ночи! Пусть росток любвиВ дыханье тёплом лета расцветётЦветком прекрасным в миг, когда мы сноваУвидимся… —она проговорила их так механически, словно смысл их не дошёл до неё. Этого нельзя было объяснить нервным волнением. Напротив, Сибила, казалось, вполне владела собой. Это была попросту очень плохая игра. Видимо, актриса была совершенно бездарна.
Даже некультурная публика задних рядов и галёрки утратила всякий интерес к тому, что происходило на сцене. Все зашумели, заговорили громко, послышались даже свистки. Еврей-антрепренёр, стоявший за скамьями балкона, топал ногами и яростно бранился. И только девушка на сцене оставалась ко всему безучастна.
Когда окончилось второе действие, в зале поднялась буря шиканья. Лорд Генри встал и надел пальто.
– Она очень красива, Дориан, – сказал он. – Но играть не умеет. Пойдёмте!
– Нет, я досижу до конца, – возразил Дориан резко и с горечью. – Мне очень совестно, что вы из-за меня потеряли вечер, Гарри. Прошу прощения у вас обоих.
– Дорогой мой, мисс Вэйн, наверное, сегодня нездорова, – перебил его Холлуорд. – Мы придём как-нибудь в другой раз.
– Хотел бы я думать, что она больна, – возразил Дориан. – Но вижу, что она просто холодна и бездушна. Она совершенно изменилась. Вчера ещё она была великой артисткой. А сегодня только самая заурядная средняя актриса.
– Не надо так говорить о любимой женщине, Дориан. Любовь выше искусства.
– И любовь, и искусство – только формы подражания, – сказал лорд Генри. – Ну, пойдёмте, Бэзил. И вам, Дориан, тоже не советую здесь оставаться. Смотреть плохую игру вредно для души… Наконец, вряд ли вы захотите, чтобы ваша жена оставалась актрисой, – так не всё ли вам равно, что она играет Джульетту, как деревянная кукла? Она очень мила. И если в жизни она понимает так же мало, как в искусстве, то более близкое знакомство с ней доставит вам много удовольствия. Только два сорта людей по-настоящему интересны – те, кто знает о жизни всё решительно, и те, кто ничего о ней не знает… Ради бога, дорогой мой мальчик, не принимайте этого так трагично! Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать волнений, от которых дурнеешь. Поедемте-ка со мной и Бэзилом в клуб! Мы будем курить и пить за Сибилу Вэйн. Она красавица. Чего вам ещё?
– Уходите, Гарри! – крикнул Дориан. – Я хочу побыть один. Бэзил, и вы уходите. Неужели вы не видите, что у меня сердце разрывается на части?
К глазам его подступили горячие слёзы, губы дрожали. Отойдя в глубь ложи, он прислонился к стене и закрыл лицо руками.
– Пойдём, Бэзил, – промолвил лорд Генри с неожиданной для него теплотой. И оба вышли из ложи.
Через несколько минут снова вспыхнули огни рампы, занавес поднялся, и началось третье действие. Дориан Грей вернулся на своё место. Он был бледен, и на лице его застыло выражение высокомерного равнодушия. Спектакль продолжался; казалось, ему не будет конца. Зал наполовину опустел, люди уходили, стуча тяжёлыми башмаками и пересмеиваясь. Провал был полный.
Последнее действие шло почти при пустом зале. Наконец занавес опустился под хихиканье и громкий ропот.
Как только окончился спектакль, Дориан Грей помчался за кулисы. Сибила стояла одна в своей уборной. Лицо её светилось торжеством, глаза ярко блестели, от неё словно исходило сияние. Полуоткрытые губы улыбались какой-то одной ей ведомой тайне.
Когда вошёл Дориан Грей, она посмотрела на него с невыразимой радостью и воскликнула:
– Как скверно я сегодня играла, Дориан!
– Ужасно! – подтвердил он, глядя на неё в полном недоумении. – Отвратительно! Вы не больны? Вы и представить себе не можете, как это было ужасно и как я страдал!
Девушка всё улыбалась.
– Дориан. – Она произнесла его имя певуче и протяжно, упиваясь им, словно оно было слаще мёда для алых лепестков её губ. – Дориан, как же вы не поняли? Но сейчас вы уже понимаете, да?
– Что тут понимать? – спросил он с раздражением.
– Да то, почему я так плохо играла сегодня… И всегда буду плохо играть. Никогда больше не смогу играть так, как прежде.
Дориан пожал плечами.
– Вы, должно быть, заболели. Вам не следовало играть, если вы нездоровы. Ведь вы становитесь посмешищем. Моим друзьям было нестерпимо скучно. Да и мне тоже.
Сибила, казалось, не слушала его. Она была в каком-то экстазе счастья, совершенно преобразившем её.
– Дориан, Дориан! – воскликнула она. – Пока я вас не знала, я жила только на сцене. Мне казалось, что это – моя настоящая жизнь. Один вечер я была Розалиндой, другой – Порцией. Радость Беатриче была моей радостью, и страдания Корделии[44] – моими страданиями. Я верила всему. Те жалкие актёры, что играли со мной, казались мне божественными, размалёванные кулисы составляли мой мир. Я жила среди призраков и считала их живыми людьми. Но ты пришёл, любимый, и освободил мою душу из плена. Ты показал мне настоящую жизнь. И сегодня у меня словно открылись глаза. Я увидела всю мишурность, фальшь и нелепость той бутафории, которая меня окружает на сцене. Сегодня вечером я впервые увидела, что Ромео стар, безобразен, накрашен, что лунный свет в саду не настоящий и сад этот – не сад, а убогие декорации. И слова, которые я произносила, были не настоящие, не мои слова, не то, что мне хотелось бы говорить. Благодаря тебе я узнала то, что выше искусства. Я узнала любовь настоящую. Искусство – только её бледное отражение. О радость моя, мой Прекрасный Принц! Мне надоело жить среди теней. Ты мне дороже, чем всё искусство мира. Что мне эти марионетки, которые окружают меня на сцене? Когда я сегодня пришла в театр, я просто удивилась: всё сразу стало мне таким чужим! Думала, что буду играть чудесно, – а оказалось, что ничего у меня не выходит. И вдруг я душой поняла, отчего это так, и мне стало радостно. Я слышала в зале шиканье – и только улыбалась. Что они знают о такой любви, как наша? Возьми меня отсюда, Дориан, уведи меня туда, где мы будем совсем одни. Я теперь ненавижу театр. Я могла изображать на сцене любовь, которой не знала, но не могу делать это теперь, когда любовь сжигает меня, как огонь. Ах, Дориан, Дориан, ты меня понимаешь? Ведь мне сейчас играть влюблённую – это профанация! Благодаря тебе я теперь это знаю.
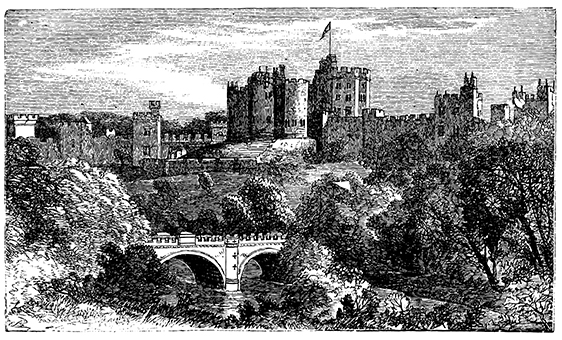
Дориан порывистым движением отвернулся от Сибилы и сел на диван.
– Вы убили мою любовь, – пробормотал он, не поднимая глаз.
Сибила удивлённо посмотрела на него и рассмеялась. Дориан молчал. Она подошла к нему и легко, одними пальчиками коснулась его волос. Потом стала на колени и прильнула губами к его рукам. Но Дориан вздрогнул, отдёрнул руки. Потом, вскочив с дивана, шагнул к двери.
– Да, да, – крикнул он, – вы убили мою любовь! Раньше вы волновали моё воображение, – теперь вы не вызываете во мне никакого интереса. Вы мне просто безразличны. Я вас полюбил, потому что вы играли чудесно, потому что я видел в вас талант, потому что вы воплощали в жизнь мечты великих поэтов, облекали в живую, реальную форму бесплотные образы искусства. А теперь всё это кончено. Вы оказались только пустой и ограниченной женщиной. Боже, как я был глуп!.. Каким безумием была моя любовь к вам! Сейчас вы для меня ничто. Я не хочу вас больше видеть. Я никогда и не вспомню о вас, имени вашего не произнесу. Если бы вы могли понять, чем вы были для меня… О господи, да я… Нет, об этом и думать больно. Лучше бы я вас никогда не знал! Вы испортили самое прекрасное в моей жизни. Как мало вы знаете о любви, если можете говорить, что она убила в вас артистку! Да ведь без вашего искусства вы – ничто! Я хотел сделать вас великой, знаменитой. Весь мир преклонился бы перед вами, и вы носили бы моё имя. А что вы теперь? Третьеразрядная актриса с хорошеньким личиком.