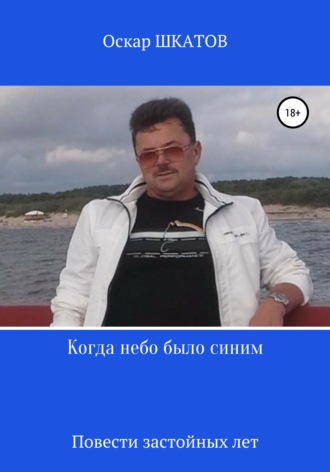
Когда небо было синим
Как хорошо похвалился, аж самому приятно стало.
Но, независимо от результатов соревнований, в конце стабильно побеждала дружба, а последующая неофициальная часть перетасовывала команды, как карточную колоду, и кто с кем проснётся с утра, тут уж как карта ляжет.
ГЛАВА XXVI
Шёл завершающий этап строительства первого блока атомной станции.
Руководители предприятий сменили тёплые кабинеты на приобъектные вагончики. «Гидромонтаж» высылал подкрепления с других строек. Вместе с рабочими коллективами прибывали даже начальники управлений, которые здесь работали простыми прорабами.
Пристанционную грязь месили сотни монтажников, строителей и военных строителей. Особенно доставалось нам, землекопам.
В этот напряжённый период меня пригласила одна субподрядная фирма, которая вела земляные работы и готовила основания для укладки подземных коммуникаций. Я проверял геодезическую основу и подписывал акт передачи. Затем, уже как представитель своей основной генподрядной фирмы, которая эти коммуникации прокладывает, я опять всё это как бы проверял и подписывал уже акт приёмки. А поскольку я сдавал всё это сам себе, претензий у меня ко мне никогда не было, зарплату же платили с обеих сторон.
Тогда это считалось предательством и проституцией, хотя буквально через пару лет наступило время кооперации, и работать везде одновременно стало уже в порядке вещей.
Итак, зарплату нам привозили непосредственно на основной объект.
Как-то смотрю, два наших инженера ПТО, ответственных за подготовку документации по сдаче объектов в эксплуатацию, оба в майорских погонах, в конце дня вышли из вагончика с получкой в карманах и деловым видом на лицах и, постепенно ускоряя шаг, стали удаляться. Через пару минут начальник управления, полковник, хорошо знавший их повадки и сразу почуявший недоброе, выскочил из вагончика с красной мордой и воплем: – Держи майоров! Они сейчас опять на неделю заболеют.
А расслабляться было некогда.
Земляные работы тогда, помню, вёл прораб Леопольд. Вообще-то звали его Володя, но он держал хряка Леопольда, которым очень гордился и настолько всех достал рассказами о нём, что в результате и сам был переименован в Леопольда. Один приезжий начальник как-то осведомился у меня о Володином отчестве, чтобы вежливее к нему обратиться. Я ответил: Ефимыч.
– Леопольд Ефимович! – воззвал он, даже не подозревая о существовании оригинального, данного при рождении имени.
У своего любимого хряка Володя перенял ряд характерных особенностей и привычек. По любой грязи он перемещался в сандалиях на босу ногу. А грязи на стройке, сами понимаете, как грязи. Однажды он настолько завяз, обходя своих механизаторов, что вытащили его только бульдозером. Без сандалий.
Шесть дней в неделю Ефимыч пребывал на работе, как правило, выпивши. Нет, не по-свински (да простит это Леопольд), а вполне интеллигентно. Так удобнее было общаться с подчинёнными, так его лучше понимали. А по понедельникам, всем на удивление, выходил трезвым. Это был день сбора податей. После выходных сотрудники стабильно приносили остатки с праздничных столов на корм Леопольду. Ну, которому, уже не существенно.
ГЛАВА XXVII
Но станцию, слава богу и, конечно, нам – первостроителям, запустили в срок, и рабочий ритм с аврального перестроился обратно на нормальный.
Наше специфическое МСУ в очередной раз поменяло статус, нумерацию и руководство. Производственные отношения нормализовались. Старое руководство вместе с подхалимами постепенно выветрилось, воздух стал чище, а языку вернулось его истинное предназначение как средству общения, а не подлизывания. Ну, а в моей службе началась экспансия, в смысле, расширение ареала производственной деятельности.
Будучи руководителем геодезической службы управления в системе «Гидромонтажа», мне приходилось ездить по Литве, России и Белоруссии. География подконтрольных объектов охватывала не только ИАЭС и Снечкус, но и ещё несколько литовских городов и посёлков. А за пределами Литвы она на западе упиралась в Калининград, на севере в Финский залив, а на юге доходила до Минска.
Везде, где прокладывались трубопроводы, а также велись гидротехнические и даже водолазные работы, требовалось геодезическое вмешательство. Ну, конечно, я был не один. На основных объектах у меня были инженеры, техники или рабочие геодезисты, которых я деликатно подчинёнными не считал, поскольку всегда уважал свободу личности, а просто, как старшой, ездил, контролировал, сдавал, принимал, подписывал и тому подобное.
В Калининграде строился новый микрорайон, а мы тянули подземные коммуникации к жилым домам, изредка натыкаясь на немецкие неразорвавшиеся снаряды. Это было в порядке вещей. А там, где домов ещё не было, трубопроводы прокладывались в чистом поле. Однажды геодезист от заказчика Женя Фомин допустил ошибку в разбивке трассы, а я доверчиво подписал акт приёмки. После чего наша фирма насовала под землю много толстых и тяжёлых труб, причём именно туда, где планировали расположиться фундаменты жилых домов.
Когда это выяснилось, я на всякий случай был лишён премии, ибо сначала надо кого-то наказать, а уже потом разбираться, а засранец Женя тотчас помчался затирать нанесённые им красной краской на столбах неверные геодезические выноски, дескать, он тут не при чём. Деньги за свою халтуру он уже получил и обратно отдавать не хотел.
На сей раз несправедливость восторжествовала. А я всегда говорил своему руководству, что зарплата геодезиста должна зависеть от его масштабности, точнее от того, какой вред он способен нанести. Вон человек одним неверным действием загнал целый квартал не туда и прославился как Нерон.
ГЛАВА XXVIII
Моим северным тупиком был Сосновый Бор, а точнее – Ленинградская АЭС.
Расположение станции практически на нулевой отметке вызывало у меня живой геодезический интерес. Находящийся неподалёку Кронштадтский футшток делит всю Балтийскую систему высот на плюсы и минусы, а мы работали как бы между ними.
Волны Балтики тактично не захлёстывали наши трубопроводы. Нити стальных водоводов со спутника, наверное, напоминали гитарный гриф, но у меня тогда не было знакомого спутника. Была исполнительная схема. Несколько параллельных, как струны, магистралей оборотного водоснабжения от одного до двух метров в диаметре укладывались на дно широкой траншеи, или скорее длинного котлована, и тянулись на несколько километров от Финского залива к полигону испытания ядерных реакторов. Ощущалась какая-то гордость за нашу гидромонтажную мощь.
Это на плюсовой отметке. А ниже трудились водолазы.
В нашей гостинице в командировках я часто жил вместе с водолазами. Очень уважал я этих ребят, которые как космонавты, постоянно рискуют, и в то же время не заносятся, а считают себя обычными работягами. На своих подводных объектах, сочетая полезное с приятным, они ставили сети, и по вечерам можно было часто наблюдать такую, почему-то запомнившуюся мне картину: по гостиничному коридору один парень в тельняшке тащит ящик со здоровенными окунями, следом второй водолаз – ящик с лещами, а третий – с водкой, и обсуждаются при этом обычные бытовые темы типа:
– Чего ты вчера к Верке-то не пришёл, женился бы. А так пришлось мне.
Или что-то подобное. Профессиональная удалённость от семей делала их не только ловеласами, но и непревзойдёнными поварами.
Я сам рыбак, но так, как готовят рыбу водолазы, не готовит никто.
В первый раз в командировку в Сосняк я поехал с нашим главным инженером, моим непосредственным руководителем Палычем, место которого я впоследствии занял. Вот прочёл и подумал, а не слишком ли убийственно звучит термин «занял место». Да нет, я не вливал в его водку гадючий яд и не пихал наркоту в его косяк. Мне это место вовсе было не нужно. Просто, он потом уехал.
С Палычем мы были в дружеских отношениях, хотя он был лет на десять старше. Это руководитель средне-советского формата, который в кабинете имел стандартный сейф с соответствующим содержимым. Рядом, через секретаршу, находился кабинет генерального директора Валерича. Оба были Александры, поэтому я буду величать их по отчествам.
В отличии от описанных мной ранее бюрократических рудиментов, эти руководители были настоящими, правильными мужиками. Валерич, заслышав по утрам лязганье сейфа Палыча и последующее бульканье, некоторое время сомневался, но почуяв затем знакомый запах косяка «Беломора», успокаивался. Значит, главный инженер собирался объезжать объекты.
Так вот, Палыч ехал в Сосняк контролировать деятельность тамошнего начальника участка, а я должен был подписать акт геодезической приёмки нового объекта. Однако геодезический представитель заказчика сел на больничный, и я целую неделю валял дурака, гонял дуру и знакомился с местными достопримечательностями.
В качестве бригадира монтажников, а заодно и рабочего геодезиста с нами ехал мой друг Витя Иванков. В первый раз он ещё не знал, как надо экипироваться, но в последующем уже никогда не забывал захватить пару сумок литовского пива своим ребятам. Местное жигулёвское наши гурманы не потребляли, а «Балтики» ещё не было.
Во всех деловых поездках у меня, как правило, находилось время и для ознакомления с местностью.
В своей первой командировке в Калининград, отъезжая домой вечерним поездом, я вышел из гостиницы с утра. Личных вещей у меня было немного, да и погода располагала пройтись. Карты города также не имелось, но примерный азимут с одного конца города на другой я представлял. А для привалов время от времени использовал попутные бары. Экскурсия удалась. Правда, запомнилось далеко не всё. Особенно к концу маршрута.
Ну, а путь в Сосновый Бор давал возможность хоть проездом, хоть на несколько часов, но всё же побывать в Питере, который в отличии от шумной, суетливой Москвы, мне всегда нравился. Это если перемещаться на поездах. Ну, а если, предположим, на служебном автобусе, да в компании сослуживцев, то тут уж не до достопримечательностей. Тут уж с песнями.
ГЛАВА XXIX
Кроме этих культурных центров были объекты и малокультурные. Как, к примеру, один совхоз под Минском. Может раньше там и существовала самобытная белорусская культура, но оккупация совхоза литовцами, как нас обзывали, хотя все мы славяне, привнесла туда хаос.
Там мы тянули теплотрассы, а ещё вели гидротехнические и немного дорожные работы. А потому, как и везде, в подряде у нас трудились механизаторы и водители УМиАТ. Ну, как трудились…
Во-первых, они поломали все местные демографические показатели, так как парней на селе почти не было, зато девушек в поиске – только свистни. Через несколько месяцев это уже проявлялось наглядно – почти все девушки репродуктивного возраста «обиделись и надулись».
Во-вторых, на местных просёлочных дорогах постовых не ставили, и водилы, почувствовав безнаказанность, бухали, не выходя из-за руля.
С утра я забрался в кабину МАЗа чтобы ехать на объект. Грузовик дал выхлоп угарного газа, водитель дал выхлоп перегара, вырулил на просёлок и сцепился зеркалами с другим самосвалом. Это у них было вроде обычного утреннего приветствия.
Вечером того же дня честно отработавший смену КрАЗ по инерции устало въехал в живописный палисадник непосредственно сквозь забор и заглох. Высыпавшийся из кабины шофёр долго и пристально разглядывал незнакомый пейзаж, после чего, оставив машину открытой, нетвёрдой походкой направился на поиски места своего проживания. Ребята с УМиАТа частенько разнообразили свой командировочный быт подобными шалостями.
От моей службы в этот совхоз сначала весьма опрометчиво был направлен инженер-геодезист Федя. Фамилия его была анаграммой к слову «бухал» и соответствовала сути. Федя «Бухал» конкретно бухал. Но в геодезии он держался. Причём, иногда держался в буквальном смысле, за штатив-треногу, когда две свои ноги уже не держали. Но при этом, глядя в окуляр нивелира, он как-то умудрялся всегда давать правильные отсчёты.
Федя был постоянно и практически безвыездно прикован к снечкусским объектам, а здесь, оказавшись на воле, он почувствовал себя орлом в небе и одновременно козлом в огороде.
Когда его хотели поймать и протрезвить, он скрылся в дворовом сортире, а через полчаса вышел оттуда ещё веселее. У него везде были свои заначки.
В результате Федя был депортирован на родину.
Свежий белорусский воздух и пшеничный бимбер приводили в лирическое настроение и наших прорабов, которых приходилось периодически менять, пока не нашли непьющего.
Ещё в этом совхозе процветало птицеводство, а точнее, куроводство. Куры с яйцами приобретались практически за бесценок, и я привозил их по заказу сослуживцев полным микроавтобусом.
Такие вот разноплановые объекты. Сегодня возвращаешься из культурной столицы, а завтра в машину и на село, к курям, бимберу и пышащим здоровьем девкам. Шучу. Последним не злоупотреблял. Хотя Витя Казанец, последний прораб из плеяды пьющих, который, как и ребята с УМиАТа, также бросил якорь в любвеобильный дамский омут, настойчиво навязывал мне секретаршу местного руководства:
– Специально для тебя берёг. Лучшая в округе и ничья. Принца ждёт.
Инесса была действительно на редкость хороша. Я же на принца походил весьма отдалённо. Примерно, как наш зеленый УАЗик на белого коня. Но на фоне одичавших шоферюг я выгодно отличался неместной интеллигентностью. Для первого знакомства этого оказалось достаточно.
Тем же вечером был организован «бал при свечах» по-белорусски, то есть пляски у лесного костра под сало, бульбу и бимбер.
На обратном пути мы с красавицей Инессой уже целовались на заднем сиденье микроавтобуса. Правда, это не очень получалось, так как основательно бимбернувший водитель Ромка с криками «Танки грязи не боятся» нёсся, не снижая скорости, по лесным ухабам.
Наутро по мозгам стучало Райкинским монологом: «Сигизмунд, что ты делаешь? Тебе тридцать лет. У тебя уже двое детей.»
Разбрасываться якорем, как остальные, я в общем-то не собирался, а потому попрощались мы с Инессой хоть и с сожалением, но с пониманием.
ГЛАВА XXX
Начало лихих девяностых в нашем регионе как-то не ощущалось. Работали уже два энергоблока, выдавая электроэнергию и принося доходы. А вот узнать воочию, какие перемены происходили на родине, мне было крайне интересно. Как-то в беседе с генеральным Валеричем я намекнул, что неплохо бы обновить наш автопарк новой грузовой машиной непосредственно с ГАЗа, где они продавались довольно недорого. Себя я, естественно, предложил в качестве покупателя, имеющего там свои каналы. Предложение было принято, я получил валюту и оформил командировку, а по сути оплачиваемый проезд в дополнительный оплачиваемый отпуск.
Надеюсь, мистер Бенджамин Франклин не слишком обиделся на то, что пачка купюр с его изображением разместилась в потайном кармашке моих труселей. При этом термин «зажопил баксы» получил здесь буквальное значение. Но это не из неуважения к данной валюте, а ради спасения зелёного нала от российского криминала. Конечно, в кейсе деньги держать престижнее, но в трусах вернее. К тому же поезд – не инкассаторская машина. А ведь нужно было иметь именно наличные для последующих обменных операций.
В тот сложный для России период многие мои друзья и однокашники забыли свои институтские специальности, открыли небольшие фирмы и занимались тем, что приносило реальный доход. В основном это было посредничеством в торговой сфере между производителем и потребителем. К примеру, закупка табачных и алкогольных изделий на базе оптом и реализация их через ларьки в розницу.
Меня всегда забавляло то, что два-три человека, создавая фирму по перепродаже какого-нибудь товара, именовались Генеральными директорами и Главными финансистами. Даже Президенты попадались. Да ладно, флаг им в руки. А вот рэкетом заниматься моим интеллигентным друзьям воспитание и здоровье не позволяли. Этим занимались ребята, более развитые физически и менее интеллектуально.
Братан Серёга заранее предупредил, что покупка машин с автозавода – дело опасное, контролируется братвой и вообще, надо готовить мзду. Сам он тогда, как собственно и всегда, крутился в духе времени в соответствующем темпе и, ориентируясь на конъюнктуру рынка, постепенно становился миллионером.
Следуя его совету, я решил не торопиться и осмотреться. Друзья посоветовали действовать через знакомого начальника сбыта, но он был в отпуске, и я пару недель напропалую кутил со старыми друзьями как в последний раз, понимая, что дальнейшее наше общение через Железный занавес будет уже проблематичным.
Отгулявший начальник сбыта из отпуска вышел, но никакого содействия не оказал, так как процедура была единой для всех, и оформить покупку машины можно было и раньше, но тогда бы мы так не погудели.
ГЛАВА XXXI
И вот тут начинается самое интересное.
Мне, как представителю зарубежной фирмы, крупнейший российский автозавод в продаже своей продукции отказал, а доллары вообще не признавал. Бухгалтерские тётушки были тупо зомбированы в одном направлении и никаких отклонений не воспринимали. Как-то даже ошарашивала эта постсоветская дикость, когда продавец не заинтересован в продаже своего товара, не говоря уж об экспорте.
Пришлось заключать договор о сотрудничестве с российской фирмой моих друзей и через неё, разменяв зелёные на деревянные, действовать законным порядком. Следующим моментом ненавязчивого государственного сервиса явилось то, что купленный мной грузовик попросту вытолкали за ворота автозавода – заполучите. Молодой водитель Андрей, присланный мне для перегона машины, обескураженно чесал затылок, осматривая её на предмет, а ездит ли она вообще, а я отправился на поиски бензина, чтобы добраться до ближайшей заправочной станции.
Уже на заправке ко мне подошёл молодой человек, может чуть моложе меня, и осведомился, не я ли владелец этого транспортного средства. Я ответил утвердительно, догадываясь, что последует дальше. Завязалась дружеская интеллигентная беседа.
– Вы, наверное, знаете, что машины с ГАЗа просто так не уезжают?
– Конечно, наслышан. А какие взносы? Я вот этот недорогой грузовик приобрёл не для себя, а для строительной фирмы, причём из ближнего зарубежья.
– Тогда по прейскуранту и из уважения к вам возьмём по минимуму, десять тысяч рублей.
Меня это приятно устроило, но ради интереса я осведомился:
– А если меня ещё кто-нибудь остановит с подобным предложением?
– Я, Саша Чёрный, контролирую Московское шоссе и гарантирую, что до Москвы у вас никаких проблем не будет. В противном случае можете вернуться и плюнуть мне в лицо.
– Хорошо, с удовольствием вернусь и плюну, – парень был мне симпатичен, а сам разговор вызывал живой интерес.
– Ну, а если кто-то откажется платить?
– Доходит и до перестрелок. В основном это чёрные. Кавказцы предпочитают наши «Волги», а взнос за них доходит до ста пятидесяти тысяч.
Мы ещё некоторое время порассуждали о перипетиях российского бизнеса и по-приятельски расстались.
Где-то около получаса машинка наша спокойно катилась в московском направлении, но потом вдруг мы ощутили чьё-то пристальное внимание. Из окна обогнавшей нас «Волги» высунулась рука с рацией, похожей на пистолет, предлагая остановиться.
– Что делать? – спросил Андрюха.
– Тормози. Всё нормально.
Один из «кожаных» приблизился, но я сразу предупредил события:
– Ребята, я расплатился с Сашей Чёрным.
– Сколько?
– По минимуму, десятка.
Братки связались по рации, вежливо извинились и пожелали нам счастливого пути.
– Кто же в этой стране правит-то, – размышлял я, сравнивая государственный бесхоз и похренизм с дисциплиной и интеллигентностью самостийных структур.
Белоруссию нам пришлось пересечь без остановок, так как бензина не было ни на одной из заправок, и оставалось надеяться только на инерцию. Заглохнуть на границе с Литвой было уже не страшно. С пограничного поста я связался со своими, и навстречу выехал наш механик с полной канистрой.
– Прощай, немытая Россия, – соглашался я с Лермонтовым, ностальгируя по прежним, пускай не идеальным, но привычным и любимым временам. А мой следующий приезд на родину состоялся только через двадцать лет.
ГЛАВА XXXII
Чтобы закрыть автомобильную тему, я вспомню своего одноклассника Алика. В те далёкие школьные годы автомобиль в принципе считался предметом роскоши, а Алик вообще не понимал, для чего он нужен. По его мнению, всё человечество должно сидеть на велосипедах. Нет, где-то он прав, и сейчас многие к этому стремятся. Но он возводил велосипед в ранг идола и фанатично ему поклонялся. А ещё был он профессиональным матерщинником и, когда начинал взахлёб фантазировать о том, как будут воевать в следующем веке и лазерными лучами срезать спицы на велосипедах противника, сопровождая всё это отборным матом, мы откровенно ржали от его сексуально-велосипедного юмора.
Вторая его особенность – это примерно такое же отношение к кошкам. Жил он в небольшом доме с палисадником, и там кошки бродили стадами. Котоводством он занимался самозабвенно, применяя на практике знания, вынесенные с уроков по общей биологии. Комбинируя генотипы, фенотипы, аллели и зиготы, он, как Мичурин от животноводства, скрещивал своих подопечных, вычисляя при этом масть будущих котят.
Как-то захотел он вывести чёрного кота с белыми лапками и ушками. Для этого, согласно формулам, его разноцветной кошке нужен был абсолютно чёрный кот. В стаде такого не оказалось, но мы, одноклассники, помогли Алику, нашли такого, притащили на квартиру и вчетвером залегли в разных концах комнаты. Животные опасливо озирались. Мы стали ползком сближаться, отрезая им пути к отступлению. Но совокупляться без любви они никак не хотели, и на этот раз эксперимент пришлось отложить. Но потом Алик в более интимной обстановке всё-таки довёл дело до конца. И ведь получилось! В помёте оказался и расчётный экземпляр.
Позже я задумался, кем может стать впоследствии человек с такими увлечениями, и не удивился, когда через много лет узнал, что Алик в городской администрации руководит отделом экологии, причём именно в сфере контроля автомобильных загрязнений. Во как! Думаю, он и сейчас перемещается на велосипеде в сопровождении кошачьего эскорта.
ГЛАВА XXXIII
Итак, Союз нерушимый республик свободных успешно рухнул. Однако маленькие, но гордые «республики свободные» ещё не знали, что с этой свободой делать. Пришла пора решать, кому куда, с кем и за кого.
Руководители советского формата в новых условиях адаптироваться не смогли и разъехались обратно по стройкам Средмаша. Главный инженер Палыч за всё время пребывания в Литве из местного лексикона выучил только два слова, одно литовское, а второе матерное с литовским окончанием. Отставной зэк Зыкин за ещё больший срок не освоил вообще ни одного. Понятно, что с таким словарным запасом в литовской документации разобраться было бы сложно.
Уехал мой друг, Витя Иванков, с которым мы скушали пуд соли и ещё больше плова с самогоном. Зачем-то он решил вернуться в свою солнечную Узбекию, из которой потом всё равно пришлось эмигрировать, только теперь уже в Волгоград.
Уехал в Подмосковье и другой друг, Женька Ломов, с которым мы лет десять практиковали вокально-инструментальное творчество по местным городкам и весям. И, что характерно, чем эти веси были меньше, тем душевнее там принимали нас, полупрофессиональных музыкантов и тем обильнее накрывались послеконцертные столы.
Но большинство посланцев Великой державы всё-таки осталось. Мы принципиально решили не покидать город, где уже пустили корни, где родились наши дети. Правда, мне пришлось сменить ориентацию.
Да нет, производственную.
На границах вырастал Железный занавес. Командировки закончились. Главным заказчиком строительных услуг осталась атомная станция. Но зато все работы, связанные с плановыми ремонтами и новым строительством, стабильно и своевременно финансировались. Местным строительным организациям этого пока вполне хватало.
А вот рамки геодезической деятельности резко сузились, и мой генеральный директор Валерич стал поручать мне то охрану труда, то контроль за производством, и постепенно тащил на должность технического директора. Я упирался как мог. За десять лет я настолько привык к интересной и разнообразной вольной жизни, что никуда не хотел. Но, глядя обстоятельствам в лицо, я, конечно, понимал необходимость возвращения на строительную стезю.
Моему шефу, стратегу по натуре, был нужен доверенный руководитель производства, что дало бы ему возможность заняться делом перспективным, а именно, формированием консорциума. В условиях конкуренции надо было создать местный противовес крупным иноземным фирмам. Объединение десяти наших постсоветских предприятий должно было монополизировать местный строительный рынок.
Валерич дипломатично играл на моих чувствах моральной ответственности и сознательности:









