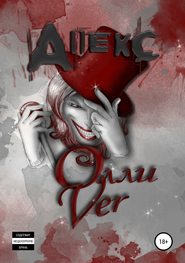По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Эй, шмара!
Я ускоряюсь.
– Далеко собралась, прошмандовка?
Дело плохо. Бежать? Всё равно, что дразнить быка красной тряпкой. Особенно, если ты ни капельки не тореадор и даже не собираешься им быть.
Позади слышится быстрый топот четырех пар ног, и мне приходится – я срываюсь и бегу. По узкой тропинке через весь задний двор колледжа, до узких выходных ворот. Мимо мелькают деревья и прогалины прошлогодней травы, лужи, мокрая грязная земля и крохотные островки еще не растаявшего снега. Надеяться на то, что меня увидят кто-то из преподавательского состава, смешно – тут никто не ходит. Никто, кроме тех, кому захотелось покурить или приспичило потискаться и… у кого чешутся кулаки. Я несусь, выжимая из себя всё, что есть в моем тщедушном теле, слыша, как приближаются ко мне мои одногруппницы. Их топот все ближе, их голоса все злее, и я уже практически чувствую запах их дешевых духов. Я прибавляю. Открывается второе дыхание, и заветные ворота становятся ближе. Добежать бы, а там – дорога и, возможно, взрослые, которых побоятся эти четверо.
Меня сбивает с ног чем-то мягким и тяжелым – валюсь на землю, мои руки скользят по мокрой, мерзлой земле, кожа обдирается, и за рукава набирается грязи, моя куртка мгновенно становится серой, джинсы промокают и покрываются мерзкой жижей, которая стразу же просачивается сквозь ткань и прилипает к коже. Рядом приземляется сумка с тетрадями одной и них.
Хорошо, что тут никто не ходит.
Поднимаюсь на четвереньки. Они подбегают и ржут, как скаковые лошади. Им смешно, а я пытаюсь подняться на ноги. Одна из них, та, что выше и больше остальных, пинает меня в бок, и я снова валюсь на землю. Раскат хохота. Я стискиваю зубы в бессильном отчаянии и чувствую, как тело начинает дрожать. Снова поднимаюсь, и на этот раз никто не пинает меня – они просто заходятся в истеричном хохоте, глядя на то, как с меня капают вода и грязь. Я даже глаза не могу поднять – мне безумно обидно и стыдно. Стыдно перед теми, кто уронил меня в грязь. Разве такое может быть? Обидно, что ничего не могу ответить им, ни на словах, ни на деле. Развернуться бы, да как дать им по наглым мордам своим рюкзаком! Но вместо этого я молча поднимаю его и пытаюсь водрузить на плечо. Из него льется. Снова приступ хохота с тонкими истерическими попискиваниями.
Ненавижу их.
Одна из них – блондинка с коротким каре, огромной грудью и ногами, как два фонарных столба – прямыми и бесформенными – вытирает слезы, проступившие сквозь смех:
– Может, хоть теперь переоденешься…
Снова взрыв хохота. Ничего смешного она не сказала, но её подружки так и заходятся. Я перевожу затравленный взгляд с одного лица на другое и с замиранием сердца думаю – ждать ли мне чего-то похуже? Это не блондинка влюблена в Тима. Эта – её лучшая подруга, то есть она, вроде как, и не при делах вовсе. А вот та, что влюблена, стоит прямо за её спиной и скалит зубы – рыжая, невысокая, весьма недурна собой, если не считать отвратительного характера. И возможно, её веснушки были бы очень милыми, не веди она себя, как животное, но сейчас, глядя на россыпь рыжих пятнышек на её носу и щеках, я с упоением думаю – Тимур не любит рыжих. Однозначно – не Ева Грин. Ничего общего.
Тут блондинка достает изо рта жвачку и идет ко мне – в моих глазах загорается паника. Я испуганно смотрю на неё и делаю несколько шагов назад, предчувствуя что-то из ряда вон. Её подружки подбегают, и хватают меня за руки.
– Вы что, совсем озверели, что ли? – кричу я.
Но это лишь раззадоривает их. Я пытаюсь вырваться, я отчаянно дергаюсь, стараясь вырвать руки из цепких клешней, но их пальцы словно вросли в мое тело. Я дергаюсь, я пячусь назад и пытаюсь кричать на них. Это лишь поднимает ставки. Блондинка рядом со мной. Она берет меня за хвост, а затем впечатывает плюху жвачки в мои волосы. Хохот, одобрительные возгласы и омерзительные голоса с упоением галдящие надо мной, словно чайки над китовой тушей. Меня отпускают, а я закрываю лицо руками и сдаюсь – я даю им то, чего они добивались. Я начинаю плакать. Это дежа-вю никогда не закончится. Гребанная петля времени – снова и снова, до первых слёз, как до первой крови. Им, в общем-то, больше ничего и не нужно, кроме чувства собственного превосходства, выливающегося из меня крокодильими слезами. Мое унижение стало их наркотиком в последний год, и если вы думаете, что издевки и побои заканчиваются в старших классах школы, вы глубоко заблуждаетесь. Я – тому живое подтверждение. Я стою и рыдаю у них на глазах, а они с упоением впитывают мои страх, боль и унижение.
– Еще раз увидим тебя с Тимуром, – шипит мне блондинка, – и ты будешь ходить лысой до самого выпускного. Поняла, мразь?
Дикое завывание, больше похожее на вой шакалов, одна из них плюет на мой рюкзак, а затем они разворачиваются и идут по тропинке, хваля блондинку за креативность речи.
Я стою на заднем дворе колледжа и рыдаю в три ручья. Мне так обидно, мне до того больно, что я никак не могу унять слёзы. Я всхлипываю и подвываю, я пытаюсь зарыть рот, но у меня ничего не выходит – все, что я хотела сказать им в ответ, все, что могла бы, но не сделала, превращалось в воду и лилось из меня нескончаемым потоком.
Ненавижу их.
Ненавижу их!
Господи, как же все это достало! Достали обида и унижение, достали собственная беспомощность и неумение постоять за себя. Достало, что все, кому не лень, указывают мне, с кем мне общаться, а с кем – нет.
«Чтобы я тебя больше не видела рядом с Тимуром», – говорит блондинка.
«Я не хочу, чтобы ты общалась с Аней», – говорит мама.
Все решают за меня, и никому нет дела до того, чего хочу я.
Я вспоминаю Аньку и плачу еще сильнее. Я плачу, потому что знаю – Анька не дала бы меня в обиду. Анька надрала бы им задницы и начистила откормленные рожи. Я это знаю, потому что Анька никогда и никого не боялась.
***
Это был один из погожих солнечных денечков. Именно в тот день вечно рыдающая девчонка по имени Катя, которую еще никто не видел с сухими глазами (возможно, даже ее собственные родители), попыталась забрать у меня Настю (моя кукла). Я была на даче у бабушки. Отлично помню, как сидела на траве прямо рядом с открытой калиткой и, находясь под бдительным, но периодическим контролем бабушки, а потому фактически была предоставлена самой себе. Время шло к обеду, а потому Настя уже должна была приступить к полной тарелке воображаемого супа, когда появилась та самая Катя. На меня упала тень, и я подняла голову. Катя стояла прямо передо мной в тонком ситцевом сарафане и сандалиях на босу ногу. Она усердно рассматривала мою Настю и новехонький кухонный набор из пластмассы, которые подарили мне родители на мой день рождения, буквально за неделю до этого. Пройдясь взглядом красных глаз по сидящей за столом кукле, Катя спросила:
– Она ест червяков?
Я посмотрела на мелкую траву, собранную в пластмассовую кастрюльку, и мне показалось странным, что девочка не замечает очевидного – это же суп, ясно как день.
– Нет, это… – начала я, как вдруг, Катя наклонилась и ловким движением вытащила Настю из-за стола и поднесла к своим заплаканным глазам.
– У нее все ноги разрисованы, – тоном эксперта по куклам сказала она.
Внутри меня неприятно зашевелилось что-то, что очень тихо, но настойчиво подсказывало мне – сейчас будет нехорошо. Взгляд Кати и ее наглое поведение говорили о том, что пришла она не с миром, но я была еще слишком мала, чтобы улавливать детали и акценты человеческого поведения, а потому за меня говорили инстинкты.
– Отдай Настю, пожалуйста, – попросила я.
– Ее зовут не Настя, а Анжелика, – сказала Катя, шмыгая носом и устремляя на меня взгляд, полный уверенности в собственной правоте.
Глаза мои предательски заблестели, а к горлу подкатил комок.
– Отдай куклу, пожалуйста, – на последнем слове мой голос дрогнул, и это не ускользнуло от внимания Кати. Она смерила меня оценивающим взглядом, а затем сказала твердо и хладнокровно:
– Нет.
По моей щеке побежала слезинка, губы предательски изогнулись.
– Это моя кукла… – прошептала я.
– Была твоя, а стала моя, – со всевозрастающей решимостью отчеканила Катя и посмотрела на свой трофей. – Я ее заберу и спрячу под сараем. Даже если ты расскажешь бабушке, и она придет к нам за куклой, взрослые её не найдут. Они не поверят тебе. Не поверят, что я её забрала, и подумают, что ты просто потеряла куклу. А когда мы поедем домой, я положу ее в свой рюкзак так, чтобы никто не видел, – а затем она добавила хладнокровным голосом матерого вора-рецидивиста. – Я так уже делала.
В этот момент слезы хлынули из моих глаз, и рот раскрылся в немом плаче. Я даже воздуха не могла глотнуть, не то, чтобы позвать бабушку, которая как назло где-то запропастилась. Я тихо и горько роняла слезы на траву, понимая, что не смогу дать отпор этой наглой, бессовестной девице. Я никогда не могла. Не умела. Я – трусиха, сколько себя помню.
Катя смотрела на мою истерику и по ее лицу расползалась самодовольная ухмылочка…
Вдруг камень, размером с перепелиное яйцо, со всего маху врезался ей точно в лоб. В первое мгновение на лице Кати отразилось лишь удивление, но потом, когда тело громко и отчаянно завопило о боли, Катя выронила куклу и, схватившись за лоб, залилась тем же немым плачем. Выглядело это так, словно идет мультфильм, но без звука.
Камень прилетел откуда-то из-за моей спины. Я обернулась. Там стояла белокурая девчушка нашего возраста в светло-голубой юбке и шикарной белой футболке с Барби во всю грудь. Она улыбнулась мне и заговорщически скривила хорошенький носик. Девочка была до того красивой, что я забыла, как реветь и залюбовалась огромными голубыми глазами и шикарными волосами цвета соломы. Они блестели на солнце, переливаясь золотом в местах, где крупный завиток ложился в локон, накладываясь один на другой.
Тут Катя заголосила вовсю. Она плакала так громко, что из-за нашего дома послушался звук упавшего ведра и быстрые шаги моей бабули.
Незнакомая девочка подошла ко мне и, встав рядом со мной, со спокойным лицом рассматривала, как на лбу у Кати растет огромная лиловая шишка. Мы смотрели, как Катя извивается от боли, а ее лицо корчится в гримасе злобы, и на мгновение меня пронзил восторг – впервые в жизни кто-то, кто не был со мной в кровном родстве, заступился за меня, встал на мою защиту и не дал меня в обиду. Справедливость торжествовала и, хоть и не моими руками, но злодей наказан, а зло так и не свершилось за секунду до неизбежного. Совсем как мультфильмах про супергероев. А потом мне стало стыдно и жалко эту наглую девчонку. Все-таки это очень больно – получить камнем в лоб. Я повернулась и посмотрела на голубоглазую блондинку. Ничего в ее взгляде не говорило о сожалении, но и восторга она не испытывала. Все, что я смогла прочесть тогда в силу возраста, мне показалось скорее похожим на спокойствие и полное равнодушие к горю плачущей девочки.
Тут Катя повернулась и закричала:
– Ненормальная!
Она развернулась и побежала к своему дому, а мы остались вдвоем с блондинкой.
– Зря ты ее так сильно, – сказала я, смущаясь от того, что говорю подобное моему спасителю. Но девочку мое замечание не смутило, и она спокойно ответила: