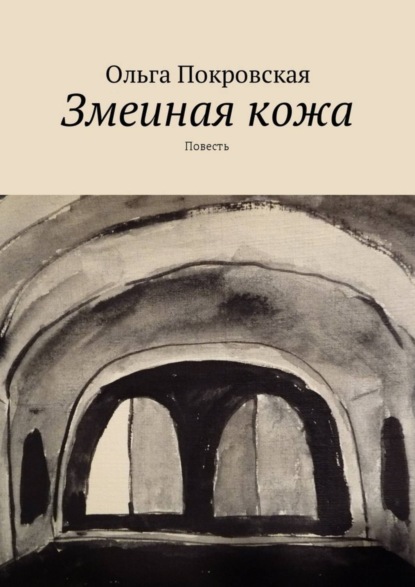По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Змеиная кожа. Повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Надо следить за собой, – сказала Надя, которой сделалось тепло, и даже ладони вспотели от волнующего прикосновения к Гришиной шевелюре. – Будешь красивый… ухоженный…
– Оставь, селедка. Не те данные.
– В смысле?
– В смысле, у меня не волосы, а сено. Вот у сестры твоей… – Он вздохнул. – Как мед. Помню, как-то летом… волосы по плечам распущены… душистые… м-да.
– Обычные волосы, – сказала Надя строго. – У нас одинаковые.
Гриша изобразил унылый скепсис.
– Нет, селедка. Не хочу обижать, но ты необъективна. В зеркало чаще смотри. У тебя, – он поднял глаза, нахмурил брови, не встречаясь взглядом с Надей, и вынес вердикт: – У тебя глина какая-то на голове, уж извини.
Надя сделала усилие и не обиделась. Она знала, что ее внешность теряется на фоне Аллиного совершенства.
– Послушай, – произнесла она, запинаясь. – А может… мы с тобой поженимся?
Гриша уставился таким непонимающим вздором, что она осеклась.
– Зачем?
– В смысле, заявление подадим, – оправдывалась Надя, увидев, что вопрос пришелся не к месту. – Нам приглашение дадут.
– Зачем?
– Я туфли куплю…
Гриша уяснил смысл сказанного – в меру понимания.
– Ох, селедка, – пробормотал он. – Опять эти гримасы развитого социализма. Найди другого кого-нибудь. Я, знаешь ли, не люблю профанаций. Должно что-то быть святое, что ли…
Он отстранился, и Наде почудилось нечто брезгливое, словно ему были неприятны ее прикосновения.
– Оставь, волосы повыдергаешь. Буду лысым ходить.
Он бросил печальный взгляд на окно и поднялся.
– Пойду я, селедка. Пока ваше семейство за тобой не сбежалось…
И он направился к арке, сутулясь и не оглядываясь на Надю, которая приняла во внимание все соображения, но не отделалась от недоумения и чувства обиды: Грише следовало проявить деликатность и не демонстрировать, что она для него пустое место.
На другое утро в загсе была регистрация, и Надя, наблюдая за обрядом, изучала Руслана и проникалась родственными чувствами, но мешали его непривычная внешность и впечатление, что они с Аллой не смотрятся как пара. Если Алла походила на фарфоровую статуэтку, то Руслан вызывал ассоциации с мясной лавкой: он был коренастый, приземистый, с вывернутыми красными губами, и его массивное лицо при любом волнении или мускульном усилии делалось багровым. Из загса молодой муж уехал за вещами в общежитие, а новобрачная, родственники и гости переместились в федотовскую квартиру на Щукинской, а к вечеру в кафе, где ожидалось основное торжество. Руслан задерживался, но, казалось что собравшиеся про него позабыли и его присутствие не нужно – тем более что Мария Ефимовна накормила всех обедом, и рвавшихся к столу не было. Присутствовали знакомые и друзья, была троюродная сестра Юлии Андреевны из Одинцово, с которой редко поддерживались отношения, – грузная женщина, затянутая в цветастое кримпленовое платье. Были однокурсники Александра Михайловича, от которых прятали выпивку, множество Аллиных подруг – на редкость некрасивых и неприметных, точно Алла выбирала по контрасту. Пахло духами, водкой и кухней, грохотала, хрипя и дребезжа, музыка из динамиков. Новобрачная щебетала, окруженная поздравителями, так что Надя осталась одна и слонялась по холлу, оклеенному сантехническим кафелем, когда на нее наткнулся Гриша. Он был навеселе и смотрелся в парадном костюме неестественно.
– А, селедка! – окликнул он Надю, хотя она держалась в отдалении. – Ну что? Нашла, с кем подать заявление?
Надя нахмурилась. Ей показалось, что Гриша сказал это нарочно, чтобы услышал находящийся рядом Илья, а Илью она не любила. Он казался ей высокомерным, потому что Илья не обращал внимания не только на Надю – это было явлением привычным, – но и Аллой не интересовался вовсе. Вообще, Надя считала его похожим на семинариста, как она себе их представляла, или сектанта. Ассоциации вызывала прическа Ильи – крылья прилизанных длинных волос, разделенных прямым пробором, из которых выглядывал тонкий, как лезвие, нос.
– Хочет человек туфли купить, для этого надо заявление подавать, – объяснил Гриша Илье. – Наш народ чего не придумает… голь на выдумки хитра.
Илья передернул плечами, словно речь шла о порядках в дикарском племени.
– Что ж… каждый решает вопросы, как может.
– Знаешь, – Гриша потыкал пальцем в Надину сторону, продолжая неприятный диалог. – Подай с Колькой, он не откажется. Коля!.. – он огляделся по сторонам, а Илья состроил холодную гримасу.
– Отстань, что пристал к человеку?
Но Коля, взъерошенный, с несчастным выражением, которое не сходило с его лица весь день, поспешил на зов.
– Что, что такое? – спросил он убито.
– Подай с Надькой заявление в загс, ей надо.
Коля вытаращил глаза.
– В загс… с Надей… почему? – он не справлялся с установкой логических связей.
Гриша замигал – думая, что получается игриво.
– Надо человеку помочь. Женщинам не задают таких вопросов.
Коля растерялся и развел руками.
– Если надо… если помочь… пожалуйста.
Надя возмутилась.
– Я найду, с кем подать заявление, и без тебя! – выпалила она, отворачиваясь, но Гриша не смутился, и только Коля еще больше растерялся.
– Если надо… – повторил он, и Наде стало жалко его.
– Как твоя диссертация? – спросила она.
– Так, – ему не хотелось распространяться на тему, и он вернулся к предыдущей: – Надь, если надо, говори… – И добавил, непонятно к чему: – Знаешь, Родион Константинович одного человека в больницу устраивал, операция была нужна. Все пороги оббил – столько инстанций надо пройти…
Он с благоговением покосился на Родиона Константиновича, который эффектно стоял, выпятив грудь в рубашке с полосками, чуть наклонив голову с зачесанной назад белоснежной прядью волос, и слушал спор между Александром Михайловичем и коллегой – разговор, кажется, шел о Киргизии, о Ферганской долине и об Оше. Наде захотелось едко добавить, что все несчастные, которым оказывал благодеяния Родион Константинович, становились верными и преданными его рабами, а если кому-то помогал Коля, то ему садились на шею и вели себя по-свински. Но потом решила, что это несправедливо. Она подошла к спорящим в момент, когда Александр Михайлович говорил:
– …это их разборки, русских не трогают, русские на базаре не торгуют.
Надя прислушалась, ей нравилось, когда что-нибудь где-нибудь происходило – тем более занимательное. Но коллега отошел, и Родион Константинович поведал Александру Михайловичу доверительно:
– Мы Илюшкиных родителей все-таки разыскали. Вернее, мать. Где отец, кто он – непонятно. Может, сама не знает.
– А надо ли? – засомневался Александр Михайлович. Он считал странной ситуацию, когда от Ильи, который был усыновлен в младенчестве, не скрывали, что он приемный.
– Должен знать родителей, – уверенно пробасил Родион Константинович. – Он ездил к матери на той неделе. В Электростали живет, продавщица. Не пустила… даже разговаривать не захотела.
– Это же травма! – воскликнул Александр Михайлович.