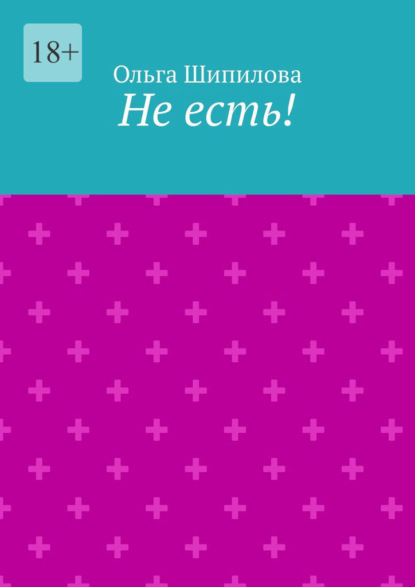По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Не есть!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дато хлопает своими длинными ресницами как наивный ребенок, но я хитра, я все видела, не попадусь на его уловочки!
– О ком ты говоришь?
– О хрюше на пляже!
Я кричу и давлюсь слезами, долго кашляю. Потом медленно, выравнивая сбившееся дыхание, начинаю в деталях все объяснять, на случай, если Дато запамятовал свою визуальную измену!
Он внимательно слушает мою тираду, всхлипывания и сморкания в розовую майку с Микки Маусом.
– У тебя не в порядке с психикой. – Дато говорит это так осторожно, будто сообщает о терминальной стадии рака безнадежному больному. – Это все от голода. – Он ищет оправдание моей болезни. – Надо есть!
– Да? – шепотом спрашиваю я.
– Да, – так же шепотом, как мудрый доктор, подтверждает Дато.
И это его «надо» лишает меня сил полностью. Я задыхаюсь, мне нечем дышать.
– Ну, раз надо, так и ешь! – шепчу я и не знаю, произнесла ли я эти слова вслух.
В безумной агонии, захлебываясь обидой, выскакиваю из комнаты, бегу по коридору и впервые не чувствую его запахи. Потом мчусь по ступеням лестницы, подворачиваю ногу и… лечу.
Мне показалось, что я стала Альбатросом. Мне больше не больно, все так легко! Небо Ялты кружится надо мной и звенит. Как же хорошо быть невесомым перышком среди плывущих мягких облаков!
Спустя несколько секунд Дато подхватывает меня на руки как раненную птицу. Все, что я ощущаю – это вернувшуюся в его тело дрожь и свой гортанный стон…
Ровно через пятнадцать минут меня увезут на карете скорой помощи в лихорадке, вызванной коронавирусной инфекцией. РНК вируса, поразившая мою нервную систему и кору головного мозга, оправдает меня в глазах Дато. Но я стану такой слабой, что буду бояться только одного: чтобы Дато никуда не ушел. И он останется в моей жизни, а голод – нет.
Этот день явится мне началом истинного отречения от еды. Я потеряю ее вкус и запах, желание ее и наслаждение ею. Когда исчезнут вкус и запах – голод перестанет существовать. Придет странная лень жевать, унылость одного единственного ужина, когда мне скучно смотреть на тарелки и ложки. Я буду есть только жидкую пищу, пропуская по пищеводу липкую жижу перетертых крупинок овощей. Со временем мне наскучит даже глотать. Я перестану узнавать еду. Она станет неразличимой от других несъедобных предметов. Сначала незаметно, а потом все стремительнее, я начну таять каплями шоколада на махровом пляжном полотенце. Мои органы будут издавать протяжное шипение и плавиться как жир на сковороде. Все войдет в иное русло и потечет само собой, где я уже не контролирую свое тело. Меня понесет тихий поток, я не стану противиться ему, принимая себя новой, успокоенной, просветленной, превращаясь в тот последний недостающий штрих идеальной картины, в которую вписан мой совершенный мир.
Пройдет всего несколько месяцев с того момента, как в порт влетала «Комета» и возвышалась надо мной белоснежная часовня, прежде чем я найду себя на кровати без половых признаков, с обнаженным черепом, низкой сатурацией и веткой груши в окне. Мне покажется, будто минула целая вечность. Время растянется жевательной резинкой, залипнет, замедлится. Эмоции откажутся от меня, притупятся. Останется лишь одна единственная неловкость перед Новомученниками да отчаяние из-за невозможности вдыхать запах лаванды и чувствовать на вкус море. Все остальное перестанет тревожить: и тело, и сексуальность, и красота. Но, думаю, стоит рассказать о том, с чего все началось, как от естественности женского тела, заложенного в каждую девочку природой, я пришла к естественности, которую понимаю только я одна; как долго я вычерчивала круг, из которого меня теперь не достать ни убеждениями, ни упреками, ни слезами.
Глава 2
Сколько себя помню, я испытывала тяготение к порядку, а если быть точнее, к упорядоченности. Детский мир с первого вопля в роддоме и до последнего выпускного возгласа в школе наделен суетой. Суета не уживается с познанием и созерцанием. Упорядоченность не терпит суеты. Мое окружение всегда вносило и создавало вокруг меня хаос. Я сопротивлялась этому, стараясь всеми возможными и известными способами дисциплинировать жизнь рядом. Когда же этого не выходило, я дисциплинировала саму себя и наводила порядок в том немногом, что мне принадлежало. Я создавала свои собственные ритуалы слаженности моего внутреннего и чужого внешнего, которым самоотверженно подчинялась, фанатично чтила и почитала.
Моя школа, по определению, была лучшей в городе, как и я – лучшей учений во всей школе. Другое не имело места существовать. Мои одноклассники ничем не отличались от шумных ялтинских школьников, и я старательно, порой забывая свои внутренние установки, общалась с каждым из них. Со мной дружили все, а я – со всеми, тем самым не являясь другом никому. Свою внутреннюю замкнутость я отменно прятала за маску благосклонности, в глубине души определяя свою исключительность, не свойственную малолетним детям, ибо все чего я хотела в жизни – писать – остальное отвлекало. Друзья создают хаос и отнимают время.
Отнимала время и еда. Помимо отличной учебы я отличалась еще притупленным аппетитом, не понимая, какой он у меня: хороший или плохой. Голода я тоже не чувствовала. Просто существовала еда, которая нравилась, предложи мне ее в любое время дня и ночи. То было картофельное столовское пюре и такая же столовская рыбная котлета, лишенная вкуса, специй и соли. В начальной школе, как и в детском саду, меня кормили силком. Зажимали нос и пихали в рот ложку с борщом или зразой, приговаривая: «Жуй-глотай»! Я боролась насколько хватало энергии, потом смиренно заглатывала еду как несчастная специально откормленная утка для получения фуа-гра. В моем случае для получения воспитателями и учителями похвалы от администрации. Это нарушало порядок в моем мире, но упорядочивало построение жировых клеток на моем теле. Сейчас я считаю сотворенное насилие над моим детским организмом, как и над психикой, наивысшим вселенским злом, ничем не отличающимся от насилия сексуального. Но дети слишком робки перед миром взрослых, кроме как истерик и капризов им нечем себя защитить. Я не была ни капризной, ни истеричной, поэтому даже такого щита защиты у меня не было.
В средней школе закармливания прекратились, однако привычка есть, даже когда не хочется, надежно поселилась в голове. Привычка всему начало. Начало обретения и начало потери. Я потеряла свойственную детям угловатость и приобрела присущие лишь женщинам формы. Еда, точнее ритуал поглощения еды, преследовал меня дома после уроков. Пища успокаивала, упорядочивала мысли, эмоции. Приборы чинно раскладывались мной на столе, даже тогда, когда к тому не было никаких предпосылок: ни голода, ни интереса, ни желания. Блюда выносились из скромной кухоньки, потрясая своими изысками, подавались маме, знакомым, родственникам. Гости умилялись: «Такая маленькая и уже хозяйка!» Они ели, ела и я, ничего не чувствуя, исключительно ради обряда, шаблона, взращенных во мне искусственно.
Все, что касалось школьной пищи, явилось запретом, организованным и созданным моими личными установками и категориями. В школе я испытывала тревогу, поскольку детством руководят инстинкт и спонтанность, а тревога не позволяет создать церемонию безмолвной трапезы.
Особое волнение на меня наводили школьные обеды. Нетерпеливый звонок большой перемены – табунный топот ошалелых ног, искаженные голодом лица, похожие на оскалы, стайный порыв и… – дележка еды. Кто успел – тот и съел! Не вызывающая у меня интереса пища отбиралась сиюминутно интересующимися ею. Причем, предназначенная не мне – тридцати двум ртам моих одноклассников.
Школьная столовая имеет свой собственный уклад, свою уникальную жизнь и свои особые правила, одно из которых – дежурство. Именно оно и создает хаос, которого я так тщательно избегала. Даже сейчас, вспоминая детали помощи кухонным работникам, меня охватывает ужас. Ужас, заставляющий больше не есть.
Дежурных отпускали за двадцать минут до звонка, многим моим одноклассникам это очень нравилось, для меня же являлось сущей каторгой. Нехотя я тянулась через весь школьный коридор туда, где подвергала себя истинным пыткам. Помещение школьной столовой начиналось умывальниками и включало в себя просторный зал, отгороженный прямоугольными столами на две части: большую и маленькую. Большая – для всех, маленькая – для классов на карантине. Карантины случались часто: то менингит, то ветрянка. Также имелся протяженный конвейер для грязных тарелок, который работал десять раз на моей памяти. В его завершении покоилось окно посудомоечной комнаты, на стене которой висел огромный плакат со словами: «Когда я ем, я глух и нем!» Рядом стопкой возвышались подносы, именуемые разносами, а чуть дальше – кухня с длинным металлическим столом ожидания, куда я и должна была следовать вместе со своей напарницей, захватив подносы. На каждый устанавливалось как минимум шесть тарелок с порциями. А лучше – семь. Но я могла унести только четыре, потому как исключительно такое количество тарелок аккуратно умещалось на подносе, чтобы краями своими не цеплять пюре и курицу. Кухонных работников упорядоченность четырех тарелок на моих подносах подвергала истерии. Они кричали, обвиняли в нерасторопности и задержке очереди. Очередь, как правило, старшеклассники, лютовала, норовила дать мне подзатыльник за неоперативность, либо стащить тарелку с едой. «Меньше зевай, корова!» – кричал какой-нибудь оболтус, дожевывая украденную котлету или курицу. Это выглядело омерзительно: неровный ряд зубов, выпрыгивающий наружу язык в слюне и куски мяса между зубного ряда. Я краснела и часто роняла на пол поднос. Что за этим следовало, не стоит даже описывать! Потом нужно было разнести борщ, салат, компот и булочки. Я тихо молилась, чтобы этот ад поскорее закончился, но он продолжался. Раздавался звонок, гремела от копытного топота школа, влетали в столовую оживленные школьники. Мои одноклассники окидывали взглядом столы и приходили в ярость. Это не сюда, здесь не туда, там не хватило!
Так продолжалось года два три раза в месяц, пока Господь, наконец, не услышал мои безмолвные стенания и не послал мне во спасение уверенную троечницу, мою же одноклассницу Таньку Круглову. То была бойкая девочка, овальной формы с двумя красными бантами в совершенно рыжих волосах.
– Послушай, – однажды шепнула она мне на ухо, – давай я за тебя подежурю. А ты за меня сочинение напишешь.
И я согласилась, не просто согласилась, а пришла в восторг, потому как писать я любила, а дежурить – ненавидела.
В старшей школе Танька продолжила дежурить за меня, я же прекратила писать за нее сочинения, ибо Танька отдалась власти привычки, которая всему начало и конец всему тоже. А я отдалась правлению своего тяжелого нрава, что начал ухудшаться с каждым годом, мешая мне жить и делая общение со мной часто невыносимым для окружающих. Снисходительность в одну секунду сменялась деспотизмом. Должно быть, я становилась эгоисткой, скверной, избалованной вниманием отличницей. Голод умеет испортить характер.
– Мне только салат из свежих овощей, картошку отдашь Коле, Вене котлету, булочку и компот Димке, им нужнее, они мальчики, – командовала я, – ах, да, к моему салату две вилочки не забудь!
– Зачем две? – всякий раз переспрашивала наивная добрая Танька.
– Потому как без ножа есть не умею!
Нож, конечно же, для салата не требовался вовсе, но орудовать двумя вилочками, выуживая из огромной тарелки овощи и переносить их на другую, поменьше, было гораздо удобнее, создавалась некая, пусть крошечная, гармония трапезы, условно похожая на китайский ритуал принятия пищи, где приборами служат бамбуковые палочки. Таким образом, при вечном дефиците приборов в школьной столовой, подчеркивалось мое превосходство, знак первенства, мой шах и мат всем тем, кто насмехался надо мной в момент тяжких школьных дежурств.
Наш директор, Евдоксия Данактовна, была увлечена вселенским разумом и космическими бумерангами. Она полагала, что только вегетарианство спасет мир, и хотя отменить мясные котлеты не умела, все же уверенно заполнила школьные столы овощными сырыми салатами, именуемыми: «Здоровье» «Лошадиная радость», «Зеленая услада». И я ей поверила. Стала адептом «Лошадиной радости». Пророщенный овес озорно потрескивал на зубах, сочно хрустела свекла и руккола. Вовлеченность в тайную церемонию здорового, не требующего крови образа мышления, позволила принимать пищу теперь и в школе. Здоровая еда овладела моим рассудком вместе с космическими бумерангами, и я начала строить свое тело заново, для начала разрушив все, что было в нем несовершенным.
Маниакальное тяготение к порядку без изъянов начиналось с канцелярских товаров и закончилось телом. Я всегда любила прилежность в одежде и вещах, относящихся к моей собственности. Ручки, карандаши, пеналы и тетради должны были находиться в идеальном состоянии и в таком же идеале располагаться на парте. Порой не достигнутый мной идеал в расстановке, раскладке вещей, сводил с ума и часто становился причиной конфликтов с одноклассниками, в частности с соседкой по парте Ритой Беловой. Своей подвижностью, острыми локтями, просьбами, она лишала меня рациональности и здравого рассудка, к которым я так стремилась, будучи человеком творческим и беспокойным. Я вычерчивала на парте тонкую, идеальную линию, чтобы Рита не толкала меня во время письма, не пересекала ее своими неосторожными движениями, не касалась моих вещей, не поселяла на них свой запах. Но Рита упорно нарушала мое личное пространство, учиняла конфронтацию не только между нами, но и внутри меня. Однажды она без спроса взяла с парты мою стирательную резинку: бесподобно белый квадратик от известного производителя канцтоваров. Этим чудом: мягким, нежным, пахнущим успехом, выдающимися способностями, отличными оценками и блестящими ответами на уроках, я не позволила себе воспользоваться ни разу, даже в мыслях. Лишь осязать, подносить к носу, вдыхать! Разве не для этого оно создано?! Но Белова ничего не знала об успехе и грубо взяла мое чудо, пока я увлеченно слушала учителя словесности. Гибель совершенства я заметила лишь тогда, когда наша парта начала содрогаться от приступа ярости Беловой и сеять на пол черные катышки. Рита отчаянно терла моим ластиком свою книгу.
– Какой урод хрестоматию изрисовал?! – шипела Белова, закусив нижнюю губу.
Меня едва не разбил паралич, оцепенение, сковавшее в одночасье, метнулось безысходными рыданиями, да так, что меня, шестнадцатилетнюю, успокаивал весь класс.
– Простите, я же не знала, что нельзя… – испуганно разводила руками Белова, – если бы я знала, то…
– Заткнись, дебилка, – шептала я, не в силах даже произносить слова в голос, так остры были удары разломленных неотесанностью Беловой сколов сердца, – да что ты вообще знаешь? Таким как ты знать не суждено!
Класс возненавидел Белову, каждый вспомнил, что и когда Рита брала украдкой и уже не возвращала в прежнем состоянии. Риту было за что нелюбить, у всякого нашлись свои причины; и пусть никто кроме меня так не тяготел к порядку, но все же увлекся смыслом структурирования. Перфекционизм бывает заразителен. Я же Белову не простила, даже не глядя на врученный в знак примирения пакетик «Мишек Гамми», которых прежде обожала. «Мишек» я взяла, а Белову вычеркнула из списка людей, терпимых мною…
Через год Рита Белова так же бессовестно и без разрешения возьмет у меня мальчика, класс объявит ей бойкот, а я уже не рассержусь: мальчик не был похож на белоснежный безупречный ластик.
Мои мысли опутает нить сверхважной идеи идеального тела.
Глава 3
Тело человека – не просто резервуар систем, органов и желез. Это уникальный сосуд, в котором кроется душа, чувства, разум, эмоции, посылы любить и ненавидеть, творить и разрушать. Это единственное, чем мы можем управлять даже тогда, когда всем остальным правят другие. Тело принадлежит нам неотъемлемой частью жизни, и кто как не мы владеем знанием о своем сосуде?! Однако этот сосуд должно чем-то наполнять, поскольку он весьма хрупок, если не имеет в себе содержимого. Духовность, любовь, сострадание, вера – это много, и это мало одновременно, потому как в основе жизни, сколь грубо это не звучало бы, лежит еда. И как скучна пустая ваза без цветов, сколь прекрасна она не была бы, так безнадежно уныло человеческое тело без еды. Но как отыскать, угадать ту нужную золотую середину да Винчи, чтобы едой из красоты не сотворить уродства?
Мы слишком много едим, в этом я убеждена. Едим за компанию, от скуки, из-за радости, праздности. Едим то, что красиво, вкусно, безобразно, полезно, вредно, испорчено. Едим тех, кто мычал, блеял, визжал; кого замучили, забили, застрелили, зарезали. Еда не может нести здоровую красоту телу, если она есть страдание и смерть. Жизнь полнится жизнью.
В этом была уверена и Евдоксия Данактовна, наш бессменный, всегда энергичный телесно и отстраненный от мира людей духовно, директор лучшей в городе школы. Она учила старшеклассников самому важному, к сожалению, уроки эти понимали немногие, большинство же либо отмахивалось, либо открыто насмехалось. Например, Евдоксия Данактовна доказывала себе и клялась в этом другим, что Вселенная ко всему чувствительна, поддается любому посылу, направленному разумом. Если желать здоровья и счастья окружающим, то будешь счастлив и сам. Непременно нужно здороваться со взрослыми, быть учтивым, порядочным и милосердным, тогда обязательно в старости не останешься покинутым людьми.
Дети в старость не верят, потому мои одноклассники считали Данактовну человеком больным на голову, который говорит чепуху, ибо старость и вселенский бумеранг казались чем-то сверхъестественным и имели знак равенства. А ее монологи о еде заставляли класс надрываться от хохота. Евдоксия Данактовна, отменив урок литературы, усадив учителя за последнюю парту, мыслями своими опережая речь, и оттого заикаясь, долго глагольствовала о боли, о страданиях того куска мяса, который так любим многими в отбивной. Она уверяла, что мы, даже не задумываясь, размахиваем трупом на вилочке. Вся еда страдает, даже морковь и петрушка, никто не хочет быть сорванным или выдернутым из земли. Все в мире стенает и хочет жить. Посему следует минимизировать процесс получения боли. Поедание растительной пищи – это наименьшее вселенское зло, творимое человеком и доступное всему человечеству. Нужно отказаться от кровопролития, особенно избегать рыбы, по причине того, что она даже стенать не умеет. Просить прощения у всякого живого, нарушенного тобою ради существования. «Я есть жизнь, которая хочет жить, ради того, чтобы жить,» – повторяла часто Данактовна принцип благоговения перед жизнью Альберта Швейцера. Его этическое учение, сутью которого являлось выказывание почтения перед жизни как по отношению к своей воле к жизни, так и по отношению к любой другой, я запомню на всю свою мученическую жизнь. «Добро то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей», – гласила книга «Культура и этика», рожденная в 1915 году самим Альбертом и его путешествием по африканской реке Огове. Швейцер закрепил во мне уверенное чувство вины перед всем созданным природой и потревоженным мною. Впоследствии всего на свете мне станет жаль. Что важнее: капуста, которую облюбовали белянки, или я, желающая лишить роста и капусту и гусениц белянки?
Слова же Евдоксии Данактовны упадут в плодородную почву в моем лице. Я так приму все близко к сердцу, что не смогу есть. И… начну таять. Растворяться. Вселенная, это мирное и доброе существо, обглодает меня… я позволю ей это сделать.
Вселенский бумеранг расшиб мне мозг – я уверовала в культ жизни ради жизни.
– Не печалься, – отрешенно успокаивала меня Евдоксия Данактовна, холодно поглаживая по плечу, – такие девочки как ты не должны быть грустными, запомни, в жизни все легко и просто: сначала ты ешь овощи, потом, после смерти, овощи едят тебя. Эх, знала бы ты только, какие огурцы на останках растут, а как зреют!
– О ком ты говоришь?
– О хрюше на пляже!
Я кричу и давлюсь слезами, долго кашляю. Потом медленно, выравнивая сбившееся дыхание, начинаю в деталях все объяснять, на случай, если Дато запамятовал свою визуальную измену!
Он внимательно слушает мою тираду, всхлипывания и сморкания в розовую майку с Микки Маусом.
– У тебя не в порядке с психикой. – Дато говорит это так осторожно, будто сообщает о терминальной стадии рака безнадежному больному. – Это все от голода. – Он ищет оправдание моей болезни. – Надо есть!
– Да? – шепотом спрашиваю я.
– Да, – так же шепотом, как мудрый доктор, подтверждает Дато.
И это его «надо» лишает меня сил полностью. Я задыхаюсь, мне нечем дышать.
– Ну, раз надо, так и ешь! – шепчу я и не знаю, произнесла ли я эти слова вслух.
В безумной агонии, захлебываясь обидой, выскакиваю из комнаты, бегу по коридору и впервые не чувствую его запахи. Потом мчусь по ступеням лестницы, подворачиваю ногу и… лечу.
Мне показалось, что я стала Альбатросом. Мне больше не больно, все так легко! Небо Ялты кружится надо мной и звенит. Как же хорошо быть невесомым перышком среди плывущих мягких облаков!
Спустя несколько секунд Дато подхватывает меня на руки как раненную птицу. Все, что я ощущаю – это вернувшуюся в его тело дрожь и свой гортанный стон…
Ровно через пятнадцать минут меня увезут на карете скорой помощи в лихорадке, вызванной коронавирусной инфекцией. РНК вируса, поразившая мою нервную систему и кору головного мозга, оправдает меня в глазах Дато. Но я стану такой слабой, что буду бояться только одного: чтобы Дато никуда не ушел. И он останется в моей жизни, а голод – нет.
Этот день явится мне началом истинного отречения от еды. Я потеряю ее вкус и запах, желание ее и наслаждение ею. Когда исчезнут вкус и запах – голод перестанет существовать. Придет странная лень жевать, унылость одного единственного ужина, когда мне скучно смотреть на тарелки и ложки. Я буду есть только жидкую пищу, пропуская по пищеводу липкую жижу перетертых крупинок овощей. Со временем мне наскучит даже глотать. Я перестану узнавать еду. Она станет неразличимой от других несъедобных предметов. Сначала незаметно, а потом все стремительнее, я начну таять каплями шоколада на махровом пляжном полотенце. Мои органы будут издавать протяжное шипение и плавиться как жир на сковороде. Все войдет в иное русло и потечет само собой, где я уже не контролирую свое тело. Меня понесет тихий поток, я не стану противиться ему, принимая себя новой, успокоенной, просветленной, превращаясь в тот последний недостающий штрих идеальной картины, в которую вписан мой совершенный мир.
Пройдет всего несколько месяцев с того момента, как в порт влетала «Комета» и возвышалась надо мной белоснежная часовня, прежде чем я найду себя на кровати без половых признаков, с обнаженным черепом, низкой сатурацией и веткой груши в окне. Мне покажется, будто минула целая вечность. Время растянется жевательной резинкой, залипнет, замедлится. Эмоции откажутся от меня, притупятся. Останется лишь одна единственная неловкость перед Новомученниками да отчаяние из-за невозможности вдыхать запах лаванды и чувствовать на вкус море. Все остальное перестанет тревожить: и тело, и сексуальность, и красота. Но, думаю, стоит рассказать о том, с чего все началось, как от естественности женского тела, заложенного в каждую девочку природой, я пришла к естественности, которую понимаю только я одна; как долго я вычерчивала круг, из которого меня теперь не достать ни убеждениями, ни упреками, ни слезами.
Глава 2
Сколько себя помню, я испытывала тяготение к порядку, а если быть точнее, к упорядоченности. Детский мир с первого вопля в роддоме и до последнего выпускного возгласа в школе наделен суетой. Суета не уживается с познанием и созерцанием. Упорядоченность не терпит суеты. Мое окружение всегда вносило и создавало вокруг меня хаос. Я сопротивлялась этому, стараясь всеми возможными и известными способами дисциплинировать жизнь рядом. Когда же этого не выходило, я дисциплинировала саму себя и наводила порядок в том немногом, что мне принадлежало. Я создавала свои собственные ритуалы слаженности моего внутреннего и чужого внешнего, которым самоотверженно подчинялась, фанатично чтила и почитала.
Моя школа, по определению, была лучшей в городе, как и я – лучшей учений во всей школе. Другое не имело места существовать. Мои одноклассники ничем не отличались от шумных ялтинских школьников, и я старательно, порой забывая свои внутренние установки, общалась с каждым из них. Со мной дружили все, а я – со всеми, тем самым не являясь другом никому. Свою внутреннюю замкнутость я отменно прятала за маску благосклонности, в глубине души определяя свою исключительность, не свойственную малолетним детям, ибо все чего я хотела в жизни – писать – остальное отвлекало. Друзья создают хаос и отнимают время.
Отнимала время и еда. Помимо отличной учебы я отличалась еще притупленным аппетитом, не понимая, какой он у меня: хороший или плохой. Голода я тоже не чувствовала. Просто существовала еда, которая нравилась, предложи мне ее в любое время дня и ночи. То было картофельное столовское пюре и такая же столовская рыбная котлета, лишенная вкуса, специй и соли. В начальной школе, как и в детском саду, меня кормили силком. Зажимали нос и пихали в рот ложку с борщом или зразой, приговаривая: «Жуй-глотай»! Я боролась насколько хватало энергии, потом смиренно заглатывала еду как несчастная специально откормленная утка для получения фуа-гра. В моем случае для получения воспитателями и учителями похвалы от администрации. Это нарушало порядок в моем мире, но упорядочивало построение жировых клеток на моем теле. Сейчас я считаю сотворенное насилие над моим детским организмом, как и над психикой, наивысшим вселенским злом, ничем не отличающимся от насилия сексуального. Но дети слишком робки перед миром взрослых, кроме как истерик и капризов им нечем себя защитить. Я не была ни капризной, ни истеричной, поэтому даже такого щита защиты у меня не было.
В средней школе закармливания прекратились, однако привычка есть, даже когда не хочется, надежно поселилась в голове. Привычка всему начало. Начало обретения и начало потери. Я потеряла свойственную детям угловатость и приобрела присущие лишь женщинам формы. Еда, точнее ритуал поглощения еды, преследовал меня дома после уроков. Пища успокаивала, упорядочивала мысли, эмоции. Приборы чинно раскладывались мной на столе, даже тогда, когда к тому не было никаких предпосылок: ни голода, ни интереса, ни желания. Блюда выносились из скромной кухоньки, потрясая своими изысками, подавались маме, знакомым, родственникам. Гости умилялись: «Такая маленькая и уже хозяйка!» Они ели, ела и я, ничего не чувствуя, исключительно ради обряда, шаблона, взращенных во мне искусственно.
Все, что касалось школьной пищи, явилось запретом, организованным и созданным моими личными установками и категориями. В школе я испытывала тревогу, поскольку детством руководят инстинкт и спонтанность, а тревога не позволяет создать церемонию безмолвной трапезы.
Особое волнение на меня наводили школьные обеды. Нетерпеливый звонок большой перемены – табунный топот ошалелых ног, искаженные голодом лица, похожие на оскалы, стайный порыв и… – дележка еды. Кто успел – тот и съел! Не вызывающая у меня интереса пища отбиралась сиюминутно интересующимися ею. Причем, предназначенная не мне – тридцати двум ртам моих одноклассников.
Школьная столовая имеет свой собственный уклад, свою уникальную жизнь и свои особые правила, одно из которых – дежурство. Именно оно и создает хаос, которого я так тщательно избегала. Даже сейчас, вспоминая детали помощи кухонным работникам, меня охватывает ужас. Ужас, заставляющий больше не есть.
Дежурных отпускали за двадцать минут до звонка, многим моим одноклассникам это очень нравилось, для меня же являлось сущей каторгой. Нехотя я тянулась через весь школьный коридор туда, где подвергала себя истинным пыткам. Помещение школьной столовой начиналось умывальниками и включало в себя просторный зал, отгороженный прямоугольными столами на две части: большую и маленькую. Большая – для всех, маленькая – для классов на карантине. Карантины случались часто: то менингит, то ветрянка. Также имелся протяженный конвейер для грязных тарелок, который работал десять раз на моей памяти. В его завершении покоилось окно посудомоечной комнаты, на стене которой висел огромный плакат со словами: «Когда я ем, я глух и нем!» Рядом стопкой возвышались подносы, именуемые разносами, а чуть дальше – кухня с длинным металлическим столом ожидания, куда я и должна была следовать вместе со своей напарницей, захватив подносы. На каждый устанавливалось как минимум шесть тарелок с порциями. А лучше – семь. Но я могла унести только четыре, потому как исключительно такое количество тарелок аккуратно умещалось на подносе, чтобы краями своими не цеплять пюре и курицу. Кухонных работников упорядоченность четырех тарелок на моих подносах подвергала истерии. Они кричали, обвиняли в нерасторопности и задержке очереди. Очередь, как правило, старшеклассники, лютовала, норовила дать мне подзатыльник за неоперативность, либо стащить тарелку с едой. «Меньше зевай, корова!» – кричал какой-нибудь оболтус, дожевывая украденную котлету или курицу. Это выглядело омерзительно: неровный ряд зубов, выпрыгивающий наружу язык в слюне и куски мяса между зубного ряда. Я краснела и часто роняла на пол поднос. Что за этим следовало, не стоит даже описывать! Потом нужно было разнести борщ, салат, компот и булочки. Я тихо молилась, чтобы этот ад поскорее закончился, но он продолжался. Раздавался звонок, гремела от копытного топота школа, влетали в столовую оживленные школьники. Мои одноклассники окидывали взглядом столы и приходили в ярость. Это не сюда, здесь не туда, там не хватило!
Так продолжалось года два три раза в месяц, пока Господь, наконец, не услышал мои безмолвные стенания и не послал мне во спасение уверенную троечницу, мою же одноклассницу Таньку Круглову. То была бойкая девочка, овальной формы с двумя красными бантами в совершенно рыжих волосах.
– Послушай, – однажды шепнула она мне на ухо, – давай я за тебя подежурю. А ты за меня сочинение напишешь.
И я согласилась, не просто согласилась, а пришла в восторг, потому как писать я любила, а дежурить – ненавидела.
В старшей школе Танька продолжила дежурить за меня, я же прекратила писать за нее сочинения, ибо Танька отдалась власти привычки, которая всему начало и конец всему тоже. А я отдалась правлению своего тяжелого нрава, что начал ухудшаться с каждым годом, мешая мне жить и делая общение со мной часто невыносимым для окружающих. Снисходительность в одну секунду сменялась деспотизмом. Должно быть, я становилась эгоисткой, скверной, избалованной вниманием отличницей. Голод умеет испортить характер.
– Мне только салат из свежих овощей, картошку отдашь Коле, Вене котлету, булочку и компот Димке, им нужнее, они мальчики, – командовала я, – ах, да, к моему салату две вилочки не забудь!
– Зачем две? – всякий раз переспрашивала наивная добрая Танька.
– Потому как без ножа есть не умею!
Нож, конечно же, для салата не требовался вовсе, но орудовать двумя вилочками, выуживая из огромной тарелки овощи и переносить их на другую, поменьше, было гораздо удобнее, создавалась некая, пусть крошечная, гармония трапезы, условно похожая на китайский ритуал принятия пищи, где приборами служат бамбуковые палочки. Таким образом, при вечном дефиците приборов в школьной столовой, подчеркивалось мое превосходство, знак первенства, мой шах и мат всем тем, кто насмехался надо мной в момент тяжких школьных дежурств.
Наш директор, Евдоксия Данактовна, была увлечена вселенским разумом и космическими бумерангами. Она полагала, что только вегетарианство спасет мир, и хотя отменить мясные котлеты не умела, все же уверенно заполнила школьные столы овощными сырыми салатами, именуемыми: «Здоровье» «Лошадиная радость», «Зеленая услада». И я ей поверила. Стала адептом «Лошадиной радости». Пророщенный овес озорно потрескивал на зубах, сочно хрустела свекла и руккола. Вовлеченность в тайную церемонию здорового, не требующего крови образа мышления, позволила принимать пищу теперь и в школе. Здоровая еда овладела моим рассудком вместе с космическими бумерангами, и я начала строить свое тело заново, для начала разрушив все, что было в нем несовершенным.
Маниакальное тяготение к порядку без изъянов начиналось с канцелярских товаров и закончилось телом. Я всегда любила прилежность в одежде и вещах, относящихся к моей собственности. Ручки, карандаши, пеналы и тетради должны были находиться в идеальном состоянии и в таком же идеале располагаться на парте. Порой не достигнутый мной идеал в расстановке, раскладке вещей, сводил с ума и часто становился причиной конфликтов с одноклассниками, в частности с соседкой по парте Ритой Беловой. Своей подвижностью, острыми локтями, просьбами, она лишала меня рациональности и здравого рассудка, к которым я так стремилась, будучи человеком творческим и беспокойным. Я вычерчивала на парте тонкую, идеальную линию, чтобы Рита не толкала меня во время письма, не пересекала ее своими неосторожными движениями, не касалась моих вещей, не поселяла на них свой запах. Но Рита упорно нарушала мое личное пространство, учиняла конфронтацию не только между нами, но и внутри меня. Однажды она без спроса взяла с парты мою стирательную резинку: бесподобно белый квадратик от известного производителя канцтоваров. Этим чудом: мягким, нежным, пахнущим успехом, выдающимися способностями, отличными оценками и блестящими ответами на уроках, я не позволила себе воспользоваться ни разу, даже в мыслях. Лишь осязать, подносить к носу, вдыхать! Разве не для этого оно создано?! Но Белова ничего не знала об успехе и грубо взяла мое чудо, пока я увлеченно слушала учителя словесности. Гибель совершенства я заметила лишь тогда, когда наша парта начала содрогаться от приступа ярости Беловой и сеять на пол черные катышки. Рита отчаянно терла моим ластиком свою книгу.
– Какой урод хрестоматию изрисовал?! – шипела Белова, закусив нижнюю губу.
Меня едва не разбил паралич, оцепенение, сковавшее в одночасье, метнулось безысходными рыданиями, да так, что меня, шестнадцатилетнюю, успокаивал весь класс.
– Простите, я же не знала, что нельзя… – испуганно разводила руками Белова, – если бы я знала, то…
– Заткнись, дебилка, – шептала я, не в силах даже произносить слова в голос, так остры были удары разломленных неотесанностью Беловой сколов сердца, – да что ты вообще знаешь? Таким как ты знать не суждено!
Класс возненавидел Белову, каждый вспомнил, что и когда Рита брала украдкой и уже не возвращала в прежнем состоянии. Риту было за что нелюбить, у всякого нашлись свои причины; и пусть никто кроме меня так не тяготел к порядку, но все же увлекся смыслом структурирования. Перфекционизм бывает заразителен. Я же Белову не простила, даже не глядя на врученный в знак примирения пакетик «Мишек Гамми», которых прежде обожала. «Мишек» я взяла, а Белову вычеркнула из списка людей, терпимых мною…
Через год Рита Белова так же бессовестно и без разрешения возьмет у меня мальчика, класс объявит ей бойкот, а я уже не рассержусь: мальчик не был похож на белоснежный безупречный ластик.
Мои мысли опутает нить сверхважной идеи идеального тела.
Глава 3
Тело человека – не просто резервуар систем, органов и желез. Это уникальный сосуд, в котором кроется душа, чувства, разум, эмоции, посылы любить и ненавидеть, творить и разрушать. Это единственное, чем мы можем управлять даже тогда, когда всем остальным правят другие. Тело принадлежит нам неотъемлемой частью жизни, и кто как не мы владеем знанием о своем сосуде?! Однако этот сосуд должно чем-то наполнять, поскольку он весьма хрупок, если не имеет в себе содержимого. Духовность, любовь, сострадание, вера – это много, и это мало одновременно, потому как в основе жизни, сколь грубо это не звучало бы, лежит еда. И как скучна пустая ваза без цветов, сколь прекрасна она не была бы, так безнадежно уныло человеческое тело без еды. Но как отыскать, угадать ту нужную золотую середину да Винчи, чтобы едой из красоты не сотворить уродства?
Мы слишком много едим, в этом я убеждена. Едим за компанию, от скуки, из-за радости, праздности. Едим то, что красиво, вкусно, безобразно, полезно, вредно, испорчено. Едим тех, кто мычал, блеял, визжал; кого замучили, забили, застрелили, зарезали. Еда не может нести здоровую красоту телу, если она есть страдание и смерть. Жизнь полнится жизнью.
В этом была уверена и Евдоксия Данактовна, наш бессменный, всегда энергичный телесно и отстраненный от мира людей духовно, директор лучшей в городе школы. Она учила старшеклассников самому важному, к сожалению, уроки эти понимали немногие, большинство же либо отмахивалось, либо открыто насмехалось. Например, Евдоксия Данактовна доказывала себе и клялась в этом другим, что Вселенная ко всему чувствительна, поддается любому посылу, направленному разумом. Если желать здоровья и счастья окружающим, то будешь счастлив и сам. Непременно нужно здороваться со взрослыми, быть учтивым, порядочным и милосердным, тогда обязательно в старости не останешься покинутым людьми.
Дети в старость не верят, потому мои одноклассники считали Данактовну человеком больным на голову, который говорит чепуху, ибо старость и вселенский бумеранг казались чем-то сверхъестественным и имели знак равенства. А ее монологи о еде заставляли класс надрываться от хохота. Евдоксия Данактовна, отменив урок литературы, усадив учителя за последнюю парту, мыслями своими опережая речь, и оттого заикаясь, долго глагольствовала о боли, о страданиях того куска мяса, который так любим многими в отбивной. Она уверяла, что мы, даже не задумываясь, размахиваем трупом на вилочке. Вся еда страдает, даже морковь и петрушка, никто не хочет быть сорванным или выдернутым из земли. Все в мире стенает и хочет жить. Посему следует минимизировать процесс получения боли. Поедание растительной пищи – это наименьшее вселенское зло, творимое человеком и доступное всему человечеству. Нужно отказаться от кровопролития, особенно избегать рыбы, по причине того, что она даже стенать не умеет. Просить прощения у всякого живого, нарушенного тобою ради существования. «Я есть жизнь, которая хочет жить, ради того, чтобы жить,» – повторяла часто Данактовна принцип благоговения перед жизнью Альберта Швейцера. Его этическое учение, сутью которого являлось выказывание почтения перед жизни как по отношению к своей воле к жизни, так и по отношению к любой другой, я запомню на всю свою мученическую жизнь. «Добро то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей», – гласила книга «Культура и этика», рожденная в 1915 году самим Альбертом и его путешествием по африканской реке Огове. Швейцер закрепил во мне уверенное чувство вины перед всем созданным природой и потревоженным мною. Впоследствии всего на свете мне станет жаль. Что важнее: капуста, которую облюбовали белянки, или я, желающая лишить роста и капусту и гусениц белянки?
Слова же Евдоксии Данактовны упадут в плодородную почву в моем лице. Я так приму все близко к сердцу, что не смогу есть. И… начну таять. Растворяться. Вселенная, это мирное и доброе существо, обглодает меня… я позволю ей это сделать.
Вселенский бумеранг расшиб мне мозг – я уверовала в культ жизни ради жизни.
– Не печалься, – отрешенно успокаивала меня Евдоксия Данактовна, холодно поглаживая по плечу, – такие девочки как ты не должны быть грустными, запомни, в жизни все легко и просто: сначала ты ешь овощи, потом, после смерти, овощи едят тебя. Эх, знала бы ты только, какие огурцы на останках растут, а как зреют!