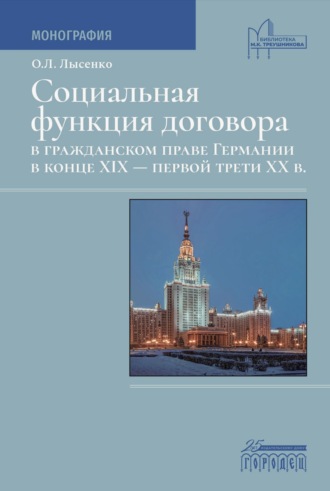
Социальная функция договора в гражданском праве Германии в конце XIX – первой трети XX века
Проблема социальной функции гражданско-правового договора, выражающаяся прежде всего в ограничении принципа «свободы договора» и становлении принципа «справедливого» («эквивалентного») договора тесно связана и с проблемой соотношения норм частного и публичного права в регулировании договорных отношений и имущественных отношений в целом.
По мнению российских цивилистов, эта проблема – одна из ключевых проблем развития и совершенствования гражданского права в России. «Дальнейшее развитие в рамках национальных правовых систем частного права, – отмечает А. С. Комаров – его упорядочение, кодификация преследовали прагматические цели, которые не всегда совпадали с концептуальными началами, определявшими принадлежность норм к частному или публичному праву (выделено мной. – О.Л.)»[31].
На эту же проблему в знаменитой работе «Основные проблемы гражданского права» обращает внимание и знаменитый российский правовед И. А. Покровский: «Граница между публичным и частным правом на протяжении истории далеко не всегда проходила в одном и том же месте, области одного и другого многократно менялись… Помимо указанной исторической изменчивости границ надо иметь в виду и то обстоятельство, что даже в каждый данный момент эти границы не представляют резкой демаркационной линии… в области гражданского права нередки случаи принудительных норм, которыми государство ограничивает свободу частных соглашений… Нет такой области отношений, для которой являлся бы единственно возможным только тот или только другой прием… Во всяком случае каждый из этих приемов имеет свою особую социальную ценность (выделено мной. – О.Л.)»[32].
На это же указывает и М. М. Агарков: «Признаки, по которым мы объединяем отдельные права и соответствующие им обязанности, лежат в совершенно других плоскостях, чем деление права на публичное и частное. Эти признаки носят чисто практический характер и обычно вытекают из тех заданий, которые преследует правовое регулирование тех или иных социальных отношений (выделено мной. – О.Л.)»[33]. Анализ развития договорного права Германии в конце XIX – первой трети XX в. дает для решения этой проблемы очень богатый материал.
Утверждение в современном гражданском праве «социальной» функции договора, принципа «справедливого» («эквивалентного») гражданско-правового договора в качестве одного из важнейших регуляторов экономической жизни в современном обществе тесно связана также с проблемой прав человека и с ее реализацией в ходе построения «социального государства».
Известный российский правовед, профессор В. Е. Чиркин, характеризуя современные западные государства, в том числе и Германию, с помощью введения в научный оборот понятия «государство социального капитализма», отмечает в качестве одной из его основополагающих черт его «роль социально-политического арбитра в обществе»[34]. Он указывает: «Сами условия современного высоко структурированного общества порождают необходимость социально-политического арбитража. Такую задачу может выполнять только государство, его органы, стоящие якобы над социальными группировками и партиями», при этом главной целью подобного «арбитража» является «забота о сохранении жизнеспособности общества». Выступая в качестве «арбитра», государство социального капитализма должно прибегать «прежде всего к поискам компромиссов и консенсуса», должно вводить «борьбу различных социальных и политических сил в мирные и правовые рамки»[35].
Одновременно с этим, по мнению В. Е. Чиркина, современное государство социального капитализма является в гораздо большей степени (чем в предшествующие периоды экономического либерализма) «регуляционным государством». Поскольку «тезис о необходимости социально ориентированной экономики стал общепризнанным», подобное государство призвано исправлять «недостатки стихийного развития (например, негативы свободы рынка, «сверхэксплуатацию» рабочей силы, что грозит социальными взрывами» и др.)[36].
Политика построения «социального» государства в Германии началась еще в период канцлерства О. фон Бисмарка в конце XIX в., однако, кульминацией данного процесса стали разработка и принятие Конституции Германской империи (Веймарской) 1919 г. – одной из первых в мире конституций, закрепивших основы социального государства. Не случайно поэтому многие положения Веймарской конституции были впоследствии включены в Основной закон ФРГ 1949 г., действующий в Германии и в настоящее время.
Таким образом, актуальность изучения проблемы усиления социальной функции договора в виде ограничения действия принципа «свободы договора» и формирования концепции «справедливого» («эквивалентного») договора в гражданском праве Германии в конце XIX – первой трети XX в. объясняется еще и в тем, что она является ярким примером стремления на деле реализовать концепцию «социального государства» как государства «всеобщего благоденствия» и понимания того, что (по образному выражению члена-корреспондента РАН, профессора Е. А. Лукашевой) «в современном мире истинными задачами и целями государства должны стать признание и обеспечение прав человека, а также утверждение солидарности и консолидации общества на основе согласования интересов» (выделено мной. – О.Л.), что «отрицание социальной роли государства неприемлемо в современном мире»[37].
В настоящее время как в отечественной, так и в зарубежной историко-правовой науке отсутствует комплексное исследование, посвященное развитию социальной функции договора в гражданском праве Германии в конце XIX – первой трети XX в.
Среди трудов историков права, в которых затрагивается проблема ограничения принципа «свободы договора» в гражданском праве Германии конца XIX – первой трети XX в., и в частности в ГГУ 1896 г. следует выделить работу профессора В. А. Савельева «Гражданский кодекс Германии (история, система, институты)». По сей день она остается практически единственной в отечественной историко-правовой науке, в которой глубоко и всесторонне освещается история разработки и принятия Германского гражданского уложения (ГГУ) 1896 г., а также содержится анализ закрепленных в нем основных институтов гражданского права Германии, в том числе и института гражданско-правового договора[38].
Особенности развития гражданского права Германии в конце XIX–XX в., в том числе института гражданско-правового договора, анализируются и в работе известного российского историка права, профессора О. А. Жидкова «История буржуазного права (до периода общего кризиса капитализма»), вышедшей в 1971 г.[39] В своей работе О. А. Жидков сумел обозначить некоторые наиболее важные тенденции в развитии гражданского права Германии в конце XIX – начале XX в. в целом и договорного права в частности. Однако в полной мере проблемы ограничения принципа «свободы договора» и формирование социально ориентированных норм в договорном праве Германии в конце XIX – первой трети XX в. в данной работе не рассмотрены.
Принцип «справедливости», в том числе и в договорном праве Германии, анализируется и в уже упоминавшейся статье судьи Верховного Суда РФ, профессора В. В. Момотова «Принцип справедливости и целесообразности в институтах англо-американских и континентально-европейских правопорядков»[40].
По мнению В. В. Момотова, в отличие от англо-американских правопорядков, для которых более характерны принципы эффективности и целесообразности в качестве основы правового регулирования, именно в континентальной Европе принцип справедливости получил наиболее глубокое отражение в праве. Причиной этого стала рецепция римского права, где этот принцип (aequitas) также был детально проработан и получил правовое закрепление (прежде всего в рамках преторского права)[41].
Применительно к ГГУ 1896 г. в статье В. В. Момотов обращает внимание на особое значение для утверждения принципа справедливости в гражданском праве Германии так называемых «каучуковых норм» – норм с «морально-этическим» наполнением, – создающих основу для широкого судейского толкования, в том числе положений «о добросовестности участников гражданских правоотношений и о запрете злоупотребления правом»[42].
При этом В. В. Момотов подчеркивает, что в сфере обязательственно-правовых отношений наиболее ярким выражением принципа справедливости являются «механизмы защиты слабой стороны договора»[43].
Закрепление в ГГУ 1896 г. принципа запрещения злоупотребления правом – знаменитого принципа запрещения «шиканы» (нем. Schikaneverbot), – и практику его применения в современном праве Германии анализирует в своей уже упоминавшейся выше знаменитой монографии «Пределы осуществления и защиты гражданских прав» профессор МГУ имени М. В. Ломоносова В. П. Грибанов[44]. При этом он обращает внимание на то, что если первоначально выражение осуществление своего права «исключительно с целью причинения вреда другому» понималось буквально, то в более позднее время его понимание значительно расширилось: в современном гражданском праве Германии допускается «возможность применения принципа шиканы и при наличии иных, кроме цели причинения вреда, интересов». «Все зависит лишь от того, какой из этих интересов будет признан определяющим». А это «всецело зависит от суда»[45].
Среди работ современных отечественных историков права, исследующих проблемы влияния идей социального государства на развитие отдельных отраслей права Германии в конце XIX – первой трети XX в., следует выделить работы К. В. Чилькиной[46]. Однако вопросы договорного права в этих работах практически не затрагиваются.
Важные сведения о развитии договорного права Германии, в том числе в период Германской империи и Веймарской республики, содержатся в вышедшей в 2022 г. монографии К. В. Нама «Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории и практики»[47], в которой подробно анализируются различные подходы к пониманию, проблемы толкования и практика применения тесно связанного с социальной функцией договора знаменитого принципа «доброй совести» (“Treu und Glauben») – одного из основополагающих принципов ГГУ 1896 г., закрепленного в § 242.
Отдельные аспекты истории развития договора личного найма и становления на его основе института трудового договора в праве Германии в конце в конце XIX – начале XX в., в том числе и проблемы усиленной защиты наемного работника в качестве «слабой» стороны в договоре, исследуются в работе известного дореволюционного российского правоведа Л. С. Таля «Трудовой договор. Цивилистическое исследование» (Ярославль, т. 1 – 1913; т. 2 – 1918)[48].
Проблемы развития договора найма услуг в Германии в конце XIX – начале XX в. затрагиваются и в диссертации А. В. Кузьменко «Предмет трудового права России: системно-юридический анализ» (СПб., 2002), а также в статье Ж. П. Осипцовой «Трудовой договор в ФРГ»[49].
Отдельные вопросы истории возникновения и развития института индивидуального трудового договора как в России, так и в зарубежных странах, в том числе в Германии рассматриваются в двухтомном «Курсе трудового права» А. М. Лушникова и М. В. Лушниковой[50].
В гораздо большей степени проблема ограничения принципа «свободы договора» и формирование социально ориентированных норм в договорном праве Германии в конце XIX – первой трети XX в. исследованы в историко-правовой науке Германии. Тем не менее, как отмечают сами германские правоведы, проблемы развития в целом гражданского права, в том числе и договорного права Германии в период Первой мировой войны и Веймарской республики являются малоизученными. На это, в частности, указывает известный правовед из Геттингена В. Зеллерт[51].
К зарубежным, прежде всего германским, правоведам, в работах которых затрагиваются проблемы усиления социальной функции договора в гражданском праве Германии, относятся: К. Цвайгерт, Х. Кетц, Л. Эннекцерус, К. Кройшелль, Г. Коинг, К.-В. Канарис, Х. Шлоссер, В. Шлютер, П. Остманн, Ф. Виакер, Р. Циммерманн, Х. Хаттенхауер, Р. Шульце, К.-В. Нерр, К. Хейнрик, Т. Перген, С. Хофер, Т. Рамм, В. Шуберт, Р. Тринкнер, М. Вольфнер, И. Рюкерт, Х. Шульте-Нельке, П. Карони, И. Брювилер, Г. Граф, С. Савалль, У. Зеллир, И. Вайс, Ф. Фельтцер, М. Рот, Е. Ейхенхофер, М. Бекер, Р. Рихарди, М. Штолляйс и др.
Наиболее концептуально важными историко-правовыми исследованиями в области истории гражданского, в том числе договорного права Германии в период Веймарской республики, являются работы германского историка права К.-В. Нерра[52].
Проблема ограничения действия принципа свободы договора в гражданском праве Германии в конце XIX в. рассматривается в работах германских историков права: К. Хейнрика «Формальная свобода и материальная справедливость»[53], Т. Пергена «Социальные задачи частного права»[54], С. Хофера «Свобода без границ»[55].
Тесно связанная с проблемой ограничения принципа «свободы договора» и формированием социально ориентированных норм в договорном праве проблема усиления «социальной» функции договора найма услуг в Германском гражданском уложении (ГГУ) 1896 г. и становления на его основе института индивидуального трудового договора в Германии в конце XIX – первой трети XX в., рассматривается как в трудах «отцов-основателей» германской науки трудового права: Отто фон Гирке, Филиппа Лотмара, Гуго Зинцхеймера, Вальтера Каскеля, Хейнца Поттхоффа, – так и в произведениях современных германских исследователей в области гражданского и трудового права Германии. Среди них можно выделить работы Ф. Гамильшега, Т. Маейра-Мали, В. Брокса, В. Шлютера, Р. Тринкнера, М. Вольфера и др.
Историко-правовой аспект в изучении института договора найма услуг и института индивидуального трудового договора в праве Германии наиболее ярко представлен в работах Т. Рамма, Х.-П. Бенера.
В ходе написания монографии автором были использованы статьи ведущих германских правоведов, опубликованные в современной юридической периодике Германии, в частности в следующих периодических изданиях: “Neue Juristische Wochenschrift (NJW)”, “Juristische Zeitung (JZ)”, “Neue Justiz”, “Der Betrieb” (DB), “Der Betriebsberater” (BB), “Juristische Rundschau”, “Juristische Schulung” (JuS), “Juristen Jahrbuch”, “Zeitschrift für das Arbeitsrecht” (ZfA), “Recht der Arbeit” (RdA), “Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht”.
Значительную роль при написании данной монографии сыграли недавно вышедшие тома, посвященные обязательственному праву в ГГУ 1896 г., в многотомном издании “Historisch-Kritischer Kommentar zum BGB” (HKK zum BGB)[56].
Глава 1. Принцип «свободы договора» в гражданском праве Германии и начало его ограничения в период Германской империи в конце XIX – начале XX в.
§ 1. Принципы «автономии частной воли» и «свободы договора» в ГГУ 1896 г. и начало их ограничения в праве Германии в конце XIX – начале XX в.
Политическое объединение Германии и принятие в 1871 г. Конституции Германской империи явились важнейшей предпосылкой для развития внутреннего рынка, завершения промышленного переворота, ускоренного развития торговли и предпринимательства. Этому же способствовало и получение пятимиллиардной контрибуции от побежденной Франции после окончания франко-прусской войны 1870–1871 гг. В это время промышленность Германии, используя в том числе и новейшие достижения науки и техники, а также опыт других стран, совершает мощный рывок в развитии и выходит на мировую арену[57].
Одним из важнейших изменений в гражданском праве Германии в этот период было проведение в жизнь либерального принципа «свободы договора» в рамках общей политики свободного рынка и свободной конкуренции (laisser-faire)[58].
Это в значительной мере было обусловлено реализацией либеральной концепции экономического развития общества, сформулированной французским экономистами XVIII в., а также английским (шотландским) экономистом и философом, основателем классической политической экономии Адамом Смитом (1723–1790) в его знаменитой работе «Исследования о природе и причинах богатства народов» (“Wealth of Nations”) (1776 г.)[59].
Оценивая главные достижения в области гражданского права Германии в XIX в., известный германский правовед Юстус Вильгельм Гедеманн писал: «Каждый может теперь заключать договоры, составлять завещания, основывать союзы в любом виде, в каком ему захочется»[60].
Анализ проводимой экономической политики и законодательства Германии второй половины XIX в. показывает, что периодом наивысшего расцвета либерализма, наибольшей свободы предпринимательства и конкуренции в Германии стало десятилетие – 1867–1878 гг. Для этого периода характерен союз правящих кругов, в лице общегерманского и прусского канцлера Отто фон Бисмарка, с представителями крупной и средней буржуазии, представленной в германском Рейхстаге в национал-либеральной партии[61].
Наиболее ярким проявлением либерализма в указанный период в законодательстве Германии стали: Закон Северо-Германского союза об устанавливаемых договором процентах 1867 г., снимающий всякие ограничения для взимания процентов по займу; так называемая Акционерная новелла 1870 г. (поправки к положениям об акционерных обществах Общегерманского торгового уложения 1861 г.[62]); Законы 1871 и 1873 гг. об объединении золотого запаса и о выпуске золотой марки в качестве единой денежной единицы Империи; а также Закон об Имперском банке 1875 г.[63]
Основополагающие принципы либерального общества и правопорядка – принцип свободы и принцип равенства всех перед законом, нашедшие конкретное выражение в гражданском праве в виде принципов «автономии частной воли» и «свободы договора», основанных на режиме равных возможностей, – определили и содержание норм первого в истории Германии Общегерманского Гражданского кодекса – Германского гражданского уложения (ГГУ) 1896 г. (работа над которым началась в 1874 г. и продолжалась более 22 лет).
Известный германский правовед Людвиг Эннекцерус отмечает, что «как в старом “общем” праве, в ГГУ в отношении гражданско-правовых договоров действует принцип “свободы договора”». Он пишет: «Таким образом, стороны, заключающие договор, могут согласовывать обязательственные отношения любого содержания, поскольку они не нарушают законодательных запретов или добрые нравы»[64].
На это же обращает внимание и германский правовед И. Колер, подчеркивающий, что в обязательственном праве в ГГУ «победоносно проведен великий принцип индивидуализации»[65].
Отличаясь высоким уровнем юридической техники, ГГУ полностью опирается на понятийный аппарат и систему науки пандектного права.
Дискуссия о том, насколько «современными» для своего времени были положения ГГУ, начавшаяся в ходе его разработки, продолжается и в настоящее время.
В то время как, по мнению ряда германских правоведов (У. Везеля, Ф. Виакера и др.), ГГУ 1896 г. – типичный «продукт» XIX в., закон, который направлен, скорее, в XIX, нежели в XX в., «поздний ребенок классического либерализма» и «плод пандектистики»[66], историк права Т. Рамм характеризует его как «компромисс между вышедшей на арену в 1848 г. буржуазией, с одной стороны, и короной и дворянством – с другой»[67]. Все это в полной мере относится и к сфере договорного права.
Положенный в основу ГГУ 1896 г. наряду с принципами «свободы собственности» и «свободы завещаний» классический буржуазный принцип «свободы договора» (Vertragsfreiheit) является одним из проявлений принципа «автономии частной воли», хотя в самом тексте Кодекса оба эти понятия отсутствуют.
Сам термин «автономия частной воли» (“Privatautonomie”) начал использоваться в правовой науке Германии уже в 1840-х годах так называемыми германистами в дискуссиях об «особых» исторически сложившихся «автономных» правах дворянских семей, городских общин и др.[68]
В качестве основополагающего принципа частного права рассматривает «автономию частной воли» и германский правовед Ернст Цительманн. В работах «Юридическое волеизъявление» (1878) и «Заблуждение и правовая сделка» (1879) он подчеркивает, что действия людей только тогда имеют юридические последствия, если они обусловлены их свободным волеизъявлением»[69].
Помимо активных сторонников, у принципов «автономии частной воли» и «свободы договора» с самого начала была масса противников. Так, по образному выражению французского писателя Анатоля Франса, закон, основанный на подобных принципах, закрепляет «равные возможности как для богатых, так и для бедных спать под мостом, просить милостыню на улице и воровать хлеб»[70]. Другой исследователь назвал проведение в жизнь принципа «свободы договора» – «свободой свободной лисы в свободном курятнике»[71].
И зарубежной, и отечественной правовой науке хорошо известна жесткая критика Первого Проекта ГГУ 1888 г. ввиду закрепления в нем безграничной «свободы договора» и практического отсутствия «социально ориентированных» норм, известного «германиста», профессора германского права в университете Берлина, активного участника «Союза за социальную политику» (“Verein für Socialpolitik”), автора книги «Социальные задачи частного права» (“Die sociale Aufgabe des Privatrechts”) Отто фон Гирке[72], а также сторонника социалистических идей Антона Менгера – профессора гражданско-процессуального права в Вене.
О. фон Гирке рассматривает «свободу договора» исключительно как «грозное оружие в руках сильных [мира сего]» и одновременно как «тупой (абсолютно негодный) инструмент в руках слабых», в силу чего «свобода договора» становится мощным «средством, позволяющим одним эксплуатировать других, беспощадным использованием духовного и экономического превосходства»[73].
На это же обращает внимание и А. Менгер. В своем знаменитом труде «Гражданское право и неимущие классы населения», вышедшем в 1890 г., он, в частности, указывает: «Никто не станет удивляться, что германское гражданское право остановилось во всех основных вопросах на том решении, которое подсказывается индивидуальным эгоизмом, если он примет во внимание историю возникновения германской системы частного права»[74]. (Весьма показательно, что в годы революции 1905–1907 гг. в России были изданы почти все произведения А. Менгера[75].)
Следствием высокого уровня абстрактности правовых норм, а также проведения в жизнь принципов «автономии частной воли» и «свободы договора» стало отсутствие в ГГУ четких общих положений о возмещении ущерба в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров, об обстоятельствах, препятствующих исполнению договора и др. По меткому выражению современного германского правоведа Р. Штюрнера, «ГГУ знает пробелы и белые пятна, но оно редко создает баррикады»[76].
Общий «либеральный» тон положений ГГУ, опора на науку пандектного права (Pandektenwissenschaft), и в силу этого определенная «дистанцированность» первого общегерманского Гражданского кодекса от решения насущных социальных задач, четко обозначившихся во второй половине XIX в., в некоторой мере компенсировались благодаря включению в его текст положений с «морально-этическим наполнением» (так называемых каучуковых норм)[77]. Эти нормы, в юридической литературе Германии известные под названием «общих» или «генеральных оговорок» (нем. Generalklauseln), содержат такие понятия, как «общественная нравственность», «добрая совесть», «обычаи гражданского оборота» и др. Речь идет о знаменитых § 138, 157, 226 и 242 ГГУ.
Согласно § 138 I все «сделки, нарушающие правила общественной нравственности, являются ничтожными». В ч. II данного параграфа ГГУ данное положение конкретизируется и указывается, что «ничтожна в особенности сделка, по которой одно лицо, пользуясь нуждой, легкомыслием или неопытностью другого, взамен каких-либо услуг со своей стороны выговаривает или заставляет предоставить себе или третьему лицу имущественную выгоду, размеры которой настолько превосходят ценность услуг, что выгода при данных обстоятельствах дела представляется явно несоразмерной оказанным услугам»[78].

