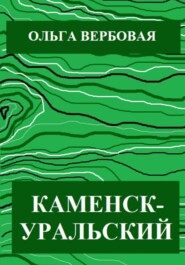По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Здоровый оптимизм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После вошла тётя Карна, сказала, что уже время ужинать, и поставила на тумбочку салат с какими-то огненно-рыжими ягодами. Я съела его не без удовольствия, после чего мне принесли чай, который я выпила с теми же пряниками.
Потом я опять заснула – на этот раз безо всяких сновидений – и проснулась только глубокой ночью, когда свет был выключен. Только на комоде под абажуром горела одинокая лампочка, а возле неё Мунга по-прежнему сидела с книгой.
– Который час? – спросила я её.
– По-вашему, полтретьего, – ответила она, не отрываясь от книги.
По её обречённому голосу и сонному виду я поняла, что больше всего на свете ей сейчас хотелось бы оказаться в своей постели, а вместо этого она вынуждена сидеть возле больной.
– Ложитесь спать, Мунга. До утра мне точно ничего не понадобится.
– Не могу. Дядя Арбенс сказал, чтоб ни на шаг не отходила.
– Тогда ложитесь на диван, – предложила я. – Будете здесь.
– Нет.
– Почему?
– Знаешь, что такое безработица?
– Ну да. Вроде бы. А что?
– А то, что, если меня уволят, найти работу будет очень сложно.
Больше я с ней об этом не говорила, но твёрдо решила завтра же сказать начальнику станции, что ночью мне сиделка в общем-то не нужна, поэтому можно было бы дать бедняжке выспаться.
Ещё стоило бы подумать и о своей судьбе. А тут уж точно было о чём думать. Не каждый день инопланетяне предлагают землянам работу на космических станциях. Но с другой стороны, разве у меня был выбор? Мне ведь, по большому счёту, и идти-то некуда. Дома, судя по всему, было всё настолько плохо, что я сбежала, не задумываясь, где я буду жить, а главное – на что. Ну, кто меня возьмёт на работу без образования, без стажа, да ещё, извольте, сударыня, комнатушку выделит? Разве что в бордель определят.
А тут предлагают секретаршей в приличном месте, приличные люди, пускай даже инопланетяне. И даже если работать придётся за бесплатно – а эту мысль я вполне допускала – всё равно не страшно. Гораздо хуже, когда негде жить и нечего есть.
Кто-то, наверное, спросил бы: а как же чувство патриотизма? Какие-то с чужой Родины ведут скрытое наблюдение за моей, а я ради пищи и крова продаю своих, соглашаясь сотрудничать с чужими. Да, такая мысль в моей голове промелькнула. Но тут же сменилась другой: родинцы ведь не вооружением интересуются, а всего лишь навсего природой. Нет, даже не природой – психологией, человеческой метеозависимостью. Стало быть, американского психолога, который занимается в России научными исследованиями, мне тоже зачислять во врагов? Или художника, приехавшего из Штатов за вдохновением русскими пейзажами?
Да и, наконец, как поступила со мной моя Родина? Почему она допустила, чтобы я в родном доме, в родном городе оказалась брошенной на произвол судьбы? Кто-нибудь из соотечественников подобрал меня, когда я истекала кровью на проезжей части? И теперь эти самые "патриоты", которые равнодушно прошли мимо, запросто будут обвинять меня в предательстве. Хотя сами, небось, за хорошие деньги пошли бы работать хоть к чёрту лысому. Если бы тот, конечно, предложил.
Поэтому утром, когда после завтрака дядя Арбенс пришёл навестить меня, я не задумываясь ответила: "Согласна".
Вот уже два месяца как я работала на станции. Далеко от Земли, от людей. Впрочем, я и не скучала. Дни проводила за рабочим столом, принимая сигналы с радиовышки и переключая их на нужных сотрудников, распечатывая и раскладывая по папкам лабораторные бумаги, сканируя и снимая ксерокопии и выполняя другие поручения Элаи. Впрочем, я не осмеливалась называть её так – всегда прибавляла "тётя". Когда я один раз, забывшись, назвала её по имени, она довольно резко оборвала меня, напомнив, что она не какая-нибудь там, а личный секретарь начальника станции, и поэтому относиться к ней надо с уважением. Посему видно, своим статусом тётя Элая очень гордилась, потому как, разговаривая с сотрудниками, всякий раз норовила это подчеркнуть. С дядей Арбенсом, напротив, становилась мягкой и любезной. Из-за этого отчасти она и была мне несколько неприятной, хотя я, конечно же, понимала, что должна быть ей благодарна. Ведь именно тётя Элая меня обнаружила. Но сколько я ни старалась полюбить её, неизменно ловила себя на том, что свою спасительницу я как раз таки люблю меньше, чем остальных.
Зато начальником станции я от души восхищалась. Ещё бы! Интеллигентнейший человек, он никогда не стремился показать, что выше нас по статусу на целую голову, к подчинённым был всегда внимателен и справедлив. Особенно трепетно дядя Арбенс относился ко мне, несчастной сиротке. Жалея меня, он разрешил несколько деньков отлежаться, прежде чем я приступила к работе. Кстати, тогда-то я с ним и поговорила по поводу сиделки. "Пусть, – говорю, – поспит хотя бы на диване. А то она боится, что Вы её уволите". "Ну что ты, Зина! – искренне удивился дядя Арбенс. – Разве я стал бы за это увольнять? Просто, видишь ли, у Мунги было тяжёлое детство".
Когда же я, почувствовав себя лучше, взялась за свои обязанности, в тот же вечер в столовой накрыли праздничный стол, и дядя Арбенс предложил тост за новую сотрудницу. Тогда же он при всех преподнёс мне… чайную чашку, изящно вылепленную из расписного, местами позолоченного фарфора, с затейливыми узорами. Тогда я ещё не понимала значения такого подарка.
– Чашка – это на Родине ценная вещь, – объяснила мне тётя Карна. – Когда ребёнок рождается, родители дарят ему чашку, и он потом только из неё и пьёт чай.
– Как? Всю жизнь? – удивилась я.
– Ну, не всегда. Девушка, когда выходит замуж, разбивает девичью чашку и пьёт из той, что подарит жених. Ну, ещё меняют, если старая разобьётся.
После этого разговора я поняла, что своим подарком дядя Арбенс хотел сказать, что с этого дня для меня начинается новая жизнь. И эта новая жизнь мне нравилась. О прежней я и вспоминать не хотела. Зачем?
– А я бы на твоём месте попыталась что-нибудь вспомнить, – сказала мне как-то тётя Карна.
– Но зачем? – возражала я. – Если в моей жизни не было ничего хорошего.
– Быть такого не может! Что-то ж наверняка было. Школьные друзья, первая любовь… Да, по-хорошему, плохое надо тоже помнить. Опыт, хоть и печальный, а всё же опыт.
Но я всё равно не хотела ничего вспоминать. Я хотела просто жить настоящим и с надеждой смотреть в будущее. Из прошлого я взяла только родной язык и умение вышивать. Разве этого недостаточно?
Язык сопровождал меня и здесь, вдалеке от Земли, ибо только на нём изъяснялись лица из моего настоящего. Нет, без меня они, конечно, говорили на своём родном, но в моём присутствии тут же переходили на русский. То, что мне необходимо было знать по работе, Элая мне сразу объяснила. А в остальном знать иностранный мне было необязательно.
Вышивать я научилась заново, когда лежала больной и не знала, чем себя занять. В те дни я иногда с разрешения Мунги подходила к округлому окошку и глядела на золотую россыпь звёзд на чёрном бархате бескрайнего космоса.
– Скучаешь по дому? – спросила меня однажды Мунга.
– Нет, – честно призналась я.
– А я скучаю. Скоро отпуск, а по сути и ехать-то некуда.
– Как некуда?
– А так. Вот прилечу я на Родину – и что? Родных у меня нет, подруги все замужем. Кому я нужна? Вот если бы вернуть то время, когда родители были живы…
Я не успела ничего сказать в ответ – да и не знала, что говорить -, как вдруг вошёл дядя Кропс и дал понять, что Мунга нужна ему. Срочно. Той, разумеется, ничего не оставалось, кроме как выйти.
Это был первый и последний раз, когда Мунга была со мной откровенна. В дальнейшем мы по-прежнему здоровались и даже говорили на отвлечённые темы, но о себе она больше ничего не рассказывала. Передо мной снова была та же уверенная в себе и самодостаточная личность, какой я её привыкла видеть. Но теперь-то я знала, что за ней скрывается боль потерь и одиночество.
Зато кто был со мной полностью откровенен, так это тётя Карна. Бедная вдова, она поехала на "Красные пески" ради высокой зарплаты, чтобы заработать на лечение сына. Дорогостоящая операция была единственным шансом поднять его с инвалидного кресла. Я, хоть и от души сочувствовала несчастной матери, иной раз всё же ловила себя на том, что немножко ей завидую. Ведь у неё был дом, где её любили и ждали. И когда всё страшное будет позади, ей было куда возвращаться.
Впрочем, таких было не так уж и много. Лаборанты Ник и Долас, их ассистент Норик и доктор Кропс, женатые мужчины с детьми, согласились лететь в такую даль для того, чтобы обеспечить своим семьям достойную жизнь. Затем же поехал сюда и дядя Арбенс. Тётя Элая, пока ещё не замужняя, также была здесь ради денег. Кто-то, например, Ирвэн, лаборант, приехал потому, что его семье было реально нечего есть. На Родине не спешили брать на работу тех, кому за сорок. Зато сокращали таких в первую очередь. Да и молодые сейчас подолгу стояли на бирже труда в поисках хоть какой-то работы.
Иным, как мне или Мунге, было просто некуда возвращаться. Кто-то был бездомным, а у кого-то была таки крыша над головой, но не было тех, кто бы с ним эту крышу разделил.
Всё это я узнала от Карны – сами сотрудники не спешили мне рассказывать о себе. Лаборанты же и вовсе говорили со мной только по делу.
– Это тебе Сото принёс? – спросила однажды тётя Карна, кивая головой на столик. Там лежал новый набор для вышивания – букет сирени – за который я собиралась взяться сегодня вечером.
– Кому ж ещё? – ответила я.
С тех пор, как у меня наконец-то получилась розочка, Сото частенько стал приносить мне вышивки. И каждый раз – цветы. Во второй раз вместе с рамочкой для розы принёс красные маки, а когда я разобралась и с ними – сирень. За это я каждый раз угощала его пряником.
– По-моему, он к тебе неравнодушен.
– Может быть, – согласилась я.
Сама же я не могла сказать с уверенностью, какое место в моей жизни занимал Сото. Когда он при встрече со мной улыбался, я улыбалась в ответ. Мне нравилось получать от него подарки, нравилось, когда он смотрел на меня. Я и сама пыталась привлечь его внимание. Когда к нашей станции пристыковался торговый корабль, я на свою первую зарплату купила красную блузку с прозрачной кокеткой и две чёрные юбки – короткую в складочку и длинную расклешённую да ещё пару заколок. Никто мне, в принципе, не запрещал ходить в той одежде, в которой меня сюда привезли, но мне хотелось одеваться так же, как и все женщины с Родины. Короткую юбку я надевала чаще и в ней с особенной радостью попадалась на глаза Сото. Для него же я делала разные причёски. И неизменно ловила на себе восхищённый взгляд.
Он казался лёгким и беспечным, как, впрочем, и все молодые люди. Общительный, неконфликтный, он порой производил впечатление бесхарактерного. Многие, пользуясь этим, просили его делать то одно, то другое. И Сото с удовольствием выполнял их поручения. Он и ремонтировал, и убирал, и грузил, хотя официально был только ремонтным рабочим.