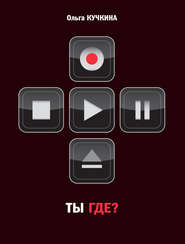По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансатлантический @ роман, или Любовь на удалёнке
Автор
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Чувства мои спят, и не дай Бог, проснутся. Когда вчера я спросила вслух про нашу конюшню, что бы это значило, что в ней все не так, Даша ответила: не надо было приезжать. Эту мысль я выжгла из себя каленым железом и даже не знаю, зачем снова воспроизвела. Какой опыт над собой я ставлю и во имя чего?
Ужинала у Бобышевых. Дима Бобышев, плотный, молчаливый, вещь в себе, приехал за мной, и я тотчас принялась безостановочно болтать, чтобы не дать развиться в себе этой заразе зачем. Галя кормила салатом, рыбой, красным вином и чаем с кексом, который продается в Москве. Я продолжала болтать, вроде бы мне очень весело. Но, кажется, Гале ничего не интересно, кроме Бобышева. Может, так и надо любить мужа. Я подарила ей банку красной икры, ему – свою книжку Другие голоса. Она обрадовалась больше, чем он.
Позвонила Мариша Голдовская из Сан-Франциско, проговорила теплым, родным голосом слова поддержки.
Как ты там? Как питаешься? Как наша собачка Чарли? Неужели какой-то приглашенный тренер сможет перевоспитать этого бандита, и наши мебель и обувь будут спасены? Верится с трудом.
Целую тебя.
17 января
Он
Дорогая Даша,
я тоже очень люблю Кучушу.
Правда, не говорю об этом целыми днями, поскольку не с кем говорить, а Чарлик это уже давно знает.
Передай Куче, что выдержки из ее книги были опубликованы в «Комсомольской правде» от 14.01.04.
Информацию из ЭКСМО от Касьяновой жду сегодня вечером.
Всех вас кисссаю!
Валешка.
Ниже письмо от Юнны.
Олечка, привет! Исчезновение твоё загадочно и прелестно. Таковое поведение и есть произведение. Я пошла в триумфальный загул: джаз, белые ночи у «фоменок», замечательно интересное выступление в Тургеневской бибке, где Лукьянов дарил свою коллекцию записей с голосами 100 поэтов, куда попало моё где-то когда-то чтение Памяти Табидзе и Между Сциллой и Харибдой.
Тут-то и выяснилось вдруг, что оказывается, я потрясла воображение и сердца многих поколений и сильно повлияла на стиль, а кто меня душил злобой и клеветой – так это никому не известно. Была я там чертовски красива с длинными, облачно летящими волосьями варяга и викинга, изобразила публике манеру, в которой натурально читал свою казацкую поэму Сельвинский, – все пришли в неописуемый восторг.
Ты – большой молодец, умница и королева всех жанров. У тебя – звёздный час. Это не шутка.
Обнимаю, целую.
Ю. М.
Здравствуй, Кучуня!
Получил твою иллинойсскую робинзонаду. Впечатляет. Так тебе, избалованной российским суперкомфортом, и надо! Конечно же, гиперзарегулированное американское бытие глубоко противно российской душевной безмерности, она же – раздолбайство, однако, при наличии телефонной книги позволяет эффективно разруливать самые мелкие жизненные пакости, что тебе и продемонстрировала наша продвинутая внучка Даша! Но с этим, наверное, надо родиться. Или воспринимать, как Божью данность, и стараться получить удовольствие. Тем более, что есть результат: вода в унитазе и свет в лампочке, согласись, все-таки большое удовольствие, особенно в сравнении с обратным.
Вообще прекрати рефлектировать по каждому поводу, купи спортивный костюм, бегай (или быстро ходи) по утрам, плавай в бассейне, посещай уроки английского, пиши стихи и письма мне, и относись к лекциям, как к хобби, как к приятному гуруйству (или гурийству?) или забавному времяпрепровождению. Меньше серьеза! Больше гедонизма!
Она
Доброе утро, милый, что у тебя нового? Наташа рассказала, что звонила тебе, а ты уже, видно, спал и говорил расслабленным голосом, как любишь меня, и ее, и Дашу. Это было в тот день, когда ты гулял с Чарли в половине десятого вечера, а мы с Дашей ехали из Чикаго в Урбану, и я, все поняв, не стала тебе дозваниваться. Я же знаю, почему у тебя бывает расслабленный голос и почему ты гуляешь с Чарли в половине десятого вечера, а не в половине седьмого, как обычно. Но я не стала говорить этого Наташе.
Увы, я не могу напиться. Мне приходится черпать из внутренних запасов, а они мелеют. Я хочу, чтобы скорее приблизилась роковая среда (моя первая встреча со студентами) и ужасно боюсь. Если быть честной, я решилась на эту поездку из тщеславия. Какой-то ответ на какой-то вызов. И какая-то рифма с прошлым путешествием на корабле. Но то было, кажется, тридцать лет назад! Я была молода. Я и сейчас чувствую себя молодой. Почти всегда. Но смотрю в зеркало – а там чужая старая тетка. Внутри я вижу себя иначе. И неловко отчего-то. А еще всегда была подспудная мечта усовершенствоваться в языке. Но как? Случай выпал.
Попалась цитата для моего фильма о Цветаевой-Пастернаке-Рильке. Стефан Цвейг, за 20 лет до их переписки, приводит слова Рильке: Меня утомляют люди, которые с кровью выхаркивают свои ощущения, потому и русских я могу принимать лишь небольшими дозами: как ликер. Выхаркивать и ликер не слишком сообразуются, но мысль понятна. Именно этим кормила Цветаева своего корреспондента Рильке в письмах, отчего тот умолкал и отползал в тень, а она ярилась дальше. Не знаю, будет ли делаться и сделается ли фильм за тот срок, что я в отъезде. Если нет – успею хотя бы включить цитату.
Взяла у Бетти книгу воспоминаний Михаила Германа, сводного брата Алеши Германа. Читала хорошую прессу об этой книге пару лет назад. Пишет славно, хотя однообразно и назойливо честно о себе. А вот о Бетти: За столом сидела незабвенная Бетти Иосифовна Шварц. Пухлая темноволосая маленькая дама, излучавшая какую-то замученную интеллигентность и вечное горение, смешанное с отчаянием. Ласковая доброжелательность естественным образом соединялась в ней с неистовой диссидентской непримиримостью и редакторской строгостью. Она непрерывно курила «Беломор» и почти не поднимала глаз от рукописей, держа их на расстоянии примерно сантиметра от глаз, как-то сворачивая вбок папиросу. Общалась она с людьми, сохраняя эту странную позицию, и ухитрялась при этом приветливо поглядывать на собеседника. Говорила Бетти Иосифовна прокуренным «толстым» басом. Мало того, что Бетти Иосифовна справедливо слыла человеком достойным и честным. Благородство ее было страстным и даже каким-то воспаленным. При этом она была робка и мрачна, но в благородстве непреклонна и потому постоянно находилась в состоянии угрюмого экстаза. Когда ее спрашивали, как дела, она неизменно отвечала задушенным голосом: «Ужасно». Разумеется, была партийной, но разлива ХХ съезда и с иллюзиями, которые разбивались каждый день и по многу раз. Говорят, она и теперь, живя в Америке, сохранила «этическую взъерошенность» и трогательный идеализм. С ней было всегда трудно, но насколько труднее без таких, как она!»
Замечательно точно написано, я в восторге.
У нас мороз и солнце. Надо бы выйти, но я застряла со своими записками.
Помнит ли меня кто-нибудь в Москве?
Целую.
18 января
Здравствуй, мальчик! Как ты питаешься? И питаешься ли? Ты любишь без меня ничего не есть и не готовить. Пожалуйста, ешь. А чтобы возбудить твой аппетит, расскажу, как едим мы. В первый вечер поехали в Olive Garden, наш любимый по прошлой жизни итальянский ресторанчик. Но поскольку я была с дороги, убей Бог, не припомню, что я заказала и съела. Что-то питательное, потому что от десерта отказались. На следующий день был не менее любимый Silver Creek. Там нашла в меню артишоки с голубыми крабами. Звучало изысканно, заказала. А до этого принесли пушистый серый хлеб с изюмом и взбитое сливочное масло, я не могла удержаться и начала поглощать хлеб с маслом со страшной силой, забыв все советы известного диетолога доктора Волкова. Голубые крабы с артишоками оказались кисло-перченой кашицей на продолговатом блюде типа селедочницы, вкуса довольно пикантного, если не сказать, противного, пришлось отъесть у Даши целый кусок.
А вчера была пицца с сальмоном в пиццерии, она же – бильярдный клуб.
Зато сегодня Рон Йейтс (помнишь журналиста, четырежды номинированного на Пулитцеровскую премию, который и предложил мне этот треклятый курс) пригласил нас на ланч в ресторан Timpone’s. Ночью не могла спать от страха, что буду нема как рыба, и они все увидят, что я ни бум-бум, и будет позор и провал. Молилась, чтобы как-нибудь обошлось. Обошлось. Рон, высокий и крепкий, похожий на журналиста из американского кино, ужасно обаятельный, тип старика Хэма, только помоложе. Его сопровождала симпатичная дама по имени Нэнси, профессор, занимается восточноевропейским радиовещанием. Четвертой была Даша. Рон разулыбался, увидев меня, даже обнял и прижал к себе, но они все тут улыбаются, как тебе известно. Впрочем, это гораздо приятнее, чем ежели бы вас встречали с натянутой физиономией, как привыкли в нашем отечестве.
Даша и Рон общались наперебой, Нэнси вставляла вопросы, которых я не понимала, но храбро бросалась отвечать и так же храбро задавала свои, заикаясь и помогая себе жестами.
Одновременно уписывала стейк с салатом, а с целью расслабиться попросила принести себе кампари со льдом и содовой.
Все прошло сносно, если не считать разговора про русский чайный дом, в который я встряла со словами, что у моей подруги Бетти в Чикаго тоже есть русское телевидение. Когда мы уже сели в машину, чтобы ехать домой, великодушная Даша оценила мое поведение как приемлемое. Я же умирала со смеху, вспоминая, как перепутала tea и TV. Впредь следует быть внимательнее.
До ланча мы опять посетили университет и опять заполняли какие-то формы. На этот раз Даша была занята с ксероксом, а я осталась наедине с тем самым лысоватым, но приятным Робом и компьютером, который то и дело выдавал error, то есть ошибку, и мы начинали все сначала. Я ничего про себя не помнила и не знала, кроме даты рождения и того, что окончила Московский университет. Роб сочинил некоторые данные за меня и вместо меня. Мне дали таинственный login, я должна была, пока Роб отвернется, написать какие-нибудь загадочные буквы, чтобы это стало моим личным паролем. Я позвала Дашу, и мы сходу написали nikolaev, а компьютер зашифровал это слово звездочками. После чего Даша крупно написала его на листочке для памяти, и Роб видел!.. Ой, что будет, что будет!
Вчера не удержались и поехали в T.J.Maxx. Это такой магазин, где распродают единичные фирменные вещи, оставшиеся от партий, ставя более низкую цену. За пять долларов купили мне нечто очаровательное черного бархата. Даша страшно сокрушалась, что я не привезла свой итальянский костюм и вообще никаких нарядов. Чтобы не огорчать ее, надела на ланч с Роном новую вещь, а под нее поместила вологодские кружева (шерстяные), так что в глубоком декольте образовался ошеломительной красы воротник. Надо взять наряд на вооружение в Москве.
Заговариваю сама себе зубы, а между тем, среда неумолимо приближается.
Целую.
20 января
Миленький, вот я и дома, после японского ресторана (название типа Кикиморы), после первого урока в Грегори-холл (здание, где помещается департамент журналистики) и послевкусия всего, чем, как тебе известно, отдает рефлексия. Сначала дело было недурно. Студентов пришло 18 штук, оратор был спокоен и величественен, ровно в шесть поднялся со стула и начал с выражением читать текст, который знал почти наизусть, так что мог отрываться от страничек и смотреть – тоже с выражением – в ясные молодые лица. И тут оратора подстерегла маленькая западня. Один мальчик смотрел безотрывно и беспрерывно улыбался, так что оратор стал думать: а чего это он улыбается, а не ироническая ли это усмешка, а не имеет ли она в основании скепсис по поводу его, оратора, речи? Короче, некоторое беспокойство, овладевшее оратором, мешало ему упиться собственным красноречием и сосредоточиться, раздваивало внимание, вносило сомнения и, в конце концов, заставило поторопиться, отчего вступление, рассчитанное на 20–25 минут, уже через 15 минут подошло к финалу. Что делать дальше? Дальше имелся замысел поднять с места каждого студента, чтобы с умным видом выслушать, как зовут, чем интересуется, что хочет получить из предлагаемого курса. Пока студенты называли себя и отвечали на заданные вопросы, сделалось ясно, что все слушали оратора внимательно и серьезно, даже с уважением, включая мальчика, который продолжал улыбаться, потому что таково было устройство его физиономии. То есть ощущение, что все приготовленное и произнесенное примитивно, плоско и отдает общими местами, казалось теперь не столь бесспорным. Настроение оратора поправилось, однако ненадолго. Беда в том, что, привыкнув к американской четкости и деловитости, каждый студент потратил на представление себя не более двадцати секунд (совсем другое, чем русский студент в аналогичной ситуации). И уже минут через пять или семь опрос себя исчерпал. На предложение задать вопросы последовало скромное молчание. Таким образом, занятие продолжалось минут 20 – вместо положенных трех часов! А в запасе ничего. Поулыбавшись друг другу, мы расстались до следующей встречи. Лишь пара студентов, знающих русский, остались на несколько минут для пустяшных личных разговоров.
Невзирая на явный провал (а в первые минуты, напротив, почти упиваясь состоявшимся дебютом) мы с Дашей отправились в очередной ресторан (типа Kakakura) отметить событие. Не домой же тащиться. И аппетит у нас нисколько не пропал. А в ответ на мои стенания (тогда еще сдержанные) Даша всякий раз отвечала: не бери в голову, все хорошо.
Но теперь я сижу одна (Даша ушла в библиотеку и в бассейн) и сокрушаюсь горестно. Мысль, что студенты могут быть разочарованы… что может быть разочаровано руководство университета… а главное, что сама я разочарована… А все от преувеличенных к себе требований, потому что преувеличенных о себе представлений.
Резко меняю тему. В твоем е-мейле так трогательно наши зашевелились!.. Прочла Декларацию комитета 2008 и тотчас принялась думать, присоединилась бы к ним, будь я в Москве, или нет. В первое мгновение – да, конечно. Но уже во второе – привычный скепсис: а кто, а как, а поднимут ли они (мы) хоть сколько-нибудь представительную группу и т. д. Каспаров – конечно, умный мальчик, но что толку? И даже такое (стыдное) чувство: хорошо, что я далеко, и мне не надо принимать немедленного решения, могу посмотреть, во что выльется. Я до сих пор понимаю все стороны, а это мешает действовать. Хотя по временам так хочется страстного действия – не получается из-за пережженных (временем и опытом) пробок. Позиция наблюдателя – лучшее, на что я могу рассчитывать.
Тебе спасибо – Декларацию непременно включу в лекции.
Целую.
Ужинала у Бобышевых. Дима Бобышев, плотный, молчаливый, вещь в себе, приехал за мной, и я тотчас принялась безостановочно болтать, чтобы не дать развиться в себе этой заразе зачем. Галя кормила салатом, рыбой, красным вином и чаем с кексом, который продается в Москве. Я продолжала болтать, вроде бы мне очень весело. Но, кажется, Гале ничего не интересно, кроме Бобышева. Может, так и надо любить мужа. Я подарила ей банку красной икры, ему – свою книжку Другие голоса. Она обрадовалась больше, чем он.
Позвонила Мариша Голдовская из Сан-Франциско, проговорила теплым, родным голосом слова поддержки.
Как ты там? Как питаешься? Как наша собачка Чарли? Неужели какой-то приглашенный тренер сможет перевоспитать этого бандита, и наши мебель и обувь будут спасены? Верится с трудом.
Целую тебя.
17 января
Он
Дорогая Даша,
я тоже очень люблю Кучушу.
Правда, не говорю об этом целыми днями, поскольку не с кем говорить, а Чарлик это уже давно знает.
Передай Куче, что выдержки из ее книги были опубликованы в «Комсомольской правде» от 14.01.04.
Информацию из ЭКСМО от Касьяновой жду сегодня вечером.
Всех вас кисссаю!
Валешка.
Ниже письмо от Юнны.
Олечка, привет! Исчезновение твоё загадочно и прелестно. Таковое поведение и есть произведение. Я пошла в триумфальный загул: джаз, белые ночи у «фоменок», замечательно интересное выступление в Тургеневской бибке, где Лукьянов дарил свою коллекцию записей с голосами 100 поэтов, куда попало моё где-то когда-то чтение Памяти Табидзе и Между Сциллой и Харибдой.
Тут-то и выяснилось вдруг, что оказывается, я потрясла воображение и сердца многих поколений и сильно повлияла на стиль, а кто меня душил злобой и клеветой – так это никому не известно. Была я там чертовски красива с длинными, облачно летящими волосьями варяга и викинга, изобразила публике манеру, в которой натурально читал свою казацкую поэму Сельвинский, – все пришли в неописуемый восторг.
Ты – большой молодец, умница и королева всех жанров. У тебя – звёздный час. Это не шутка.
Обнимаю, целую.
Ю. М.
Здравствуй, Кучуня!
Получил твою иллинойсскую робинзонаду. Впечатляет. Так тебе, избалованной российским суперкомфортом, и надо! Конечно же, гиперзарегулированное американское бытие глубоко противно российской душевной безмерности, она же – раздолбайство, однако, при наличии телефонной книги позволяет эффективно разруливать самые мелкие жизненные пакости, что тебе и продемонстрировала наша продвинутая внучка Даша! Но с этим, наверное, надо родиться. Или воспринимать, как Божью данность, и стараться получить удовольствие. Тем более, что есть результат: вода в унитазе и свет в лампочке, согласись, все-таки большое удовольствие, особенно в сравнении с обратным.
Вообще прекрати рефлектировать по каждому поводу, купи спортивный костюм, бегай (или быстро ходи) по утрам, плавай в бассейне, посещай уроки английского, пиши стихи и письма мне, и относись к лекциям, как к хобби, как к приятному гуруйству (или гурийству?) или забавному времяпрепровождению. Меньше серьеза! Больше гедонизма!
Она
Доброе утро, милый, что у тебя нового? Наташа рассказала, что звонила тебе, а ты уже, видно, спал и говорил расслабленным голосом, как любишь меня, и ее, и Дашу. Это было в тот день, когда ты гулял с Чарли в половине десятого вечера, а мы с Дашей ехали из Чикаго в Урбану, и я, все поняв, не стала тебе дозваниваться. Я же знаю, почему у тебя бывает расслабленный голос и почему ты гуляешь с Чарли в половине десятого вечера, а не в половине седьмого, как обычно. Но я не стала говорить этого Наташе.
Увы, я не могу напиться. Мне приходится черпать из внутренних запасов, а они мелеют. Я хочу, чтобы скорее приблизилась роковая среда (моя первая встреча со студентами) и ужасно боюсь. Если быть честной, я решилась на эту поездку из тщеславия. Какой-то ответ на какой-то вызов. И какая-то рифма с прошлым путешествием на корабле. Но то было, кажется, тридцать лет назад! Я была молода. Я и сейчас чувствую себя молодой. Почти всегда. Но смотрю в зеркало – а там чужая старая тетка. Внутри я вижу себя иначе. И неловко отчего-то. А еще всегда была подспудная мечта усовершенствоваться в языке. Но как? Случай выпал.
Попалась цитата для моего фильма о Цветаевой-Пастернаке-Рильке. Стефан Цвейг, за 20 лет до их переписки, приводит слова Рильке: Меня утомляют люди, которые с кровью выхаркивают свои ощущения, потому и русских я могу принимать лишь небольшими дозами: как ликер. Выхаркивать и ликер не слишком сообразуются, но мысль понятна. Именно этим кормила Цветаева своего корреспондента Рильке в письмах, отчего тот умолкал и отползал в тень, а она ярилась дальше. Не знаю, будет ли делаться и сделается ли фильм за тот срок, что я в отъезде. Если нет – успею хотя бы включить цитату.
Взяла у Бетти книгу воспоминаний Михаила Германа, сводного брата Алеши Германа. Читала хорошую прессу об этой книге пару лет назад. Пишет славно, хотя однообразно и назойливо честно о себе. А вот о Бетти: За столом сидела незабвенная Бетти Иосифовна Шварц. Пухлая темноволосая маленькая дама, излучавшая какую-то замученную интеллигентность и вечное горение, смешанное с отчаянием. Ласковая доброжелательность естественным образом соединялась в ней с неистовой диссидентской непримиримостью и редакторской строгостью. Она непрерывно курила «Беломор» и почти не поднимала глаз от рукописей, держа их на расстоянии примерно сантиметра от глаз, как-то сворачивая вбок папиросу. Общалась она с людьми, сохраняя эту странную позицию, и ухитрялась при этом приветливо поглядывать на собеседника. Говорила Бетти Иосифовна прокуренным «толстым» басом. Мало того, что Бетти Иосифовна справедливо слыла человеком достойным и честным. Благородство ее было страстным и даже каким-то воспаленным. При этом она была робка и мрачна, но в благородстве непреклонна и потому постоянно находилась в состоянии угрюмого экстаза. Когда ее спрашивали, как дела, она неизменно отвечала задушенным голосом: «Ужасно». Разумеется, была партийной, но разлива ХХ съезда и с иллюзиями, которые разбивались каждый день и по многу раз. Говорят, она и теперь, живя в Америке, сохранила «этическую взъерошенность» и трогательный идеализм. С ней было всегда трудно, но насколько труднее без таких, как она!»
Замечательно точно написано, я в восторге.
У нас мороз и солнце. Надо бы выйти, но я застряла со своими записками.
Помнит ли меня кто-нибудь в Москве?
Целую.
18 января
Здравствуй, мальчик! Как ты питаешься? И питаешься ли? Ты любишь без меня ничего не есть и не готовить. Пожалуйста, ешь. А чтобы возбудить твой аппетит, расскажу, как едим мы. В первый вечер поехали в Olive Garden, наш любимый по прошлой жизни итальянский ресторанчик. Но поскольку я была с дороги, убей Бог, не припомню, что я заказала и съела. Что-то питательное, потому что от десерта отказались. На следующий день был не менее любимый Silver Creek. Там нашла в меню артишоки с голубыми крабами. Звучало изысканно, заказала. А до этого принесли пушистый серый хлеб с изюмом и взбитое сливочное масло, я не могла удержаться и начала поглощать хлеб с маслом со страшной силой, забыв все советы известного диетолога доктора Волкова. Голубые крабы с артишоками оказались кисло-перченой кашицей на продолговатом блюде типа селедочницы, вкуса довольно пикантного, если не сказать, противного, пришлось отъесть у Даши целый кусок.
А вчера была пицца с сальмоном в пиццерии, она же – бильярдный клуб.
Зато сегодня Рон Йейтс (помнишь журналиста, четырежды номинированного на Пулитцеровскую премию, который и предложил мне этот треклятый курс) пригласил нас на ланч в ресторан Timpone’s. Ночью не могла спать от страха, что буду нема как рыба, и они все увидят, что я ни бум-бум, и будет позор и провал. Молилась, чтобы как-нибудь обошлось. Обошлось. Рон, высокий и крепкий, похожий на журналиста из американского кино, ужасно обаятельный, тип старика Хэма, только помоложе. Его сопровождала симпатичная дама по имени Нэнси, профессор, занимается восточноевропейским радиовещанием. Четвертой была Даша. Рон разулыбался, увидев меня, даже обнял и прижал к себе, но они все тут улыбаются, как тебе известно. Впрочем, это гораздо приятнее, чем ежели бы вас встречали с натянутой физиономией, как привыкли в нашем отечестве.
Даша и Рон общались наперебой, Нэнси вставляла вопросы, которых я не понимала, но храбро бросалась отвечать и так же храбро задавала свои, заикаясь и помогая себе жестами.
Одновременно уписывала стейк с салатом, а с целью расслабиться попросила принести себе кампари со льдом и содовой.
Все прошло сносно, если не считать разговора про русский чайный дом, в который я встряла со словами, что у моей подруги Бетти в Чикаго тоже есть русское телевидение. Когда мы уже сели в машину, чтобы ехать домой, великодушная Даша оценила мое поведение как приемлемое. Я же умирала со смеху, вспоминая, как перепутала tea и TV. Впредь следует быть внимательнее.
До ланча мы опять посетили университет и опять заполняли какие-то формы. На этот раз Даша была занята с ксероксом, а я осталась наедине с тем самым лысоватым, но приятным Робом и компьютером, который то и дело выдавал error, то есть ошибку, и мы начинали все сначала. Я ничего про себя не помнила и не знала, кроме даты рождения и того, что окончила Московский университет. Роб сочинил некоторые данные за меня и вместо меня. Мне дали таинственный login, я должна была, пока Роб отвернется, написать какие-нибудь загадочные буквы, чтобы это стало моим личным паролем. Я позвала Дашу, и мы сходу написали nikolaev, а компьютер зашифровал это слово звездочками. После чего Даша крупно написала его на листочке для памяти, и Роб видел!.. Ой, что будет, что будет!
Вчера не удержались и поехали в T.J.Maxx. Это такой магазин, где распродают единичные фирменные вещи, оставшиеся от партий, ставя более низкую цену. За пять долларов купили мне нечто очаровательное черного бархата. Даша страшно сокрушалась, что я не привезла свой итальянский костюм и вообще никаких нарядов. Чтобы не огорчать ее, надела на ланч с Роном новую вещь, а под нее поместила вологодские кружева (шерстяные), так что в глубоком декольте образовался ошеломительной красы воротник. Надо взять наряд на вооружение в Москве.
Заговариваю сама себе зубы, а между тем, среда неумолимо приближается.
Целую.
20 января
Миленький, вот я и дома, после японского ресторана (название типа Кикиморы), после первого урока в Грегори-холл (здание, где помещается департамент журналистики) и послевкусия всего, чем, как тебе известно, отдает рефлексия. Сначала дело было недурно. Студентов пришло 18 штук, оратор был спокоен и величественен, ровно в шесть поднялся со стула и начал с выражением читать текст, который знал почти наизусть, так что мог отрываться от страничек и смотреть – тоже с выражением – в ясные молодые лица. И тут оратора подстерегла маленькая западня. Один мальчик смотрел безотрывно и беспрерывно улыбался, так что оратор стал думать: а чего это он улыбается, а не ироническая ли это усмешка, а не имеет ли она в основании скепсис по поводу его, оратора, речи? Короче, некоторое беспокойство, овладевшее оратором, мешало ему упиться собственным красноречием и сосредоточиться, раздваивало внимание, вносило сомнения и, в конце концов, заставило поторопиться, отчего вступление, рассчитанное на 20–25 минут, уже через 15 минут подошло к финалу. Что делать дальше? Дальше имелся замысел поднять с места каждого студента, чтобы с умным видом выслушать, как зовут, чем интересуется, что хочет получить из предлагаемого курса. Пока студенты называли себя и отвечали на заданные вопросы, сделалось ясно, что все слушали оратора внимательно и серьезно, даже с уважением, включая мальчика, который продолжал улыбаться, потому что таково было устройство его физиономии. То есть ощущение, что все приготовленное и произнесенное примитивно, плоско и отдает общими местами, казалось теперь не столь бесспорным. Настроение оратора поправилось, однако ненадолго. Беда в том, что, привыкнув к американской четкости и деловитости, каждый студент потратил на представление себя не более двадцати секунд (совсем другое, чем русский студент в аналогичной ситуации). И уже минут через пять или семь опрос себя исчерпал. На предложение задать вопросы последовало скромное молчание. Таким образом, занятие продолжалось минут 20 – вместо положенных трех часов! А в запасе ничего. Поулыбавшись друг другу, мы расстались до следующей встречи. Лишь пара студентов, знающих русский, остались на несколько минут для пустяшных личных разговоров.
Невзирая на явный провал (а в первые минуты, напротив, почти упиваясь состоявшимся дебютом) мы с Дашей отправились в очередной ресторан (типа Kakakura) отметить событие. Не домой же тащиться. И аппетит у нас нисколько не пропал. А в ответ на мои стенания (тогда еще сдержанные) Даша всякий раз отвечала: не бери в голову, все хорошо.
Но теперь я сижу одна (Даша ушла в библиотеку и в бассейн) и сокрушаюсь горестно. Мысль, что студенты могут быть разочарованы… что может быть разочаровано руководство университета… а главное, что сама я разочарована… А все от преувеличенных к себе требований, потому что преувеличенных о себе представлений.
Резко меняю тему. В твоем е-мейле так трогательно наши зашевелились!.. Прочла Декларацию комитета 2008 и тотчас принялась думать, присоединилась бы к ним, будь я в Москве, или нет. В первое мгновение – да, конечно. Но уже во второе – привычный скепсис: а кто, а как, а поднимут ли они (мы) хоть сколько-нибудь представительную группу и т. д. Каспаров – конечно, умный мальчик, но что толку? И даже такое (стыдное) чувство: хорошо, что я далеко, и мне не надо принимать немедленного решения, могу посмотреть, во что выльется. Я до сих пор понимаю все стороны, а это мешает действовать. Хотя по временам так хочется страстного действия – не получается из-за пережженных (временем и опытом) пробок. Позиция наблюдателя – лучшее, на что я могу рассчитывать.
Тебе спасибо – Декларацию непременно включу в лекции.
Целую.