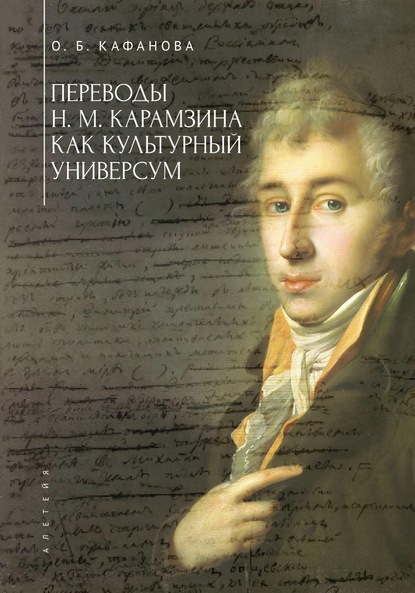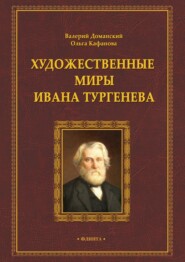По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Переводы Н. М. Карамзина как культурный универсум
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сам по себе этот материал мог бы послужить сюжетом для романа ужасов в духе Анны Радклиф. Позднее, в оригинальной повести «Остров Борнгольм», Карамзин использует мотив «женщины в подземелье» в традициях готического жанра[24 - «История герцогини Ч***» послужила источником «Сицилийского романа» А. Радклиф и одного из эпизодов ее прмана «Тайны Удольфо». См.: Вацуро В. Э. Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм» //Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века. (XVIII век. Сб. 8). Л.: «Наука», 1969. С. 201–203.], но Жанлис стремилась извлечь из него нравоучение. Страшная судьба молодой женщины, заживо погребенной в течение девяти лет, призвана была продемонстрировать спасительную веру в мудрое провидение, помогающую выжить в невыносимых условиях.
Морализацией проникнуто все повествование: рассказчица при каждом удобном случае говорит о пагубных последствиях духовной разобщенности родителей и детей, явившейся причиной ее несчастий. Переживания заключенной в нечеловеческих условиях выписаны с рационалистической обстоятельностью. Почти не касаясь физической стороны страданий молодой женщины, которая не получала ничего, кроме воды и хлеба, Жанлис изобразила ее быструю и психологически малообоснованную эволюцию от бунта против Провидения, желания «прервать нить жизни своей» до примирения, приятия своего положения, в котором она видела и свою вину. «Неописанное утешение» нашла она в молитве: «Большую часть дня или ночи, прохаживалась я по пространной своей темнице; сочиняла стихи, которые громко твердила; знав музыку и имея хороший голос, сочиняла я гимны и с величайшим удовольствием пела их и слушала эхо, мне ответствовавшее. Сон мой был покоен; приятные сновидения представляли мне отца моего, мать мою и дочь; я видела их всегда счастливых и довольных» (XIV, 202–203).
Спасение приходит внезапно: умирающий герцог Ч*** отдает ключи от темницы своему племяннику графу Бельмиру, имя которого страдалице удалось скрыть. Освобождение от страшного заточения несчастная женщина получает из рук своих родителей. После выхода на свободу она обычные явления жизни начинает воспринимать и ценить как чудо: «Прохаживаясь в поле или в саду, на всяком шаге я останавливалась, чтобы во всей подробности рассматривать представлявшиеся зрению моему предметы. Я не могла насытиться рассматриванием цветов, плодов, дерев, зелени, облаков, восходящего и заходящего солнца, зари – все сие было для меня восхитительным и величественным зрелищем» (XV, 21).
В финале повести Жанлис граф Бельмир, считая своим долгом, загладить свою вину, предлагает бывшей узнице руку и сердце. Однако героиня после девятилетних нечеловеческих мук в подземелье навсегда излечивается от страсти, обретает утешение в вере и устраивает брак дочери с графом Бельмиром, своим прежним возлюбленным, из-за которого она и была заточена ревнивым мужем в подземелье.
Карамзин в этой вставной новелле увидел потенциальные возможности другой нравственно-эстетической интерпретации. Выпустив вступление, в котором героиня Жанлис заявляет о дидактических целях, он сочинил собственное предисловие, особенности которого наиболее заметны по контрасту с почти буквальным переводом 1782 г. Сравните:
Предисловие Жанлис в переводе 1782 г.:
«Каким образом опишу я вам злосчастные мои приключения, коих напоминание единое еще и до сих пор приводит меня в ужас! О, дочь моя и возлюбленные внучата! Прочтите оные со вниманием! И да возможет послужить вам плачевное сие повествование примером и наставлением поступать в жизни своей со всякою осторожностию. Что одно токмо принудило меня сделать сие справедливое начертание»[25 - Новое детское училище, или Опыт нравственного воспитания обоего пола и всякого состояния юношества <…>. Т. 2. СПб., 1792. С. 328.].
Предисловие Карамзина:
«О, вы, которые любите замечать движения сердца человеческого и в рассматривании чувств его находите важнейшее и полезнейшее для себя упражнение! В жизни моей найдете вы для себя нечто примечания достойное – нечто такое, что может распространять ваши познания о сердце человеческом! По крайней мере естественная связь чувств и мыслей будет вам приятна. Вы не увидите совершенной картины, во всех частях оттененной кистию Рафаэлевою; вам представляется одно легкое начертание, но справедливое, во всех частях соразмерное – не карикатура. Снеситесь со своими опытами, наблюдениями, и вы конечно скажете: так!» (XIV, 145–146. Курсив мой. – О. К.).
Очевидно, что в этом вступлении Карамзин впервые наметил черты эстетики сентиментальной повести. Он выделил психологическую направленность: изучение человеческого сердца; поставил в центр внимания «идеальную» жизнь чувства; наконец, указал на момент незавершенности повествования в целом – вместо детального описания предложил, наоборот, не претендующий на исчерпывающую полноту набросок.
Изменение финала в переводе придало всей истории поэтическую тональность; Карамзин предложил иную развязку. Он психологически очень убедительно показав излечение героини после всего пережитого от всякой страсти: «изгнав уже давно из сердца ту страстную любовь, которая некогда была во мне столь сильна, не могла я даже и представить себе, как могут люди ей предаваться» (XV, 23). Однако хотя герцогиня и отказывается повторно выйти замуж, граф любит ее по-прежнему и поселяется рядом с нею в провинциальном уединении: «Будучи утешен дружбою, которую я ему оказывала, навсегда остался жить в Риме» (XV, 23). Таким образом, Карамзину удалось избежать рационалистической трактовки любовного сюжета и вместе с тем наметить главную идею многих своих будущих произведений – поэтизацию любви как смысла жизни, основы гармоничного существования человека.
В целом первые переводы из Жанлис были важным этапом в становлении Карамзина – переводчика и писателя. Некоторые пункты умеренно-просветительской программы Жанлис – понятие нравственного совершенствования личности, достигаемого в результате овладения своими страстями, внесословное истолкование добродетели, обращение к филантропии – совпадали с идеологией масонства, действенную сторону которого воспринял и молодой Карамзин. Совершенствуясь в передаче относительно внешних явлений лексики и фразеологии, он постепенно переключал свое внимание на внутренние проблемы сюжетообразования и характерологии. Истории из «Вечеров в замке» Жанлис лишь очень условно можно назвать «повестями», поскольку создавались они в рамках единого литературно-педагогического комплекса. Тем не менее, в последних частях переводного цикла ясно обозначилось желание Карамзина-переводчика усилить эмоционально-психологическую мотивировку поведения героев, подчас в ущерб дидактизму. «Деревенские вечера» не завершились «Историей герцогини Ч***». Карамзин добавил еще два рассказа, происхождение которых не вполне ясно: «Пустынник» и «Благодеяние». Э. Г. Кросс выдвинул гипотезу о принадлежности «Пустынника» самому Карамзину[26 - Cross A. G. Karamzin’s first short story? // Essays in Russian History and Literature. Leiden: ed. L.H. Legters, 1971. P. 38–55.]. И хотя произведение может служить наиболее наглядным примером формирования жанра и стиля сентиментальной повести, эта атрибуция остается спорной.
Сам Карамзин, безусловно, рассматривал эти переводы как свое ученичество: он никогда не пытался издать их отдельно, переиздать (как, впрочем, и остальные свои переводческие опыты в «Детском чтении»). С циклом Жанлис хорошо коррелировало произведение Х. Ф. Вейсе (Weisse, 1726–1804) «Аркадский памятник. Сельская драма с песнями в одном действии» (1789). В нем также утверждалось важное для сентименталистов и просветителей понятие чувствительности, понимаемое как «склонность к таким чувствованиям, в которых есть нечто нравственное»[27 - [Дмитриев И. И.] Чувствительность и причудливость // Приятное и полезное препровождение времени. 1976. Ч. XI. С. 241. Подробнее см.: Орлов П. А. Русский сентиментализм. М.: Изд. Моск. университета, 1977. – 270 с.]. Наряду с этими специальными произведениями для юношеской аудитории Карамзин поместил в «Детском чтении для сердца и разума» сокращенный перевод-пересказ поэмы «Времена года», который имел решающее значение для распространения славы Томсона в России и одновременно воспринимался в значительной мере как оригинальное сочинение, где впервые отчетливо прозвучал культ природы[28 - Левин Ю. Д. Английская поэзия и литература русского сентиментализма // От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л.: «Наука», 1970. С. 196–297.].
Именно Карамзин выступил деятельным пропагандистом Томсона в России. В результате его сокращений более отчетливо выступили основные особенности поэмы: «непосредственное изображение явлений природы, ее изменений, созерцание природы человеком, который открывает в ней присутствие Творца и прославляет его»[29 - История русской переводной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. II. Драматургия. Поэзия. Отв. ред. Ю. Д. Левин. Гл. IV (авторы: Р. Ю. Данилевский, Н. Д. Кочеткова, Ю. Д. Левин). СПб.: «Дмитрий Буланин», 1996. С. 149.].
Перевод для «разума»: философское сочинение Ш. Бонне
Переводы из «Созерцания природы» («Contemplation de la nature», 1764) швейцарского естествоиспытателя и философа Шарля Бонне (Bonnet, 1720–1793) едва ли соответствовали аудитории «Детского чтения» и отражали скорее этап философского развития самого переводчика. Позднее, описывая в «Письмах русского путешественника» свой визит к ученому, Карамзин назвал его главное сочинение «магазином любопытнейших знаний для человека»[30 - Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л. «Наука», 1984. (Литературные памятники.) С. 168. В дальнейшем ссылки на «Письма» даются по этому изданию с указанием страницы в тексте.]. На этом переводческом труде Карамзина 1789 г. следует остановиться подробнее, потому что он репрезентирует первичное восприятие философии Бонне в России и раскрывает ранний этап философского развития юного переводчика.
Перевод не был снабжен предисловием или какими-нибудь комментариями Карамзина. Можно предположить, что поначалу он намеревался точно следовать тексту оригинала, о чем свидетельствует оформление первого фрагмента в XVIII-ой части журнала. В нем полно, без изъятий была воспроизведена первая часть книги «О Боге и вселенной вообще» («De dieu et de l’Univers en gеnеral») c соблюдением нумерации и названий всех входящих в нее глав: Введение. – Гл. 1. Первая причина. – Гл. 2. Творение. – Гл. 3. Единство и доброта вселенной в ее главных частях. – Гл. 4. Рассмотрение вселенной. – Гл. 5. Множество миров. – Гл. 6. Всеобщее разделение существ. – Гл. 7. Всеобщая связь или гармония вселенной[31 - Статьи из Contemplation de la nature, Боннетова сочинения // Детское чтение для сердца и разума. 1789. Ч. XVIII. С. 3–53. Ниже ссылки (часть и страница) указываются в тексте.].
Второй фрагмент, помещенный в XIX-ой части «Детского чтения», обнаруживает уже явно личные пристрастия Карамзина. Он целиком выпустил вторую, третью и шестую части книги – «Об относительном совершенстве земных существ» («De la perfection relative des ?tres terrestres», тринадцать глав); «Общее рассмотрение постепенной прогрессии существ» («Vue gеnеrale de la progression graduelle des ?tres», тридцать глав); «О растительной экономике» («De 1’еconomie vеgеtale», десять глав). При этом четвертая часть – «Продолжение постепенной прогрессии существ» («Suite de la progression graduelle des ?tres») – и пятая – «О различных соотношениях земных существ» («De divers rapports des ?tres terrestres») – были переведены выборочно.
Из тринадцати глав четвертой части Карамзин оставил пять: «Человек, рассматриваемый как существо телесное. – Человек, одаренный разумом, упражняющийся в науках и художествах. – Человек в общежитии. – Человек в общении с Богом через религию. – Постепенности человечества». А из семнадцати глав пятой части он сохранил только девять: «Предварительное рассуждение. – Соединение душ с телами организованными. – Представления и ощущения. – Страсти. – Темперамент. – Память и воображение. – Сновидение. – Рассуждение. – Зрение». Причем Карамзин, надо полагать, намеренно отказался от нумерации глав, чтобы избирательный характер переводимого не был столь очевидным.
Из «Писем русского путешественника» известно, что начинающий писатель намеревался позже перевести сочинение Бонне полностью и при личной встрече с ученым в Швейцарии в декабре1789 г. просил разрешения автора на этот труд. Ясно также, что при этом Карамзин утаил факт уже осуществленного им выборочного перевода. Свой план впоследствии Карамзин так и не осуществил. Можно допустить, что в 1789 г. он отобрал все заинтересовавшие его в его концепции Бонне вопросы, так что больше не возвращался к исчерпанному предмету. Поскольку никаких принципиальных отступлений от оригинала в карамзинском переводе обнаружить не удалось, именно анализ критериев отбора позволяет выявить, то, что в «Созерцании природы» оказалось наиболее существенным для будущего писателя и историка.
Главная мысль Бонне, изложенная в его книге, состояла в интерпретации «лестницы существ». Между самыми простейшими и совершеннейшими проявлениями природы существуют, с его точки зрения, переходы – так, что все тела составляют всеобщую непрерывную цепь. Основание лестницы образуют неделимые сущности – монады, а ее вершину венчает высшее совершенство – Бог. Вся органическая и неорганическая природа представляет собой единую нить без скачков и перерывов. Всеобщее единство и согласованность в природе обеспечивается гармонией, предустановленной первопричиной. Как и Лейбниц, Бонне видел в «лестнице существ» последовательный ряд независимых, неизменных, созданных творцом форм, лишь примыкающих друг к другу, но не связанных единством происхождения23[32 - См.: История биологии: С древнейших времен до начала XX века. М.: «Наука», 1972. С.111, 120, 107.]. Эта преформистская концепция постоянства видов соответствовала метафизической картине мира. Но одновременно были в идеях швейцарского философа зачатки представлений об изменчивости живой природы.
В переводе Карамзина изъятия из теории Бонне оказались столь значительными, что, с известной долей условности, можно говорить об изложении новой концепции. Тщательно воспроизводя содержание первой части книги – защиту идеи Лейбница о теодицее, Карамзин затронул основной вопрос философии. Вселенная изображалась Бонне как результат действия «первопричины», имеющей идеальное, божественное происхождение. Карамзин настаивал на термине «причина», о чем свидетельствует его единственное примечание в тексте перевода. Первую фразу: «Je m’еl?ve ? la raison еternelle» он перевел: «Возношуся к Вечной Причине», пояснив, что «”raison еternelle“ на языке Боннетовом не значит вечный разум, как то перевел немецкий переводчик, г. профессор Тициус. В конце первой главы говорит Боннет il est hors de l’Univers une Raison еternelle de son existence. Здесь Raison не может значить разум, а великий философ не употребляет одного слова в столь разных значениях» (XVIII, 3)[33 - О своей полемике с ученым-переводчиком И. Д. Тициусом, a также о недовольстве автора немецким переводом «Созерцания» Карамзин поведал в «Письмах русского путешественника». «Боннет хвалит один Спаланцаниев перевод, а немецким переводчиком, профессором Тициусом, весьма недоволен потому, что сей ученый Германец думал поправлять его и собственные свои мнения сообщал за мнения Сочинителевы»,– замечал он, приводя как пример грубой ошибки выше процитированную фразу (169). В действительности «raison» имеет двойное значение: «разум» и «причина». Но подобная скрупулезность в деталях только подчеркивает значимость факта отбора. В более позднем переводе Виноградова слово «raison» неудачно передано как «вина»: «Возношуся к вечной вине»// Созерцание природы, соч.г. Боннета. Смоленск: При Губернском правлении, 1804. С. 1.].
Вопреки утверждениям материалистов, цюрихский философ настаивал на мысли о конечности всего сущего, единстве, доброте, целесообразности и взаимосвязанности всех частей «творения». Карамзин не допустил ни малейшего отступления от оригинала, излагая близкую ему самому идеалистическую концепцию просветительского оптимизма:
«Итак, мир имеет все совершенство, какое только мог он получить от Причины, в которой одно из первых свойств есть Премудрость. Итак, нет совершенного зла во Вселенной, ибо она не заключает в себе ничего такого, что бы не могло быть действием или причиною какого ни есть добра, которое бы не существовало без того, что мы злом называем. Естьли бы все было одно от другого отделено, не было б гармонии» (XVIII, 7).
Карамзин безусловно разделял идеалистическое решение общих вопросов происхождения мира и человека[34 - Канунова. Ф. З., Кафанова О.Б. О философских вопросах мировоззрения Карамзина и Жуковского // Николай Михайлович Карамзин: Юбилей 1991 года. Сб. науч. тр. М.: «Наука», 1992. С. 55–72.]. Но для выяснения его мировоззренческой позиции оказывается существенным не только то, что он включил в перевод, но и то, что он изъял из него. Изложив теорию предустановленной гармонии, Бонне перешел в последующих частях к ее подтверждению своими естественнонаучными и теологическими исследованиями. С его точки зрения, такие явления, как полипы, дождевые черви, летающие рыбы, развитие бабочки из гусеницы и эмбриональное развитие живых существ, подтверждают, что всякая жизнь от Бога предназначена к будущему усовершенствованию и счастью. Этот ход доказательств воспроизведен в русском переводе в достаточной мере фрагментарно.
Теория «лестницы существ» в карамзинском варианте распалась, поскольку исключено было рассмотрение развития всевозможных видов органической и неорганической природы, предшествовавших появлению человека. Вся теологическая часть оказалась тоже изъятой, так как мистицизм был чужд Карамзину на всех этапах его сознательного творческого развития. Таким образом, человек, рассматриваемый на различных уровнях – онтологическом, физическом, духовном, даже отчасти социальном, – сделался чуть ли не единственной фигурой «лестницы существ» в интерпретации Карамзина. Человек предстал изолированным не только от предшествующих, но и от последующих звеньев в цепи системы (у Бонне специальная глава посвящена «небесной иерархии», включающей ангелов, архангелов и других небесных существ). Изучение человека вне выстроенной Бонне строгой системы иерархии очищало концепцию личности от влияния механического детерминизма (к которому вело учение о преформации) и в конечном итоге разрушало метафизическую завершенность представлений о месте человека в мироздании.
Для Карамзина человек – венец природы: «…наверху лестницы нашего шара поставлен человек, совершеннейшее дело в земном творении» (XIX,165). Следуя далее за размышлениями Бонне, он подошел к одному из важнейших вопросов философии XVIII в., который одинаково привлекал внимание как материалистов, так и идеалистов – Канта, Мендельсона, Лафатера, Мальбранша и русских масонов. Этот вопрос касался соотношения материальной и духовной сфер природы человека и формулировался как проблема сосуществования и взаимовлияния души и тела.
Еще в 1787 г., в поисках ответа на неразрешимую для себя загадку, Карамзин обратился к цюрихскому пастору И. К. Лафатеру, разработавшему учение о физиогномике. «Каким образом душа наша соединена с телом, тогда как они из совершенно различных стихий? – спрашивал он. – Не служило ли связующим между ними звеном еще третье отдельное вещество, ни душа, ни тело, а совершенно особенная сущность? Или же душа и тело соединяются посредством постепенного перехода одного вещества в другое <…> Каким способом душа действует на тело, посредственно или непосредственно?»[35 - Переписка Карамзина с Лафатером.1786–1790 / Подгот. текста Ю. М. Лотмана // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л.: «Наука»,1984. С. 468. Ниже ссылки на Переписку даются по этому изданию с указанием страниц в тексте.]
Масоны, в среде которых происходило развитие будущего писателя[36 - Кочеткова Н. Д. Идейно-литературные позиции масонов 80–90-х годов XVIII в. и Н. М, Карамзин // Русская литература XVIII века: Эпоха классицизма. (XVIII век. Сб. 6). М.; Л.,1964. С. 176–196.], давали двоякое толкование проблемы. Согласно одной точке зрения, человек состоит из двух субстанций, души и тела, причем душа является «самодействующей», т.е. не нуждается в теле и полностью освобождается от него в смерти[37 - Вечерняя заря.1782. Ч. 1. С. 169–184.]. По другому мнению, существуют три субстанции – тело, душа и дух, при этом душа соучаствует в обеих других и соединяет их[38 - Там же. С. 278–283.].
По-видимому, обе эти точки зрения не удовлетворяли Карамзина, который предпочел обратиться за ответом к «южному магу», установившему соотношение между чертами лица и свойствами характера, души. Именно Лафатер, являясь другом Бонне, перевел в 1769 г. на немецкий язык его «Палингенезию» («Palingеnеsie philosophique, ou idеes sur l’еtat passе et sur l’еtat futur des ?tres vivants»). Уже в этом сочинении, как чуть позже в «Созерцании природы», Бонне стремился найти обоснование идеям Лейбница в изучении живой природы, опираясь на сенсуализм Локка. Придерживаясь идеи трехсубстанционального состава человека, он рассматривал душу как своего рода накопитель впечатлений, которые улавливаются органами чувств. Сама по себе, душа не может быть дееспособной. Только идеи, образуемые на основе чувственных впечатлений, делают существа способными выйти за пределы телесного мира и жить в духовной сфере.
Карамзину, несомненно, была известна эта теория, о чем он прямо сообщил Лафатеру. «Я прилежно читаю сочинения Боннета», – писал он 10 июня1788 (475). Но и она его не устраивала. «Хотя великий философ нашего времени открыл мне много новых взглядов,– признавался он, – я все-таки не вполне доволен всеми его гипотезами. Les germes, emboitement des germes, les si?ges de l’?me, la machine organique, les fibres sensibles[39 - «Зародыши, вхождение зародышей, седалище души, органический механизм, чувствительные фибры» (фр.)] – все это очень философично, глубокомысленно, хорошо согласуемо и могло быть и на самом деле <…>, но чтоб было это так на самом деле – я этому не верю, пока верю, что мудрость Господня далеко превосходит всех наших философов и, следовательно, может найти другие, более удобные способы к созданию и сохранению своих творений, чем те, которые ей приписываются нашими Лейбницами и Боннетами» (475–476). Судя по всему, физиологическое обоснование теории происхождения идей не объясняло Карамзину сущности явления.
Вопрос о способе соединения души с телом вырастал для него в центральную проблему познания и самопознания. «Нужно знать себя и со стороны души, и со стороны тела, нужно вникнуть в различные отношения их между собою, чтобы осмелиться сказать: я себя знаю», – писал Карамзин 20 июня 1787 (468). Видя в Лафатере «знатока в науке о человеке», сформулировавшего мысль о неповторимости человеческой индивидуальности, он надеялся услышать от него исчерпывающее объяснение. Лафатер, однако, отказавшись от какого бы то ни было доказательства, сделал в своем ответе от 16 июня 1787 г. акцент на особом предназначении человека: «Я существую – размышляю о своем бытии – и сравниваю его с другими видами бытия – и не знаю ни одного подобного человеческому, почему я называю его царственным, духовным, высоким, предназначенным на продолжение и совершенствование, – и радуюсь этому и больше не мудрствую» (470).
По сути цюрихский священник допускал самостоятельность души, ее независимость от опыта. Такой ответ, очевидно, разочаровал юного Карамзина, который в следующем письме от 25 июня1787 г. отстаивал эмпирическую точку зрения: «Итак, теперь еще невозможно в точности понять связь души с телом, это грустное открытие для того, кто так желал себя познать <…> Я родился с жаждой знания; я вижу, и тотчас хочу знать, что произвело сотрясение в моих глазных нервах: из этого заключаю, что знание для души моей необходимо, почти так же необходимо, как для тела пища, которой я искал с той минуты, как появился на свет. Как только пища моя переварена, я ищу новой пищи; как только душа моя основательно узнает какой-нибудь предмет, то я ищу опять нового предмета для познания» (472–473).
Карамзин явно прибегал к выражениям Бонне, черпая аргументацию в его сенсуалистской теории[40 - Ср. в «Созерцании природы»: «Нервы, разным образом потрясаясь от предметов, сообщают свои потрясения мозгу; а по сим впечатлениям происходят в душе представления и ощущения» (XIX,183).]. Проблема, решаемая Лафатером в онтологическом плане, имела для Карамзина и важный гносеологический аспект. Источником чистого эмпиризма мог быть и трактат И. Канта «Грезы духовидца» («Tr?ume eines Geistersehers», 1766)[41 - Rothe H. N. M. Karamzins europ?ische Reise: Der Beginn des russischen Romans. Philologische Untersuchungen. Berlin; Z?rich: Verlag Gehlen, 1968. S.70.]. Но «метафизика» Канта всегда представлялась Карамзину слишком сложной, о чем сохранились его свидетельства[42 - В «Письмах русского путешественника», описывая свою встречу со «славным», «глубокомысленным» и «все сокрушающим Кантом», он не без иронии заключил: «Кант говорит скоро, весьма тихо и не вразумительно; и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха. Домик у него маленький, и внутри приборов не много. Все просто, кроме… его Метафизики» (21).]. Бонне же обладал даром художественной популяризации своего философского учения. Передавая мнение о нем Виланда, автор «Писем русского путешественника», безусловно, выражал собственную точку зрения: «Никто из Систематиков <…> не умеет так обольщать своих читателей, как Боннет; а особливо таких читателей, которые имеют живое воображение» (76).
Ясность и простота, художественная образность изложения сенсуалистской теории способствовали, по-видимому, обращению Карамзина к Бонне в 1789 г., уже в качестве переводчика. Очень добросовестно излагая механизм формирования чувств и идей, он добивался терминологической точности. Многие вводимые им обозначения сопровождались оригинальным названием понятия в скобках: «представление» (perception), «ощущение» (sensation), «чувствование» (sentiment), «изменение» (modification), «настроение» (dеtermination), «естественное побуждение» (instinct), «склонность» (affection), «одинаковость» (identitе) (XIX,184,188,189,194).
Позднее, в письме к Бонне после личного знакомства с ним, Карамзин заметит в «Письмах русского путешественника»: «трудно <…> выражать ясно на русском языке то, что на французском весьма понятно для всякого, кто хотя немного знает сей язык» <…>. Надобно будет составлять и выдумывать новые слова, подобно как составляли и выдумывали их немцы, начав писать на собственном языке своем» (171).
Но стремление к скрупулезной терминологической адекватности отнюдь не означало для Карамзина прямолинейного приятия материалистического объяснения процесса познания. Впоследствии он не раз будет обыгрывать физиологические принципы теории Бонне в ироническом контексте[43 - Позднее в «Письмах русского путешественника» он не без иронии передал спор между едущими в карете по дороге в Мейсен «Студентом» и «Магистером»: «“Вы ищите за милю того, что у вас под носом”, – сказал ему Шафнер с сердцем; но душа Магистрова была в сию минуту так полна, что ничто извне не могло войти в нее, и Шафнерова риторическая фигура проскочила естьли не мимо ушей его, то по крайней мере сквозь их, то есть (сообразно с Боннетовой гипотезою о происхождении идей) не тронув в его мозгу никакой новой или девственной фибры (fibre vierge)». (С. 59).]. Более привлекателен для него был другой аспект гносеологической теории Бонне – мысль о сложности и в определенной мере неподвластности научному познанию души человека, утверждение идеи индивидуального различия.
«Обойди все народы земные; рассмотри жителей одного государства, одной провинции, одного города, одного местечка – что я говорю! – Посмотри на членов одного семейства, и тебе покажется, что каждый человек составляет особливый род», – писал Карамзин вслед за Бонне (XIX, 175–176). Размышляя о различиях в темпераменте, швейцарский натуралист заключал, что «разные люди не могут чувствовать точно одного при действии одних предметов» (XIX,189). Вывод его был связан с провозглашением сознательной направленности поведения человека: «Познавай же свой темперамент! Естьли он порочен, можешь исправить его, однакож не стараясь разрушить оного» (XIX,190). Карамзину была близка эта активная просветительская позиция[44 - Канунова Ф. 3. Из истории русской повести: (Историко-литературное значение повестей Н. М. Карамзина). Томск: Изд-во ТГУ, 1967. С.11–14.].
В целом анализ перевода, отражающего восприятие Карамзиным «Созерцания природы», позволяет уточнить его собственный взгляд на человека, во многом «синтезирующий» концепцию просветительского антропологизма и идею неповторимости, самоценности внутреннего мира личности. Размышляя над философским соотношением свободы воли и необходимости, он отвергал механистический детерминизм, утверждая возможность нравственного совершенствования.
Глава 2. «Британский гений»: «Юлий Цезарь» Шекспира в переводе с немецкого посредника
В начале литературной деятельности, проходя своеобразную литературную учебу, Карамзин не мог пройти мимо Шекспира. Именно в Англии, где классицизм всегда был далек от ортодоксальности, начали распространиться первые преромантические веяния. В своем программном стихотворении «Поэзия» (1787) Карамзин утверждал, что «Британия есть мать поэтов величайших». Наряду с Оссианом, Томсоном, Юнгом и Мильтоном особое место он отвел Шекспиру:
«Шекспир, Натуры друг! Кто лучше твоего
Познал сердца людей? Чья кисть с таким искусством
Живописала их? Во глубине души
Нашел ты ключ ко всем великим тайнам рока
И светом своего бессмертного ума,
Как солнцем, озарил пути ночные в жизни!
«Все башни, коих верх скрывается от глаз
В тумане облаков; огромные чертоги
И всякий гордый храм исчезнут, как мечта, –
В течение веков и места их не сыщем», –
Но ты, великий муж, пребудешь незабвен!»[45 - Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений. Библиотека поэта. Второе издание. Л.: «Советский писатель», 1966. С. 61.]
Работа над переводом трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» оказалась важным этапом в творческой эволюции начинающего литератора. Обращение к этой пьесе весьма показательно для общественной позиции Карамзина накануне французской революции. Вместе с тем Шекспир в конце XVIII в. стал знаменем борьбы с классицизмом. На долю двадцатилетнего Карамзина выпала трудная миссия впервые дать полный русский перевод трагедии великого английского драматурга, поскольку предшествующие переделки не давали о нем сколько-нибудь определенного представления.
Перевод Карамзина был выполнен прозой. В предисловии он так сформулировал свои переводческие принципы: «Что касается до перевода моего, то я наиболее старался перевести верно, стараясь притом избежать и противных нашему языку выражений. Впрочем, пусть рассуждают о сем могущие рассуждать о сем справедливо. Мыслей автора моего нигде не переменял я, почитая сие для переводчика непозволенным.
Если чтение перевода доставит российским любителям литературы достаточное понятие о Шекеспире; если оно принесет им удовольствие, то переводчик будет награжден за труд его»[46 - Юлий Цезарь, трагедия Виллиама Шекеспира. М.: В Тип. Компании Типографической, 1787. С. 7.].