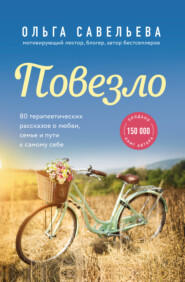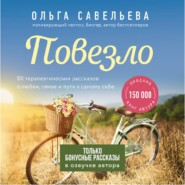По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путь к себе: 6 уютных книг от Ольги Савельевой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я замечаю, что и правда все девочки вокруг тоже в гольфиках, и все они натянуты ниже коленок, а я не знала и тянула их до предела – выше колен, отчего смотрятся теперь мои гольфы как чулки.
Вот почему все улыбались. Они просто смеялись надо мной. Мне становится стыдно, и я хочу провалиться сквозь землю. Почему никто не сказал раньше? Катя почему не сказала? Я смотрю на сестру и вижу слезы в ее глазах. Она плачет из-за меня: она просто не заметила или тоже не знала. При этом ее гольфы надеты правильно.
Катя приседает и поправляет мне гольфы, и я вижу, как она смотрит на папу: как тогда на маму – с грустью и осуждением, мол, почему ты не сказал.
Потом Катя меня обнимает, и мне сразу хочется плакать. Это ее жалость проникает в меня. Жалость, упакованная в сестринскую любовь. Иногда мне кажется, что меня никто, кроме Кати, и не любит…
Внутри царит звенящая пустота. Счастья больше нет. Хочется домой. Мы медленно идем к каруселям, взявшись за руки. Только я больше не хочу кататься.
Больница
Я пришла в больницу навестить маму. Больница психиатрическая.
Я никогда раньше не была в таких заведениях, не знаю, что можно, что нельзя и как себя нужно вести. Поэтому мне слегка не по себе.
Санитарка при входе протягивает мне бахилы и проводит ревизию всего, что я принесла: проверяет на отсутствие в вещах признаков опасности для пациента.
Откладывает в сторону любимую мамину чашку с красными вишенками: это нельзя. Ведь чашку можно разбить и перерезать вены себе или соседу по палате. Об этом я не подумала…
– Проходите, – кивает санитарка на дальнюю по коридору палату без дверей.
Я вхожу – и сразу вижу маму.
Она сидит нахохленным воробышком на ближайшей к выходу кровати, опустив голову, в каком-то застиранном рваном халате, непричесанная, несчастная, худые морщинистые ручки лодочками лежат на коленях, один тапочек трогательно слетел с худой, бледно-синеватой ноги…
У меня щемит сердце. «Может, забрать ее отсюда?» – спрашивает тронутый увиденным внутренний голос.
Тихо подхожу к ней, кладу руку на плечо:
– Привет. Как ты?
Я давно не произношу слово «мама». Не могу. Оно словно застревает в горле.
Маленькие дети часто не выговаривают букву «р». Я не выговариваю слово «мама».
Она вздрагивает, поднимает на меня пустые глаза, которые тут же наливаются яростью.
– Ты зачем пришла? Позлорадствовать? Упекла меня сюда, а теперь совесть мучает? Посмотреть пришла, как я тут, в «пансионате», устроилась?
Палата рассчитана на восемь коек. Все они заняты. Остальные семь пациенток замерли, смотрят на нас с интересом.
Мне неловко, неуютно. Хочется отдать передачку и скорее уйти. Внутренний голос уже молчит и ничего не предлагает.
– Сигареты принесла? – грубо спрашивает меня неопрятная опухшая женщина с большим щербатым ртом.
– Нет. – Я растерянно машу головой.
– Сколько стоит сделать человека психом, а? Расскажи, нам тут всем интересно! Полюбуйтесь, девочки, вот пришла мошенница, предательница, сволочь… – мать полыхает гневом, глаза красные, на губах запеклась слюна.
Она не признает наличие в себе болезни, влияющей на адекватность ее поведения, и злобно ищет виноватых в своем заключении в психушку. А что их искать-то – вот она я…
– Дайте, пожалуйста, телефон позвонить маме, – тихо просит кроткая девушка, почти девочка, сидящая на кровати у окна. – Я по маме скучаю…
У нее промытое нежное личико, взгляд Аленушки, и даже волосы заплетены в косичку с пробором. Не хватает платочка и сарафана для полноты образа…
Не задумываясь, я подхожу и протягиваю ей телефон. Она забирается на кровать с ногами в теплых вязаных оранжевых носках (наверное, мама вязала?) и вдохновенно набирает номер, который помнит наизусть. Лицо ее оживляется, появляется румянец.
«Господи, она-то тут как оказалась?» – думаю я, наполняясь сочувствием.
Возвращаюсь к матери под безжалостным дулом восьми пар глаз и спрашиваю:
– Скажи, что тут можно, что нельзя, что тебе еще надо для пребывания, я просто не знаю…
– Ничего мне от тебя не надо. – Мать поджимает губы, демонстративно отворачивается.
Ей нравится играть эту роль для благодарных зрителей – держать образ гордой и несломленной предательством женщины.
Она отрицает свою болезнь, как и большинство здешних пациентов: их искаженная реальность кажется им нормой, а все, кто так не считает, – враги. Как правило, врагами назначаются самые близкие родственники, для которых искаженное сознание человека становится ежедневной проблемой и зачастую представляет опасность для жизни всей семьи.
– Ты очень красивая, – обиженно говорит закутанная в пододеяльник женщина-мумия в самом углу.
– Спасибо, – приветливо улыбаюсь я в ответ.
– Прямо светишься вся. Здесь никто обычно не светится. Наоборот. Смердят.
– Она на сносях, не видишь? – вступается за меня Аленушка.
– Сигареты принесла? – снова спрашивает Щербатый рот.
– Нет, – снова отвечаю я, пряча недоумение.
– Вот тут вещи твои, спортивный костюм, ночнушка, белье, полотенце, а тут – вода, конфеты, печенье… – смущаясь, говорю я матери и протягиваю пакет.
– Вот сама и жри! – огрызается мать, отталкивает пакет, он падает на пол, разрывается, и из него брызгают конфеты разноцветным салютом.
Тяжело приседая, я встаю на одно колено, собираю конфеты. Я на восьмом месяце беременности.
– Сигареты принесла? – Щербатый рот.
– Нет, – отвечаю я с раздражением.
В этот момент в палату входит импозантный врач в кипенно-белом халате со свитой из двух санитарок. Врач выглядит как суперзвезда из сериала про «Скорую помощь», он красив и загорел, под халатом – джинсы. Такой расслабленный врачебный кэжуал-стайл.
Я встаю с колен, здороваюсь.
Мать мгновенно преображается, надевает улыбку.
– Как дела, девочки? – громко и бодро спрашивает врач у всех сразу.