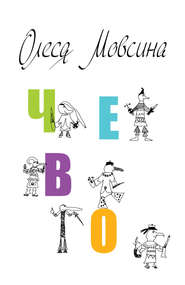По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Всемирная история болезни (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А он всю жизнь недолюбливал эту насильственную природу, эту дачную этику-эстетику. Но Фенечка однажды скрутила ему руки за спиной и сдала с потрохами своим папе и маме (пардон, случайная рифма).
– А говорил, что со мной – хоть на край света…
Он и правда порой не мог на нее наглядеться, но сегодня глядеть получалось с укором. Тогда она, угловато-гибкая, осознала ошибку, взяла его под руку и повела от дома – куда-нибудь в лес. (Родителей оставим навсегда – шептаться о впечатлениях.)
– Я недавно побывала на крестинах. Моя подруга (да, та самая) позвала меня быть крестной ее сынишке. Мальчику сейчас полгода, вот я подумала…
Матвей слушал рассеянно, ожидая подвоха. Они сели на теплый мурашковый камень.
– Я поняла, почему происходит окостенение души (у некоторых людей) вскоре после рождения ребенка. Нельзя быть слишком подвижной с младенцем на руках: упадешь или уронишь. И ты заставляешь себя застыть, чтобы дать ему ощущение уверенности, каменной стены. А потом забываешь, что когда-то было иначе. Отодвигаешь от себя все страхи и сомнения, чтобы они не мучили малыша, а потом об этих страхах благополучно забываешь.
Матвея умиляло и раздражало умение Фенечки – начиная издалека – попадать в самую сердцевину его размышлений. Иногда она заставляла его смеяться, он с наслаждением погружался в ее интеллектуальный эксцентризм: то изощренно мудрой, то ошарашивающе глупой казалась ему эта девушка. От пламени ее волос среди лета занималась осень, своими худыми неловкими руками она могла запросто переставлять фишки на поле его мировоззрения, он всё прощал ее хамелеоновым глазам… Но только сейчас он понял, как измучила его эта ведьма.
Матвей пошарил в кармане сигарету, но, не найдя – вытащил каверзный вопрос:
– А ты, Лисенок, ты не чувствуешь себя в таком случае ребенком? Моим ребенком?
Так как платье на Фенечке было нейтральное, белое, он понял, что цвет своих глаз она может менять самопроизвольно. Он испугался и сбросил ее с философского камня в цветы:
– Шучу.
Чем он ее больше обидел: этим вопросом, этим шучу или последующим своим бегством?
Насчет подвижности-неподвижности. Был у Матвея в детстве приятель. Не то чтобы близкий друг – очень болезненный, но любознательный, дотошный эдакий Костя. Вместе они ходили в библиотеку, спорили о том, какая линейка точнее: деревянная, пластмассовая или железная, вычисляли дату конца света и задавались вопросом: неужели жук-плывунец и правда дышит хвостом? В общем, начало истории скучновато. А потом Костя заболел, болел он всю зиму, а в результате всяческих осложнений выяснилось, что он не сможет больше самостоятельно двигаться, даже вряд ли встанет с постели. И тогда всё начало в нем меняться: из лохматого, скучного ботаника пробился и вырос слегка просветленный, слегка сумасшедший человечек, не желающий открывать законов сего мира, но создающий законы свои, откровенно многозначительные и неожиданные. Матвей мог часами сидеть у его постели – и восхищаться, и ругаться, и слушать, и говорить. Кажется, вся самая колкая юность отметалась в спорах с Константином. Он был для Матвея духовным ростомером, слегка опережающим и всегда недоступным. Особенно потом, когда Матвей навсегда сбежал из родного города – продолжая во всем мысленно советоваться со своим другом.
– И вот мы не виделись уже около пяти лет, а я… Я пишу ему письма, регулярно и, хотя не получаю ответа, но додумываю его партию, то, что он мог бы мне написать, если б мог…
– Так он что, совсем-совсем не может двигаться, даже писать? – искренне пожалела Фенечка.
– Он может держать книгу, может, пожалуй, написать несколько слов, но – с трудом. Зная это, я даже никогда и не давал ему своего адреса, никогда и не просил у него ответа.
– И ты, – Фенечка замерла на выдохе. Вспомнила, что на белом платье нет карманов и неоткуда вытащить каверзный вопрос. Но вот, пожалуй, в туфли набилось много мусора, и если потрясти… – Ты ничего не знаешь о его судьбе? О его жизни? А если ему нужна твоя помощь, друг…
– За ним ухаживают родители…
– А что, если его родители заболели или вот – умерли? А что, если его самого, твоего ростомера, твоего идеала нет уже в живых? Кому ты пишешь свои красивые, свои бесценные письма, писатель?
Как говорится – молчание повисло. Нет, так не говорится – молчание повесилось. Они замерли друг против друга, а между ними замер камень.
Какая-то боль дернула его изнутри, он повернулся и пошел. Понял, что проиграл, не спор, но… И побежал в буквальном смысле, смутно представляя, но доверяясь интуиции, – в сторону станции, туда, откуда привела его несколько часов назад нежная и рыжая судьба.
15
Наконец-то покончив со смертями, новоявленный Марк прибыл на место службы (место это находится где-то в Европе, около или, скорее, под).
Прежде всего ему предстояло освоить на практике весьма изощрённый (слегка извращённый) способ получения и передачи информации.
Его официальная служба не была ни опасна, ни трудна: день-деньской он колесил по городу на раскрашенном рекламой автомобильчике и развозил заказанные завтраки, обеды и ужины. Пицца там, птица и прочее. Так вот, колеся по городу, он должен был выуживать и собирать воедино крупицы оставленных для него и зашифрованных посланий. Витрины, окна, рекламные щиты, так или иначе ежедневно изменяясь, складывались в смыслонесущие тексты. Синий костюм манекена в угловом магазине готового платья или капуста, разложенная справа, а не слева от моркови в овощной лавке, – значили то-то и то-то. Орфографическая ошибка в объявлении о приеме на работу – что-то свое, иное. А оторванный и приклеенный желтым скотчем угол концертной афиши в сочетании с той же капустой – образовывали целый пучок смыслов, расшифровать который было под силу только опытному разведчику.
Первые дни Марк учился читать город, сначала по слогам, а потом все беглее и беглее. Такой сложнейший способ кодировки имел два явных преимущества. Во-первых, агенты могли общаться со своим шефом почти лично, никогда не встречаясь с ним и не зная его в лицо, а во-вторых, исключалась возможность провала и предательства. Ибо поди докажи какой-нибудь контрразведке, что флюгер на зеленой башенке жилого дома, застрявший под углом 30 градусов к ветру, означает грядущее падение цен на нефть на мировом рынке, а 35 градусов того же флюгера говорят об успехе переговоров в Бернелозанне.
Всему этому он научился, сидя в Доме на поляне. Стоит ли разъяснять проницательному читателю нерукотворность происхождения этой азбуки? Нужно ли также подчеркивать, что ответы начальству не требовали со стороны Марка ровно никаких усилий? Мудрый резидент знал обо всех действиях своих подчиненных, изучая, к примеру, порядок флаконов на своем туалетном столике или сочетание кактусных колючек в окне дома напротив.
Информация – штука могущественная и самодостаточная, нужно только уметь ее добывать, это, надеюсь, понятно? Таков был ключ и девиз шифра, открытого, но не изобретенного Хозяином Дома на поляне.
Увлекшись чтением шпионского романа, создаваемого жизнью, выпускаемого городом, – Марк едва не забыл, что надо жить. В том смысле, что окружающие (сослуживцы, клиенты, соседи) едва не заподозрили в нем не того, за кого он себя выдавал. Едва не забыл, что молодой парень, сын дантиста, недавно перебравшийся из провинции поближе к столице в поисках работы повеселей, должен любить девчонок и пиво. И шумных друзей. Должен иметь увлечение типа футбола или автомобилей. Должен быть остроумным, ленивым и грубоватым, но в меру, дабы не отвратить от себя никого, кто пожелает обратиться к его скромной персоне за приятным впечатлением. Но всё это Марк вовремя вспомнил.
Когда-то он был равнодушен к пиву, а футбол презирал, как пустую трату времени. Но, будучи хорошим актером, теперь не зевал и не скрипел зубами в пабах и на стадионах. Ну и, соответственно, свет в конце концов – решил… и принял его в свою тусовку безоговорочно.
В выборе девушек для общения он почему-то ухитрился заклиниться на рыженьких. Их было несколько, две или три штуки, и все ему странно что-то напоминали. Одной из них он даже подарил деревянные длинные серьги (ее уши оказались непроколотыми), но в общем ухаживал как-то сонно, не тыкая девушку носом ни в свои, ни в ее чувства.
Однажды после работы он подвозил огненноглавую лапушку Анну, колеся, вез как положено околесицу. Она хихикала, теребя в руках какой-то предмет, от которого брезжило дежа-вю, подкатывало к животу и снова прядало, не дотягивая до воспоминания, до облегчающего чиха-оргазма.
Перед тем как выскочить из машины, птичка наклонила к Марку свое миловидное спасибо и поцеловала ему щеку. При этом движении качнулся и вернулся обратно серебряный крестик над модным квадратным вырезом. Марк дернулся и неловко стукнулся о невидимую преграду: ему показалось, что Анна заговорила на каком-то чужом языке, языке транса, языке предков или потомков: «Подожди, я сниму уж тогда и его, потому что стыдно, потому что мы с тобой невенчаные, потому что я не хочу, чтобы он видел… помоги расстегнуть цепочку, положи там… не потеряй…»
Реальность вернулась – образ из предыдущей жизни, узурпировавший на секунду сознание Марка, ретировался. Рыжая грудастая дива быстро мигала, кокетничая через плечо в захлопнутую дверь, а проходивший мимо почтальон держал в вытянутой руке бежевый конверт и вытирал рукавом этой вытянутой руки пот со лба. Вся увиденная картина снова заставила нашего доблестного разведчика вздрогнуть. В девице и в почтальоне он увидел, прочел… Так, теперь – клумба – желтые цветы, дальше – белые шторы и – облако в виде буквы зю. Черт возьми! Он продолжал лихорадочно читать, схватывая знаки, заводя мотор.
Сорвался с места и – на площадь. Наконец-то! Как давно он ждал этого! Всё в точности – голубь на плече конной статуи поставил точку в этой шифровке (утром ее смоет педантичный служитель).
Придя домой, задвинув шторы, заточив карандаш и отослав служанку, наш герой мог бы записать и сжечь в пепельнице следующее:
«…………………………………………………………………………»
Но он не сделал этого, он…
16
На Меховой им сразу повезло. Не успел Адамович подумать о том, что милиционеры – это, наверное, чревовещатели (или что-то подобное он уже думал когда-то?), как изможденный опытом работы и непрерывным трудовым стажем капитан (Капитон Капитоныч) заинтересовался их делом.
– Что, опять сосиски? – захмыкал он, ошибочно принимая Киссу за обвиняемую сторону, а Адамовича (безошибочно) за пострадавшую. – Ах, на сей раз внучка-жучка? Ну что ж, придется поиграть с этими разбойниками в кошки-мышки.
Он заставил наших героев писать заявления – каждого отдельно, свою версию – о том, как всё произошло, не выпуская ни одной детали и верно расставляя запятые. Сам же обещал тем временем (а время было еще то) послать на Горошковую улицу группу захвата. Ею оказались три сказочно добрых молодца в сером платье: Саша Дарницкий, Андрей Нарезной и Макс Бабаевский, все лейтенанты молодые, толстые от важности и бронежилетов. Саша был старшим лейтенантом, Андрюша – младшим, ну, а Максимка – средним, так себе.
И тут Адамович поймал сам себя, причем поймал на мысли, что всё это где-то уже. Богатыри начистили до блеска свою доблесть, погрузились в зарешеченную «буханку», призванную рекламировать городские хлебопекарни, и отправились в путь. Причем Максим сел за руль, а Саша и Андрей прильнули к клеточкам окна, затянув ремни парашютов и жалобную песню.
(Век реализма миновал еще в минувшем столетии, авось и такая группа захвата на что-нибудь сгодится.)
Сам Капитон Капитоныч тоже погрузился – в иллюстрированный журнал с названием о каком-то хоме и с мускулистым мужиком на обложке. «Тоже животновод», – с подозрением подумал Адамович, ощущая во рту горечь опыта. Он излил на бумаге всю боль, скопившуюся за день, промочив около трех листков. Каруселькина списывала, как последняя двоечница. Когда капитан через сорок пять минут собрал учительственным жестом листки, он воскликнул, глядя в Киссину работу:
– Это что ещё за явление!
Оказалось, что Кисса писать не очень-то, а всё, что она успела перерисовать у соседа по парте – это «за явление», написанное через раздельно и с ятем на конце. Капитоныч чуть не прописал Киссе ижицу, но она как всегда выкрутилась и вылезла вон через форточку. Глянул же в писанину Адамовича, оказалось, что капитан – читать не очень-то, а потому он поспешил пробормотать «отлично» и сунул сочинение в несгораемый шкаф.
А тут как раз (два, три) захватчики вернулись с добычей. Это была даже не пленная турчанка с миндалевидными очами (очевидными миндалинами), пугливая, как лань, а пигалица, девица Протеина – ясно дело, чья сестра. Если же не ясно – справка из личного дела оной девицы: всю сознательную жизнь мечтала она выйти за иностранца, чтобы носить иностранную фамилию, двадцать пар туфель и ресницы без комочков. Всё это оказалось неосуществимым, окромя, пожалуй, фамилии. Востренький носик побывал в умных словарях, и Аленка Белкова превратилась в мисс Альбину Протеину; это гордое имя весьма украшало кикиморью фигурку, похожую (по некоторым классификациям) даже не на стиральную, а на гладильную доску.
Капитан радостно запотирал руки и предложил устроить немедленный допрос. Для чего посоветовал вытащить из Альбининого рта кляп, но тощих рук ее не развязывать во избежание рукопашной.
Оказалось, что Кисса писать не очень-то…