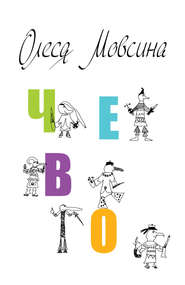По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Про Контра и Цетера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я не удержалась, киваю на её книгу:
А русская поэзия вас не интересует? У нас есть кое-что.
Девочка презрительно: Pardon, madame, j’ne comprends pas, сдачу взяла и дверью хлопнула. Потом еще минут десять на той стороне улицы топталась, курила, мороженое покупала. Я в окошко видела.
Мужчина заплатил за достойное чтиво своей супруги и взял ещё несколько конвертов для себя. Я подумала, что надо будет написать об этой сцене Нюсе, и сразу же потеряла к весёлой троице интерес.
Madame? Нет, всё-таки пора, пора мне уже возвращаться в Россию. Там начинает происходить что-то забавное.
4. Болезнь
Георгий Максимов:
Я никогда никому этого не рассказывал. Но если тебе будет нужно, пусть они тоже узнают.
Мне было шесть лет, когда началась война. Детские сады эвакуировали из Ленинграда, и наш в том числе. Назначили день отъезда, собрали вещички, и тут я заболел. Мама всё равно привела меня, потому что другой возможности выехать у нас не было. Я стоял в сторонке со своим рюкзачком и ждал, смотрел, как все прощаются и суетятся. Но тут к нам подошла наша детсадовская врач или медсестра – я не помню – и стала что-то сердито доказывать моей маме: «С ветрянкой в общий автобус? Да вы что, хотите, чтобы у нас весь детский сад в пути заболел?» Молодая и очень красивая. Чем-то похожая на тебя. Но это теперь я вспоминаю, а тогда я её просто ненавидел. Во-первых, она кричала на мою маму, во-вторых, не давала мне уехать. Я очень боялся уезжать без родителей неизвестно куда, но уже понимал, что остаться – боюсь ещё больше. В общем, в любом случае, я заплакал. Она присела на корточки и посмотрела мне в лицо: «Может, это и лучше, Гоша, ведь ты остаёшься с мамой». Так просто-просто, как будто меня не брали на воскресную прогулку за город.
Сама она уезжала. Я оставался. Я стоял и смотрел, как все мои сели в автобус, как махали в окошки своим родителям и мне. Мне тоже, ведь у меня были там друзья. И вот все эти мордашки – сквозь двойное стекло окна и моих слёз, – автобусы трогаются, разворачиваются и уезжают.
На следующий день я узнал от соседки, что на выезде из города на них налетели немецкие бомбардировщики и от нашего детского сада ничегошеньки не осталось.
Потом мы уехали с мамой. Нас переправляли по воде, и когда мы были метрах в пятидесяти от спасительного берега, тоже налетели вражеские самолёты. Я выбивался из-под маминой руки, стрелял в них из своего деревянного ружья и кричал: «Нате вам, нате!» А потом нас, наверно, подбили, потому что помню, что добирались вплавь или вброд. И какой-то мужчина, помню, нёс меня на плечах, а я кричал маме, что оставил на корабле своё ружье. И от этой обиды плакал.
После войны мы в Ленинград уже не вернулись.
Вот и всё пока, что я хочу рассказать. Зачем я вообще это делаю? Не знаю, может, мне просто хочется тебя предостеречь. Просто нужно быть всегда настороже и не выпускать из рук своего деревянного оружия. Понимаешь?
Агния:
– Вадим Георгиевич… Вы меня видели в отражении?
Потому что он улыбался, разворачиваясь от ларька, где до этого что-то рассматривал.
– Да, вы тут немножко отразились. Хотя это не помешало вам быть совершенно неотразимой, – потом помолчал, угадывая мое настроение, и решился: – Как поживает Воскресёнок?
– Воскресёнок? Надеюсь, вы не издеваетесь?
– Нисколько, милая Агния. Вот вы, например, будете долго смеяться, если я вам сейчас покажу Гоголя?
Он ждал какой-то реакции – хотя бы уж не ответа. А я, как дура, стояла и плавно пережёвывала его «милую Агнию». Очень уж мне это показалось горячим и вкусным. И ещё немножечко неуместным.
– Смотрите, здесь он. Всего одиннадцать рублей.
Там, на витрине ларька, среди прочих и прочих лежала конфетная трубочка с надписью на обложке: ГОГОЛЬ. И с подзаголовком: «поэма в сливочном вкусе».
Вот это да! Что же случилось с моим драгоценным учителем? Он вроде бы как улыбается и даже пытается пускать золотистые искорки из самых серединок зелёных глаз.
Будьте любезны! Вадим Георгиевич купил этого конфетного Гоголя и протянул его мне. Я сунула оранжевую трубочку прозапазуху, и взамен приготовилась выдать экспромт. (А в прошлый раз мне казалось, что я разговариваю даже не со стеной, а с абстрактным фактом переезда с одной квартиры на другую.) Где-то между Гомелем и Могилёвом Гог и Магог могут готовить гоголь-моголь.
Он усмехнулся:
– Это вы только что сочинили?
– Нет, это так. Просто я чувствую, как они иногда прорываются, просятся сюда.
– Кто они? – удивленно сморгнул Максимов.
– Нет, нет, ничего. Боюсь, что я не смогу хорошо объяснить, – и, казалось, захлопнула тему перед самым его носом. Но он ловко подставил ногу и наполовину протиснулся в дом:
– Значит, и Воскресёнок из их числа?
– Ладно. Может, быть, что из их. Воскресёнок, он маленький. Он просто приносит письма. И что самое приятное – про него нельзя сказать: добрый или злой. Я ещё не знаю, как к ним относиться, а вот вы… Главное, не шутите.
Максимов сказал: Агния.
Я расправила плечи и язык распустила.
– Знаете, вы не были в зоопарке? В этом передвижном, который недавно приехал? Вагончики такие цветные со зверушками на площади за автовокзалом зоопарковались. Мы на прошлой неделе пошли с моими подопечными детишками. Вы знаете, я ведь работаю няней в одной семье.
– Я знаю.
– Откуда, ну, ладно, не важно. Так вот, у каждого работника этого зоопарка висит на груди фамильно-должностной бейджик. Я обратила внимание: некоторые фамилии нормальные, человеческие, а другие… Ну вот, сейчас… Один там – Птичкин-Невеличкин, другой – Лисичкин-Сестричкин. Ещё – Зайкина-Забегайкина. А знаете, как зовут администратора или директора, что ли? Афанасий Лосев-Запредельский. Скажете, это нормально? Что вы смеётесь?
– Да, лось – действительно животное запредельное, – выхохотал Вадим Георгиевич.
– Нет, ну правда! Думаете, это развесёлые псевдонимы и только? И тогда он ещё раз назвал меня «милая Агния».
– Милая Агния, ваши рассказы пробуждают во мне жажду… едва ли не жизни. Давайте зайдём, и я водочки выпью.
– А самое странное, что детишки мои подопечные, Даня и Таня, после этого заболели… Нет, не ветрянкой, простыли. Не смейтесь.
– Я давно не смеюсь. Если бы вы только знали, как давно я уже не смеюсь!
В тот вечер мне пришлось провожать его до самого дома. Он утолял жажду жизни до тех пор, пока портфель не стал слишком тяжёлым и не упал из его руки на пол очередной забегаловки. Мне было смешно и странно помогать обессилевшему кумиру моего студенчества. Впрочем, он сам вряд ли уже замечал моё рядом с собою присутствие.
Лена:
Почему они выезжают на дорогу и не смотрят по сторонам – коляской вперёд и не смотрят. А смотрят только потом, когда уже сами на дорогу выйдут. Сто раз такое видела. А один раз даже видела, как мамаша одна вдоль дороги шла, тротуара там и правда не было, но ребёночка своего она вела за ручку не собой прикрывая, а с той стороны, где машины. Я бы таких больных мамаш собственными руками душила бы. А уж как ненавижу, когда они на детей орут на улицах и в магазинах. А уж как я себя ненавижу, когда на Танюшку или на Данечку кричу. И потом всю ночь спать не могу. Ненавижу.
5. Одноклассник
Вадим:
Захожу домой – слышу примерно следующее:
– Понимаешь, заметил, что мои одноклассники умирают один за другим. Совсем ещё нестарые люди: кто от болезни, кто спивается, кто в аварию попадает. Дальше – ещё интереснее: представь, стали умирать сокурсники, институтские товарищи, и преподы, хоть те, конечно, постарше, но тоже – заодно. Ни года не проходит без похорон. Не знаю уж, может, я старею и скоро моё время придёт, но кажется, всё неспроста.
Голос моего приятеля Игоря. Одноклассника, между прочим. Сидит и втирает кому-то из моих девиц всякую ахернею. Пока меня дома нет, уж я бы не дал ему такие разговорчики. Разувался, и тошнило. Нет, выпил я не так уж и много. Да и не то пил, чтобы плохо было. Тошнило от этих слов:
А русская поэзия вас не интересует? У нас есть кое-что.
Девочка презрительно: Pardon, madame, j’ne comprends pas, сдачу взяла и дверью хлопнула. Потом еще минут десять на той стороне улицы топталась, курила, мороженое покупала. Я в окошко видела.
Мужчина заплатил за достойное чтиво своей супруги и взял ещё несколько конвертов для себя. Я подумала, что надо будет написать об этой сцене Нюсе, и сразу же потеряла к весёлой троице интерес.
Madame? Нет, всё-таки пора, пора мне уже возвращаться в Россию. Там начинает происходить что-то забавное.
4. Болезнь
Георгий Максимов:
Я никогда никому этого не рассказывал. Но если тебе будет нужно, пусть они тоже узнают.
Мне было шесть лет, когда началась война. Детские сады эвакуировали из Ленинграда, и наш в том числе. Назначили день отъезда, собрали вещички, и тут я заболел. Мама всё равно привела меня, потому что другой возможности выехать у нас не было. Я стоял в сторонке со своим рюкзачком и ждал, смотрел, как все прощаются и суетятся. Но тут к нам подошла наша детсадовская врач или медсестра – я не помню – и стала что-то сердито доказывать моей маме: «С ветрянкой в общий автобус? Да вы что, хотите, чтобы у нас весь детский сад в пути заболел?» Молодая и очень красивая. Чем-то похожая на тебя. Но это теперь я вспоминаю, а тогда я её просто ненавидел. Во-первых, она кричала на мою маму, во-вторых, не давала мне уехать. Я очень боялся уезжать без родителей неизвестно куда, но уже понимал, что остаться – боюсь ещё больше. В общем, в любом случае, я заплакал. Она присела на корточки и посмотрела мне в лицо: «Может, это и лучше, Гоша, ведь ты остаёшься с мамой». Так просто-просто, как будто меня не брали на воскресную прогулку за город.
Сама она уезжала. Я оставался. Я стоял и смотрел, как все мои сели в автобус, как махали в окошки своим родителям и мне. Мне тоже, ведь у меня были там друзья. И вот все эти мордашки – сквозь двойное стекло окна и моих слёз, – автобусы трогаются, разворачиваются и уезжают.
На следующий день я узнал от соседки, что на выезде из города на них налетели немецкие бомбардировщики и от нашего детского сада ничегошеньки не осталось.
Потом мы уехали с мамой. Нас переправляли по воде, и когда мы были метрах в пятидесяти от спасительного берега, тоже налетели вражеские самолёты. Я выбивался из-под маминой руки, стрелял в них из своего деревянного ружья и кричал: «Нате вам, нате!» А потом нас, наверно, подбили, потому что помню, что добирались вплавь или вброд. И какой-то мужчина, помню, нёс меня на плечах, а я кричал маме, что оставил на корабле своё ружье. И от этой обиды плакал.
После войны мы в Ленинград уже не вернулись.
Вот и всё пока, что я хочу рассказать. Зачем я вообще это делаю? Не знаю, может, мне просто хочется тебя предостеречь. Просто нужно быть всегда настороже и не выпускать из рук своего деревянного оружия. Понимаешь?
Агния:
– Вадим Георгиевич… Вы меня видели в отражении?
Потому что он улыбался, разворачиваясь от ларька, где до этого что-то рассматривал.
– Да, вы тут немножко отразились. Хотя это не помешало вам быть совершенно неотразимой, – потом помолчал, угадывая мое настроение, и решился: – Как поживает Воскресёнок?
– Воскресёнок? Надеюсь, вы не издеваетесь?
– Нисколько, милая Агния. Вот вы, например, будете долго смеяться, если я вам сейчас покажу Гоголя?
Он ждал какой-то реакции – хотя бы уж не ответа. А я, как дура, стояла и плавно пережёвывала его «милую Агнию». Очень уж мне это показалось горячим и вкусным. И ещё немножечко неуместным.
– Смотрите, здесь он. Всего одиннадцать рублей.
Там, на витрине ларька, среди прочих и прочих лежала конфетная трубочка с надписью на обложке: ГОГОЛЬ. И с подзаголовком: «поэма в сливочном вкусе».
Вот это да! Что же случилось с моим драгоценным учителем? Он вроде бы как улыбается и даже пытается пускать золотистые искорки из самых серединок зелёных глаз.
Будьте любезны! Вадим Георгиевич купил этого конфетного Гоголя и протянул его мне. Я сунула оранжевую трубочку прозапазуху, и взамен приготовилась выдать экспромт. (А в прошлый раз мне казалось, что я разговариваю даже не со стеной, а с абстрактным фактом переезда с одной квартиры на другую.) Где-то между Гомелем и Могилёвом Гог и Магог могут готовить гоголь-моголь.
Он усмехнулся:
– Это вы только что сочинили?
– Нет, это так. Просто я чувствую, как они иногда прорываются, просятся сюда.
– Кто они? – удивленно сморгнул Максимов.
– Нет, нет, ничего. Боюсь, что я не смогу хорошо объяснить, – и, казалось, захлопнула тему перед самым его носом. Но он ловко подставил ногу и наполовину протиснулся в дом:
– Значит, и Воскресёнок из их числа?
– Ладно. Может, быть, что из их. Воскресёнок, он маленький. Он просто приносит письма. И что самое приятное – про него нельзя сказать: добрый или злой. Я ещё не знаю, как к ним относиться, а вот вы… Главное, не шутите.
Максимов сказал: Агния.
Я расправила плечи и язык распустила.
– Знаете, вы не были в зоопарке? В этом передвижном, который недавно приехал? Вагончики такие цветные со зверушками на площади за автовокзалом зоопарковались. Мы на прошлой неделе пошли с моими подопечными детишками. Вы знаете, я ведь работаю няней в одной семье.
– Я знаю.
– Откуда, ну, ладно, не важно. Так вот, у каждого работника этого зоопарка висит на груди фамильно-должностной бейджик. Я обратила внимание: некоторые фамилии нормальные, человеческие, а другие… Ну вот, сейчас… Один там – Птичкин-Невеличкин, другой – Лисичкин-Сестричкин. Ещё – Зайкина-Забегайкина. А знаете, как зовут администратора или директора, что ли? Афанасий Лосев-Запредельский. Скажете, это нормально? Что вы смеётесь?
– Да, лось – действительно животное запредельное, – выхохотал Вадим Георгиевич.
– Нет, ну правда! Думаете, это развесёлые псевдонимы и только? И тогда он ещё раз назвал меня «милая Агния».
– Милая Агния, ваши рассказы пробуждают во мне жажду… едва ли не жизни. Давайте зайдём, и я водочки выпью.
– А самое странное, что детишки мои подопечные, Даня и Таня, после этого заболели… Нет, не ветрянкой, простыли. Не смейтесь.
– Я давно не смеюсь. Если бы вы только знали, как давно я уже не смеюсь!
В тот вечер мне пришлось провожать его до самого дома. Он утолял жажду жизни до тех пор, пока портфель не стал слишком тяжёлым и не упал из его руки на пол очередной забегаловки. Мне было смешно и странно помогать обессилевшему кумиру моего студенчества. Впрочем, он сам вряд ли уже замечал моё рядом с собою присутствие.
Лена:
Почему они выезжают на дорогу и не смотрят по сторонам – коляской вперёд и не смотрят. А смотрят только потом, когда уже сами на дорогу выйдут. Сто раз такое видела. А один раз даже видела, как мамаша одна вдоль дороги шла, тротуара там и правда не было, но ребёночка своего она вела за ручку не собой прикрывая, а с той стороны, где машины. Я бы таких больных мамаш собственными руками душила бы. А уж как ненавижу, когда они на детей орут на улицах и в магазинах. А уж как я себя ненавижу, когда на Танюшку или на Данечку кричу. И потом всю ночь спать не могу. Ненавижу.
5. Одноклассник
Вадим:
Захожу домой – слышу примерно следующее:
– Понимаешь, заметил, что мои одноклассники умирают один за другим. Совсем ещё нестарые люди: кто от болезни, кто спивается, кто в аварию попадает. Дальше – ещё интереснее: представь, стали умирать сокурсники, институтские товарищи, и преподы, хоть те, конечно, постарше, но тоже – заодно. Ни года не проходит без похорон. Не знаю уж, может, я старею и скоро моё время придёт, но кажется, всё неспроста.
Голос моего приятеля Игоря. Одноклассника, между прочим. Сидит и втирает кому-то из моих девиц всякую ахернею. Пока меня дома нет, уж я бы не дал ему такие разговорчики. Разувался, и тошнило. Нет, выпил я не так уж и много. Да и не то пил, чтобы плохо было. Тошнило от этих слов: